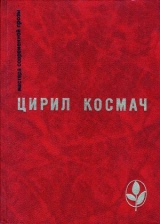
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
Трнар внезапно умолк и тут же заговорил снова, ожившим голосом:
– Принесла?
– Принесла, – зазвенел Кадеткин голосок.
– Ну, так дай ему!
Дверь со двора приоткрылась ровно настолько, чтобы Кадетка могла протиснуться в сени.
– Ой, как темно, – воскликнула она. – Я тебя совсем не вижу. Где ты?
– Тут, – отозвался я.
– Погоди, пусть у меня глаза привыкнут… Знаешь, я тебе черешен принесла. Сама набрала. В Трнаровом саду. Они еще не совсем зрелые, а уже вкусные. – Подойдя ко мне, она пыталась всунуть мне в руки лукошко.
– М-хм… – промычал я, но к черешням не притронулся.
– Ты не будешь их есть? – разочарованно протянула она.
– Потом…
– Ну, когда хочешь, только ешь, – удовлетворенно сказала она и опустила лукошко на пол. Постояла еще мгновение, перебросила русые косы на грудь и стала нерешительно водить босой ногой по полу. Видимо, она колебалась – то ли вернуться к Трнару, то ли остаться со мной. Потом решилась, медленно уселась на ступеньку и уперлась локтями в колени.
Мы молчали. Трнар за дверью продолжал размышлять:
– Красивая она была, что верно, то верно. Такая полная, что все на ней так и колыхалось. Прямо приросла к моему сердцу. Да только пустая. Все нет и нет…
– О ком это он говорит? – спросила Кадетка.
– О Тилчке, своей первой жене.
– А! – кивнула головой Кадетка и прислушалась.
– Ласковая, а серьезности никакой, – продолжал Трнар. – Точь-в-точь как ты, Лыска.
– Это он не о Тилчке, – догадалась Кадетка. – Это он с Такой-Сякой разговаривает о какой-то корове, которая была на нее похожа.
Я вслушался. Трнар теперь мысленно говорил со своей любимой коровой Лыской, которую все мы звали Такой-Сякой, потому что сосед ругал ее всегда словами: такая ты, сякая!
– Такая ты, сякая, Лыска моя! – укоряюще звучал голос Трнара. – Ласковая. Красивая. А молоко не даешь. И теленочка тоже… Вот смотри ужо! К мяснику пойдешь… Ну, ну, чего вытаращилась? Такая ты, сякая!.. Я-то уж тебя не продам. А коли помру, тебя сразу к мяснику сведут. Моя старуха не потерпит, чтобы ты жирела да хвостом махала. Вот увидишь. Продаст тебя, чтобы за мои похороны заплатить… М-хм… Та, что я купил в ту весну, отправилась к мяснику уже осенью. На похороны деньги понадобились: Тилчка померла… М-хм… померла… Ох, как тяжело было! И как она тяжело умирала… М-хм… Похоронил я ее… Когда стоял у могилы, думал, что и мне конец… А еще хуже стало, когда вернулся домой и увидел пустой смертный одр. Вот когда горе-то навалилось!.. М-хм… И правда!.. Сделаем! Прямо сейчас!
Последние слова были произнесены необычайно громко и твердо. Я слышал, как он поднялся на ноги… Потом входная дверь распахнулась так широко, что дневной свет залил все углы.
– Что такое? – испугался я и подскочил на сундуке. Сердце бешено колотилось. Меня снова охватила та непонятная тревога.
– Ничего, – сказал Трнар. – Просто я подумал, что мы уже достаточно насиделись. Сейчас возьмемся за дело. Уберем все из горницы. Когда они вернутся домой, мы уже белить стены будем.
Я перевел дух и встал. Сначала мы разобрали смертный одр. Вдвоем с Трнаром отнесли тюфяк к реке и положили его на берегу, чтобы он прожарился на белых, накаленных солнцем камнях. Длинный солдатский стол мы окатили водой; когда он подсох, мы убрали его в сарай. Потом мы разобрали мамину постель и тоже отнесли ее на берег. Кадетка замочила в ушате простыни. Когда мы вынесли мебель из горницы и спальни, сняли часы, картинки и фотографии со стен, а в довершение всего еще окна и двери, Трнар стал посреди пустой горницы и почесал в своей седой гриве.
– Так! – довольно сказал он. – Я сейчас схожу за известью для побелки, а ты с Кадеткой иди за песком. Сделаем малость жидкой штукатурки, если понадобится где-нибудь подшпаклевать.
Я вытянул из-под навеса железную тачку и покатил ее по проселку. Кадетка сбегала в сарай за лопатой и догнала меня. Мы шли молча. Утро было очень светлое и тихое, лишь колесо тачки пронзительно повизгивало. Я смотрел вокруг. Все оставалось таким, как прежде, только выглядело как-то мертво и скучно. Недоставало того, что придавало бы всему живому смысл, тепло и полноту. Мертвее всего казались наши поля. Устало поникли зеленые колосья. Молодая кукуруза, росшая длинными ровными рядами, стояла прямо и неподвижно; время от времени какой-нибудь стебель шевелил изогнутым саблевидным листом и, не найдя ответа у соседа, снова замирал. Цветущие кусты картофеля подвядали. Все оттенки зеленого потемнели. Птиц уже не было ни слышно, ни видно. Даже жуки куда-то попрятались. Две необычно крупные, прозрачные стрекозы лениво порхали над гладью реки. Идрийца текла тихо, как масло. По ту сторону реки устало лежал выкошенный Модриянов луг. Молодые яблони дремали, хмуро высились тополя; они доставали до неба и были почти черные. Небо очень синее и без единого облака. Старый широкоплечий Крн, который за долгие тысячелетия все видел и все пережил, мирно «курил свою трубку». Так говорят у нас, когда над ним, как это часто бывает летом, висит длинное синеватое облачко.
Мы с Кадеткой дошли до луга и повернули к реке. Когда проходили мимо кизилового куста, я вспомнил, как весело переговаривались тут молодая Брика, плотник Подземлич и дядя Томаж. Неужели правда, что всего две недели прошло с тех пор, как я косил здесь траву и зубрил, готовясь к экзаменам, а мама была еще жива?
– Нет! Где уже те времена! – вырвалось у меня.
– Что ты сказал? – встрепенулась Кадетка.
– Ничего, ничего… – тряхнул я головой и налег на тачку.
Полуденную тишину прорезал зловещий крик ястреба. Мы с Кадеткой остановились и стали смотреть в направлении скалистого Вранека. Приложив руку козырьком ко лбу, мы следили взглядом за большим ястребом, который парил в синем небе, описывая концентрические круги.
– Знаешь, я никогда не была на Вранеке, – сказала Кадетка. – А мне бы так хотелось.
– Так иди! – пожал я плечами.
– Одна? – обиженно и удивленно протянула она. – А нельзя мне с тобой пойти за ландышами?
– Так их же сейчас нет. В этом году мы уже опоздали.
– Ну, тогда просто пошли бы, – сказала она и поглядела на меня большими синими глазами.
– Хорошо. Завтра пойдем, – согласился я, потому что мне подумалось: я бы, наверно, избавился от своего внутреннего беспокойства, если бы ходил, ходил, ходил.
Мы подошли к берегу и остановились у старой ветлы. Я взял лопату и начал провеивать песок. Кадетке я велел сорвать у воды несколько листов черного лопуха, чтобы покрыть ими тачку. Она, подпрыгивая, убежала, но тотчас вернулась – без лопухов.
– Карабинеры! – выдохнула она. – Сюда идут!..
Я оглянулся. Три черные фигуры направлялись по луговине к берегу. Карабинеры уже наведывались ко мне, как наведывались ко всем гимназистам-словенцам, только сейчас я почувствовал, что это не обычный визит. Их было трое, и среди них я увидел бригадира. Бригадир был, в общем, довольно добрый и умный человек, мы иногда с ним вполне дружелюбно разговаривали – но служба есть служба.
– Добрый день, юноша! – сказал он, подойдя ко мне. И не улыбнулся. Он был очень серьезен, почти мрачен.
– Добрый день, – пробормотал я.
– Мы не нашли вас дома и дали себе труд дойти сюда.
– Я пришел сюда за песком, – сказал я. – Мы будем белить стены. Моя мама умерла.
– Знаю, – кивнул бригадир. Он снял с головы берет, вытер потный лоб, надел берет снова и сказал почти официальным голосом: – Итак, дорогой юноша, вам придется отложить лопату и отправиться с нами.
– Зачем? – едва выдавил я из пересохшего горла.
– Это вы уже сами хорошо знаете… А если не знаете, вам скажут! – громко произнес бригадир. – Спросите свою совесть, хоть вы и не были на Баньской поляне! – добавил он, понизив голос и метнув в меня взгляд, значения которого я не понял. Я не знал, то ли он всерьез упрекает меня, то ли дает понять, что о тайном собрании словенских гимназистов стало известно и меня будут допрашивать об этом.
– А зачем мне ходить на Баньскую поляну? – попробовал я разыграть невинное удивление, в чем, однако, не преуспел.
– Чтобы там готовить заговор против государства! – повысив голос, отрубил бригадир. И опять я не мог понять, для меня это было сказано или для пришедших с ним карабинеров, которые тем временем переминались с ноги на ногу и позевывали от скуки.
– Какой заговор? – снова попробовал я изобразить простодушное недоумение.
– Ну, ну, мы ведь знаем друг друга! – отмахнулся бригадир. Потом выпрямился, посмотрел на двух своих сонных сопровождающих и начал проповедь: – Этот кусок нашей земли, за освобождение которого пролили кровь шесть тысяч лучших сынов нашей родины, вы хотите отторгнуть от нее и присоединить к Югославии. Это государственная измена… Ну, вы, может быть, ее и не совершали, ибо вас спасла ваша мать. Своей смертью она, так сказать, уберегла вас от того, чтобы вы еще глубже не увязли в самом страшном преступлении, за которое расплачиваются головой. Теперь вы видите, что такое мать! И чтобы вы знали, как Италия уважает матерей и величие смерти, я открою вам, что должен был прийти за вами еще в воскресенье вечером, но в связи с кончиной матери пощадил от этого позора вас и вашу семью.
– Спасибо!.. – невольно вырвалось у меня.
Карабинеры не обратили никакого внимания на слова бригадира. Очевидно, они их не раз слышали.
– И запомните, – продолжал бригадир, – такое может случиться только в культурной Италии. В этой вашей обетованной земле по ту сторону гор[18]18
Имеется в виду Югославия.
[Закрыть] вас за подобное преступление вырвали бы из объятий умирающей матери и закололи ножом у нее на глазах.
Я молчал. Бригадир тоже умолк. Вероятно, он почувствовал, что хватил через край. Кровь прилила у него к голове. Он снял берет и в замешательстве начал торопливо вытирать вспотевший лоб.
– Жарища! – мрачно проворчал старший из карабинеров и вытащил из кожаной сумки наручники.
– И поздно уже! – таким же мрачным тоном добавил второй, давая этим понять, что пора бы и двигаться.
– Ну, пошли, – сказал бригадир.
Карабинеры быстро надели на меня наручники, и мы тронулись в путь.
Только дойдя до мельницы, я вспомнил о Кадетке. Я оглянулся. Она шла метрах в тридцати за нами. Обеими руками она держалась за косы, и мне померещилось, что она идет на цыпочках.
Когда мы дошли до поворота к нашему дому и я увидел на берегу мамину постель и матрац, я вдруг ощутил, до чего тяжело было бы маме, если бы она была жива и увидела меня сейчас в наручниках. Ведь она бы этого не вынесла. И тут же я подумал об отце, сестрах и братьях.
– А нельзя ли нам перейти реку вброд и пойти по шоссе? – обратился я к бригадиру.
– Это почему?
– Да так… Вы же знаете, отец сейчас уже дома и поэтому… – начал было я, запинаясь от смущения.
– Нет, нет! – оборвали меня карабинеры. – На этом берегу тени больше. И чего ради нам разуваться и переходить реку?
– Тогда пойдемте мимо дома побыстрее! – попросил я.
И мы в самом деле пошли быстрее. Когда мы были уже за хлевом, мне живо представилось, как все наши стоят перед домом и смотрят мне вслед. Я невольно обернулся.
На пороге, в черном проеме двери, стоял только сосед Трнар с большой белой кистью в руке. Я с облегчением перевел дух. Но только на мгновение. Сердце у меня снова защемило, потому что теперь мне было ясно, что я наверняка повстречаюсь с нашими, возвращающимися с похорон.
Мы встретились на Просеке. Увидев меня, все остановились как вкопанные; трое младших детей испуганно прижались к отцу.
– Ничего страшного не будет, – сказал я, когда карабинеры гнали меня мимо.
– Что случилось? – спросил отец. Не видно было, чтобы он был ошеломлен происходящим, хотя я никогда не рассказывал ему о своих тайных делах и наших собраниях. И все-таки я знал, что он догадывается о моих занятиях и одобряет меня.
– Спросите своего сына, – сказал бригадир, остановившись перед отцом. – Впрочем, наверное, и правда ничего страшного не случится, – добавил он благожелательно и с искренней надеждой в голосе.
– Будем надеяться, – отозвался отец.
Бригадир покосился на карабинеров и произнес очень громко, обращаясь к отцу:
– Все-таки благодарите бога, что его мать умерла. По крайней мере ее не коснулись столь великое горе и позор!
Отец потер ладонью нос, но отвечать не стал.
Карабинеры подтолкнули меня.
– До свидания! – сказал я беспечно, как только мог.
– Держись! – крикнул отец. – Ты молодой. Вся жизнь у тебя впереди.
Я обернулся еще раз, чтобы унести с собой все эти дорогие родные лица. И тут я опять увидел Кадетку. Она стояла в трех шагах от остальных. Обеими руками она держалась за косы и смотрела на меня с печалью и удивлением, с сочувствием и гордостью.
– Не смотри на меня так! – улыбнулся я ей.
Она вздрогнула, точно просыпаясь. Ей показалось, что она должна сказать что-нибудь, и она растерянно спросила:
– А когда мы теперь пойдем на Вранек?
– Не беспокойся, – ответил я. – Пойдем в будущем году.
– Ну, в будущем году… – машинально повторила она и задумчиво кивнула.
VIНа Вранек мы с Кадеткой пошли только через два года. Мне было девятнадцать, ей двенадцать лет. Это было в мае, и день был прекрасный. Когда мы спускались с Верхней поляны в Волчий овраг, где в самые жаркие дни стоит прохладный сумрак, Кадетка схватила меня за руку и странно просящим тоном сказала:
– Возьми меня за руку, а то я боюсь!
– Боишься упасть?
– Нет. Так просто… Боюсь! – задрожала она и прижалась ко мне. Рука ее была горячей, влажной и дрожала, или мне только показалось, что дрожала.
– Чего это тебя так трясет? – спросил я.
– Не знаю… Трясет… – ответила она и устремила на меня большие синие глаза.
– Ну, пошли!
Ландыши мы сначала собирали на Доминовой вырубке.
Кадетка перебегала от елки к елке и совершенно по-детски радовалась каждому цветку. Когда у нас обоих набралось по букету и я начал торопить ее домой, она захотела еще в Обрекарову дубраву.
– Сколько там ландышей! Сколько там ландышей! – твердила она.
– Откуда ты знаешь? – спросил я. – Ты же там ни разу не была.
– Знаю, – повела она плечами и потянула меня за рукав.
– Не глупи! – сказал я. – Разве ты не видишь, что уже смеркается?
– Да не смеркается. Это просто облака, – возразила она и сквозь кроны деревьев уставилась в небо.
Я был в затруднении. Во-первых, потому, что я тогда находился под надзором полиции и вечерами должен был сидеть дома, а во-вторых, потому, что в Обрекаровой дубраве была могила кадета. Это особенно смущало меня, ибо я не знал, известно ли это Кадетке. Но все мои отговорки были напрасны.
– Пойдем через Затесно! – сказала Кадетка и побежала вниз по крутой тропе.
Я спустился следом. Через минуту мы уже были в овраге.
Там она остановилась, плеснула себе в лицо пригоршню воды и сказала, задыхаясь:
– А теперь через Пресличев холм! И все прямиком, чтобы до темноты быть дома.
Она неслась, как серна. Прыгала от куста к кусту, кидалась в мягкий вереск, хваталась за плети костяники, ветки дрока, кизильника и прочую приземистую растительность и стремительно продвигалась вперед. Вскоре мы добрались до дубравы и до ямы на месте бывшей кадетовой могилы: под старым грабовым кустом песчаная прогалинка площадью с пару столов, а посреди нее – зеленое корытце метра в два длиною, полное цветущих ландышей. Кадетка тотчас стала передо мной, раскинув руки и преграждая мне дорогу.
– Эти рвать не надо! – тихо сказала она. – Тут была его могила.
– Откуда ты знаешь? Разве ты была здесь когда-нибудь?
– Нет, не была. Но знаю. – Она откинула волосы со лба и спокойно добавила, точно о самом обыденном. – Теперь он лежит дома. В Чехии. В бронзовом гробу. Ты же знаешь…
– Как? Ты помнишь бронзовый гроб? – оторопел я.
– Помню, – с серьезным видом кивнула она. – И его маму тоже… И невесту… И его самого!
– Как? – еще больше изумился я. – Ты же его никогда не видела! Даже на фотографии!
– Видеть не видела, – покачала она головой, – а знаю… Он был молодой… И красивый… Ты его знал?
– Только смутно припоминаю.
– Усы у него были?
– Точно не скажу. Мне тогда и семи лет не было. Кажется, были. Маленькие.
– А, усики?
– Усики.
– Усики… – задумчиво повторила она, оттопырила верхнюю губу и задвигала ноздрями. Потом выпрямилась, закинула косы за спину, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: – А я на него похожа?
– Э, об этом я не могу судить.
– Не можешь?.. А я похожа на него, потому что не похожа на маму. У мамы были серые глаза, а у меня синие. Еще у мамы были веснушки, немного, но были. Ты знаешь?
– Я толком не помню. Знаю только, что у нее были красивые волосы.
– Длинные-длинные… И почти красные. А у меня русые, – сказала она и крутанула головой так, что косы снова оказались на груди.
Мне вспомнились Юстинины волосы. Когда ее вытащили из воды и солдаты несли на носилках мимо нашего дома, длинные волосы свисали почти до земли. Сквозь них, как сквозь завесу из тончайших медных пружин, переливаясь, просвечивали лучи вечернего солнца. Эта картина осталась у меня в памяти, а с нею ощущение какой-то непостижимой красоты и безысходного отчаяния.
– Ну, пойдем! – сказал я.
– Да, пойдем, конечно! – отмахнулась она с чисто женской досадой. – Ну, почему никто не хочет разговаривать со мной?
– Я же разговариваю!
Она подошла ко мне, снова обернулась к могиле и спросила:
– Ты не знаешь, почему он застрелился, а?
– Кто знает…
– Из-за мамы… И из-за меня, – покивала она головой. Ее голос звучал по-детски, но было в нем и что-то недетское.
– Кто тебе это сказал?
– Тетя.
– Наша?
– Нет. Наша. Ивана.
– Да брось ты! Это просто выдумки! – и я решительно зашагал прочь от могилы.
– Правда, правда! – говорила Кадетка, поспешая за мною. – Она, как рассердится на меня, всегда кричит: «Не будь тебя, твой отец бы не застрелился, а мать не бросилась бы в реку!»
– Это в ней злость говорит! И раздражение! – успокоил я ее.
– Верно, верно. Она кричит, когда у нее табаку нет, чтобы нос набивать, – согласилась Кадетка. – Значит, по-твоему, это неправда, а?
– Конечно, неправда!.. А теперь пошли поскорей! Видишь, какие тучи ползут из-за Кошутника. Еще, чего доброго, под ливень угодим.
Кадетка остановилась, оглянулась на Кошутник, точно не доверяя моим словам, и только после этого побежала за мной.
Но чуть мы остановились отдышаться, она снова принялась за свое.
– Слушай, – подергала она меня за рукав. – А ты видел, как расстреливали твоих друзей, которых в Триесте приговорили к смерти?
– Нет, не видел! – довольно жестко ответил я и начал спускаться по Сухой осыпи.
Я остановился на Нижней поляне. Здесь я всегда останавливался, чтобы полюбоваться нашей долиной с высоты. Сейчас она лежала перед нами как на ладони, видимая до самой Башской гряды. Там подымалась к небу целая толпа гор самой различной величины и формы. Позади них, царя над всем, что его окружало, гордо высился широкоплечий, седовласый Крн, алеющий в свете заходящего солнца. Этот полный очарования вид быстро менялся, на глазах теряя четкие очертания, тая в синеватом сумраке вечера.
Кадетка стояла рядом со мной, шумно дыша. Ее широко раскрытые глаза следовали за моим взглядом, медленно переходившим от горы к горе. Потом она глубоко вздохнула и подергала меня за рукав.
– Слушай, а ты можешь себе представить, что тебя могло бы не быть?
Было самое неподходящее время для такого вопроса. Я так опешил, что не знал, как ответить.
– Какие ты только глупости не спрашиваешь! – с раздражением сказал я. – Прямо как ребенок.
Кадетка помолчала, а потом вздохнула с неожиданной обидой:
– И ты тоже не хочешь разговаривать со мной…
– Да я же разговариваю!
– Ну, да… – протянула она. – Разговариваешь по-детски.
– Но ты же все-таки ребенок. Или нет?
Она опустила голову и промолчала. Потом посмотрела мне в глаза и, оживившись, спросила:
– Скажи, а ты будешь разговаривать со мной, когда я вырасту?
– Почему же нет?
– Говорят, что ты умный и…
– Кто это говорит? – прервал я ее.
– Все. Даже Ивана. А мне бы хотелось разговаривать только с умными людьми.
– Это почему? – усмехнулся я.
– Не смейся, пожалуйста! – надулась Кадетка. – Наша Ивана говорит, что я глупая. Придурком меня называет. «Из глупости ты родилась, – говорит, – так что неудивительно, что ты придурок!»
– Ваша Ивана сама придурок! – сердито сказал я и начал спускаться по извилистой, крутой тропинке меж соснами.
– Подожди! – крикнула Кадетка.
– Что еще?
– Скажи, разве это хорошо?
– Что хорошо?
– То, что она меня так ругает? – сказала Кадетка и потупилась. Она обиженно надула губы и перекладывала ландыши из руки в руку.
– Конечно, нехорошо!.. А ты ее не слушай. Вот она и перестанет! – сказал я и припустил по крутому склону холма: дом был рядом.
– Подожди меня! – снова закричала Кадетка.
Я остановился только у куста самшита за хлевом. Кадетка так разбежалась, что я едва удержал ее обеими руками.
Разгоряченная, она вся полыхала румянцем. На носу и верхней губе светились мелкие капельки пота. Она перебросила косы на грудь и глубоко перевела дух.
– Я бы хотела еще кое-что спросить у тебя, – сказала она охрипшим, задыхающимся голосом.
– Ну, давай, давай, спрашивай! – досадливо махнул я рукой.
– Скажи, а ты правда убежишь за границу? – доверительно спросила она, глядя мне прямо в глаза.
– Кто тебе это сказал? – испуганно вскричал я.
– Наша Ивана. И вообще все так говорят. «И чего парень сидит дома? – говорят. – Из всех гимназий его исключили. А из тюрьмы хоть и выпустили, но, того и гляди, опять заберут. Бежал бы лучше!»
– Глупости! Вот глупости-то! – Я уже злился по-настоящему. – Неужели им было бы приятно, если бы меня опять арестовали?
– Так именно поэтому! – с жаром вскричала Кадетка. – Я бы убежала.
– Не болтай глупостей!
Кадетка помолчала, а потом заговорила снова:
– А если ты убежишь, когда мы увидимся? Когда ты вернешься?
– Не говори глупостей!.. – повторил я севшим голосом. Ее вопрос потряс меня. Потряс тем более, что мне было странно, как это я до сих пор ни о чем таком не подумал. «Когда? – спросил я себя мысленно. – Как знать, когда я вернусь?..» Я махнул рукой и произнес вслух: – Все проходит! Я вернусь!..
– И тогда мы будем разговаривать о том, что с тобой было?
– И тогда мы будем разговаривать о том, что со мной было, – отсутствующе повторял я ее слова и пошел к дому.








