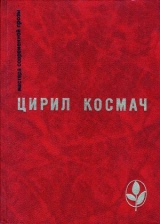
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Они пересекли площадь, обошли черную карусель и стали подниматься по склону к церкви. Проходя мимо дома жупника, они загляделись на освещенные окна, пылавшие таким жарким светом, будто за ними было заперто само золотое солнце.
– Тантадруй, почему она была ненастоящая? – горько вздохнул дурачок.
Никто ему не ответил. Молча вышли они в поле, где находилось все имевшее хоть какую-нибудь ценность: нивы и покосы, кладбище с часовней и дом Хотейца.
Здесь ветер превратился в настоящий ураган. И какой же он был лютый! Он пронизывал до костей. Несчастные остановились возле кладбищенской часовни, чтобы, прижавшись друг к другу, перевести дух, прежде чем отправиться через поле к Хотейцу.
Тантадруй не сводил глаз с кладбища, которое в этой ясной лунной ночи, несмотря на стужу, было красивым и манящим. Стройные кипарисы, словно огромные свечи, гнулись на ветру, а на вершинах их вместо язычков пламени горели звезды. У подножий кипарисов белела дорожка, и вдоль нее лежали белые камни с позолоченными надписями.
– Тантадруй, теперь у меня есть все колокольчики! – вздохнул дурачок.
Однако ответа не было, будто ветер унес слова, и он сказал чуть громче:
– Тантадруй, теперь я бы мог по-настоящему умереть!
Все продолжали молчать. Потом послышался приветливый голос Матица Ровной Дубинки, печально повторившего последние слова:
– По-настоящему умереть!..
– Тьфу! – пренебрежительно фыркнул фурланец. – Raus е patacis, репа и картошка!
– Тихо! – гаркнул на него Лука. – Почему бы не умереть, а? Почему бы не умереть?
Фурланец молчал, а раз он молчал, ответил Матиц:
– Почему бы не умереть?
– Почему? – еще больше рассердился Лука, у него было доброе сердце, и он жалел Тантадруя. – Этот жупник – дурак!
– Тантадруй, там было четыре жупника! – уточнил дурачок.
– Четыре? – удивился Лука. – Четыре жупника? Четырежды дураки!
– Тантадруй, – с обидой сообщил Тантадруй, – они сказали: погоди, пока пробьет твой час.
– Час? – подскочил Лука. – Какой час? Разве у тебя есть часы?
– Нету, тантадруй! – весело ответил дурачок. – У меня никогда не было часов.
– Вот видишь! Тогда я хотел бы знать, почему он говорит о часе!
– Тантадруй, не знаю! – едва слышно произнес дурачок, словно сам был в этом виноват.
– Надо спросить! – загудел Лука. – Завтра же ты пойдешь и спросишь!
– Пойду, тантадруй, – откликнулся дурачок. – А потом они сказали, что каждый должен терпеть, прежде чем лечь в могилу.
– Терпеть? – спросил Лука. – Разве ты не терпел?
– Не знаю, тантадруй.
– Гм? – почесался Лука. – Надо полагать, терпел.
– Тантадруй, надо полагать, терпел. – На душе у Тантадруя полегчало.
– Но почему нужно терпеть, если хочешь лечь в могилу? – опять взволновался Лука. – Почему нужно терпеть, если мы уже пришли!
– Тантадруй, уже пришли? – удивился дурачок.
– Могила вон там! – загремел Лука и победоносно показал на кладбище.
– Тантадруй, могила вон там! – радостно воскликнул дурачок.
– Могила вон там! – повторил Лука. – А если ее еще нет, мы ее выроем, и божорно-босерна!
– Тантадруй, мы ее выроем. – С этими словами Тантадруй вышел из своего укрытия.
– Ты куда? – спросил его Лука.
– Тантадруй, к могиле! – сияя от счастья, ответил Тантадруй.
– Нет! – возразил Лука. – Завтра. Сейчас мы идем к Хотейцу спать!
– Тантадруй, мы пойдем спать после, когда я умру! – умолял дурачок.
– Ну ладно! – уступил Лука. – После пойдем спать. Ведь это быстро!
– Тьфу! – фыркнул фурланец. – Raus е patacis…
– Тихо! – оборвал его Лука. – Сейчас мы идем к священному месту!
– Священному месту! – громко и с трепетом повторил Матиц Ровная Дубинка, напуганный зычным голосом Луки.
Они вышли из укрытия, отворили ржавые кладбищенские ворота, заскрипевшие в своих петлях, и молча вступили на широкую аллею кипарисов, шелестевших и кланявшихся под ветром. В самом конце ее они свернули влево – и вдруг оказались перед могилой, перед свежевырытой могилой.
– Тантадруй, могила! – вне себя от счастья воскликнул дурачок и замер.
– Могила! – загремел Лука и гордо добавил: – Разве я тебе не говорил?
– Тантадруй, могила! Я лягу и умру.
– Ляжешь и умрешь, и божорно-босерна! – гремел Лука.
– Тьфу! – фыркнул фурланец. – Raus е patacis…
– Ты сошел с ума! – зашипел на него Лука. – А теперь тишина.
– Теперь тишина! – испуганно повторил Матиц Ровная Дубинка.
И была тишина. А поскольку тишина длилась слишком долго, Лука повернулся к Тантадрую.
– Ну, что дальше?
– Тантадруй, – вздрогнул дурачок, словно пробуждаясь от прекрасных снов, – я жупника должен спросить, настоящая ли она.
– Настоящая? – оскорбленно загремел Лука.
– Тантадруй, ведь я должен сперва рассказать жупнику! – оправдываясь, всхлипнул дурачок.
– Тьфу! – презрительно фыркнул фурланец.
– Тихо! – решительно загремел Лука. – Если надо спросить…
– Надо спросить! – быстро повторил Матиц.
– Он и спросит! – решил Лука. – Прямо сейчас идем к жупнику, и божорно-босерна!
– Тантадруй, идем! – Дурачок радостно кружился на месте, и его колокольчики звенели.
Несчастные вышли с кладбища и стали спускаться вниз. На цыпочках приближались они к дому священника, на цыпочках подошли к окну, посмотрели в щели закрытых ставен – и, затаив дыхание, остолбенели, ибо вся комната была золотая. Золотой был Христос на стене, темного золота – книжный шкаф, золотом выведены надписи на корешках книг. На столе стоял золотой шестисвечник, в нем – светло-золотые восковые свечи, горевшие живым золотым пламенем. Темно-золотыми были жареные гуси на продолговатом блюде с золотистой каймою, бледным золотом светился изжаренный на масле пирог, а корочка его отливала червонным золотом. Золотые цветочки красовались на бутылке и на бокалах, и золотом солнца пылало вино, сверкавшее в них. Вокруг стола сидели священники, и их круглые лица сияли багряно-золотистым светом; они упирались затылками в стены и, зажмурив глаза и раскрыв рты так, что сверкали золотые зубы, громогласно выводили густо-золотыми баритонами.
– О-ооо… Оо-ооо…
– Тантадруй, они счастливы? – спросил дурачок.
– Тьфу! – Фурланец был исполнен презрения. – Raus е patacis… репа и картошка.
– Тихо! – загремел Лука. – Ты сошел с ума!
Священники мгновенно смолкли. Открыли глаза, медленно повернули головы и поглядели с таким удивлением и такой строгостью, что Тантадруй испугался. Он отскочил от окна – колокольчики зазвенели – и пустился бежать. За ним кинулись остальные. Они бежали сломя голову. И остановились только за церковной оградой. Спрятались за шелковицей и стали ждать.
Тяжелые двери дома открылись, и широкая полоса золотистого света легла на землю. Потом в этой полосе возникла огромная черная тень. Качнулась из стороны в сторону, словно подметая у порога, и строго крикнула:
– Тантарадра!
Тантадруй вздрогнул и сделал движение, собираясь выйти.
– Не глупи! – удержал его Лука.
– Тантарадра! – крикнула тень громче и строже.
– Тьфу! – презрительно фыркнул Русепатацис.
– Тихо! – загремел Лука. – Жупник сейчас сердитый!
– Сердитый! – испуганно согласился Матиц и прижался к Луке.
– Тантарадра! – еще раз, судя по голосу последний, позвала тень. – Если ты жив, отзовись и подойди сюда! Если нет, оставь нас в покое!
Тантадруй опять дернулся.
– Оставь в покое! – велел Лука и потянул его обратно.
Тень снова и очень сильно закачалась, потом постепенно исчезла. С нею исчез сноп золотого света, дверь с треском захлопнулась.
Убогие громко перевели дух и некоторое время молчали. Потом раздался отчаянный плач Тантадруя:
– Тантадруй, как я теперь, тантадруй, узнаю, настоящая ли она?
– Да настоящая же! – в сердцах загромыхал Лука. – Разве он не сказал оставить нас в покое?
– Тантадруй, верно, говорил, – с облегчением согласился дурачок.
– Тогда, значит, настоящая, – решил Лука. – И теперь мы вернемся и тебя закопаем!..
– Тантадруй, закопайте меня, и я умру! – удовлетворенно ответил дурачок и зашагал обратно.
– Умрешь! – гордо зашумел Лука. – Умрешь, и божорно-босерна!
– Пажорносерна! – ликуя, негромко повторил Матиц Ровная Дубинка.
Они пошли обратно к кладбищу. Ветер обжигал сильнее, и черные кипарисы теперь склонялись почти до самой земли. А на сердце у Тантадруя было необыкновенно тепло. Ему вспомнились три светло-сизых голубя, которые утром копошились перед церковью и потом, став серебряными, взмыли в небо. Тысячи и тысячи точно таких же голубей красивой дугой опускались сейчас с неба. Непрерывной серебряной лентой они пролетали низко над черными кипарисами, трепетавшими в дуновении их крыльев. Теплыми, пушистыми тельцами они почти касались головы Тантадруя и потом снова, описав красивую дугу, взмывали в небо. Он так отчетливо видел их над своей головой, что смотреть вверх у него вообще не было надобности.
– Тантадруй, сколько их! – радостно воскликнул он, и на нем зазвенели коровьи ботала.
– Не сходи с ума! – укорил Лука. – Ведь мы в священном месте.
Тантадруй взглянул вверх. Голубей больше не было. Он подумал, что теперь они уже летят над его родным селом, и вспомнил о хромоножке Елчице.
– Тантадруй, – повернулся он к Луке, – ты скажешь Елчице, что я умер?
– Конечно, скажу, когда буду проходить мимо, – кивнул тот. – А там сейчас что-нибудь строят?
– Нет, ничего.
– Ну, когда начнут строить и я буду проходить мимо, скажу, – спокойно ответил Лука.
– Тантадруй, ты увидишь, как она обрадуется. Она бы тоже хотела умереть…
– Ладно! – сурово изрек Лука, уже испытывая нетерпение. – Вот могила.
– Вот она, тантадруй! – радостно кивал дурачок. – А что теперь?
– Теперь спускайся в нее! – сказал Лука.
– Тантадруй, а мы ничего не споем?
– Беднякам никогда не поют! – пренебрежительно возразил Лука.
– Не поют! – пробормотал Матиц Ровная Дубинка.
– Тантадруй, хоть бы немножко спели!
– Тьфу! – фыркнул фурланец. – Raus е patacis, репа и картошка!
– Тихо! – загремел Лука. – Можно было бы попеть, но уж больно холодно!
– Тантадруй, Елчица говорит, что пенье согревает! – пытался вдохновить его дурачок.
– Елчица – девчонка! – отрезал Лука.
– Тантадруй, все говорят, она умная! – укоризненно возразил дурачок.
– Ну, раз тебе так хочется, споем, – уступил Лука.
– Тантадруй, потом, когда я умру? – Радость звучала в сердце Тантадруя.
– Потом, когда ты умрешь, – подтвердил Лука. – А теперь поторапливайся. Сам видишь, поздно. Хотеец рассердится. Ты только в могилу спустись!
– Тантадруй, я иду! – послушно произнес дурачок, сел на край могилы и быстро спрыгнул в нее.
Нагнувшись над ямой, Лука нетерпеливо спросил:
– Ну как? Что там?
– Тантадруй, как здесь тепло! – прозвучал из тьмы полный счастья голос.
– Тепло? – удивился Лука. – И нет ветра?
– Тантадруй, совсем нет.
– Погоди, я погляжу! – сказал Лука. Он спустился в яму, присел и удовлетворенно произнес: – И правда, никакого ветра. Разве я не говорил, – гордо загремел он, – что строить надо книзу, чуть по земле, а потом прямо в землю?
– Прямо в землю! – восторженно вторил Матиц Ровная Дубинка.
– Тантадруй, а теперь уходи, я лягу, – нетерпеливо попросил Луку дурачок. Он опустился на колени и собрался было лечь, но не нашел на что положить голову.
– Матиц, найди камень! – приказал Лука. – Хороший камень!
– Хороший камень! – повиновался Матиц.
Лука укрепил камень в изголовье и вылез из могилы. Спустя несколько мгновений спросил:
– Лег?
– Тантадруй, лег.
– Ну, тогда начнем! – приказал Лука, взял горсть мерзлой земли и бросил в могилу. Русепатацис и Матиц сделали то же самое. Вдруг снизу послышался встревоженный голос:
– Тантадруй, а звонить-то позабыли!
– Верно! – согласился Лука. Обернувшись к Матицу, он распорядился: – Матиц, на колокольню! Во все три, и божорно-босерна!
– Пажорносерна! – послушно кивнул Матиц Ровная Дубинка, повернулся на месте, подбежал к часовне, схватил своими могучими руками веревку и грянул во все три колокола.
VI
Посреди ночи загудели колокола. Непривычные гулкие удары, словно каменные глыбы, катились сверху и падали на площадь. В трактире все смолкло, замерли руки со стаканами на полпути к губам, изумленно раскрылись глаза, в ужасе внимали уши.
– Судный день! – возопил Преподобный Усач.
– Дурак! – крикнул Округличар и по своему обыкновению загнал его под стол. – Пожар!
– Пожар! – авторитетно подтвердил стражмейстер Доминик Тестен и так стремительно вскочил с места, что, не удержавшись на ногах, снова сел.
– Пожар! Пожар! Пожар! – неслось со всех сторон. Люди кинулись из трактира и растерянно заметались по площади в поисках красного петуха. А не обнаружив его, разом побежали к приходской церкви. Впереди храбро выступал стражмейстер, поскольку охрана покоя и порядка входила в его обязанности. Этот свой долг он помнил так хорошо, что в великой спешке позабыл в трактире каску и саблю, но зато теперь, сверкая лысиной, размахивал руками и громко кричал:
– С дороги! Именем закона, с дороги!
Засветились все окна. Из домов выскакивали полураздетые люди, что-то кричали, о чем-то спрашивали. Ответа, разумеется, они не получали и тогда присоединялись к вопящей толпе, катившейся к церкви. А там уже стояли священники в шляпах и длинных пелеринах, словно четыре огромных черных памятника, вокруг них в страхе вертелся пономарь и кричал:
– На кладбище звонят! На кладбище звонят!
– Судный день! Мертвые встают! – в ужасе сипел Преподобный Усач.
– Дурак! – загудел Округличар. – Если ты не успокоишься, я тебя так стукну, что ты и в Судный день не поднимешься!
– Именем закона, мир и тишина! – приказал стражмейстер. – Женщины назад, мужчины вперед! И – марш на кладбище!
Приказ этот был столь решительным и столь мужественным, что на площади остались не только женщины, но и немало мужчин, им подобных. А храбрецы рванулись вперед. С криком неслись они вверх по холму и скоро оказались у часовни.
– Где горит? Что горит?
Увидев Матица, самозабвенно орудовавшего веревками, все встали как вкопанные, а потом кинулись к нему.
– Матиц, где горит?
– Где горит? – испуганно переспросил Матиц Ровная Дубинка.
Хватая ртом воздух, наконец добрался до часовни и стражмейстер, дернул Матица за плечо, рванул на себя и грозно вопросил:
– Именем закона, где горит?
От страха Матиц выпустил веревки и показал на кладбище.
Теперь уж наступила очередь стражмейстера изумиться и онеметь. Да и все ошеломленно взирали на черные кипарисы, в которых шумел ветер. Там не было ни малейшего огонька.
– А горит? – выдержав паузу, заинтересовался стражмейстер.
– Не видно.
– Не видно, – согласился стражмейстер и, повернувшись к Матицу, строго спросил: – Почему звонил?
– Звонил, – трясся Матиц, указывая на кладбище.
– Эй, а где другие юродивые? – осенило Округличара. – Где Лука? Где Русепатацис? И где Тантадруй?
– Тантадруй, – повторил Матиц и опять показал на кладбище.
– И что они там делают? – спросил стражмейстер.
– Там делают, – перепугано повторил Матиц.
В недоумении люди вновь устремили взгляды на черные грозные кипарисы, но с места никто не двинулся. И только стражмейстер наконец показал, что такое долг и что такое истинное мужество. Поставив перед собой Матица, он повернул его лицом к кладбищу и крикнул:
– Именем закона, вперед!
– Закона, вперед! – повторил Матиц и устремился к кипарисам. Люди молча следовали за ним. Когда они приблизились к кипарисам, угрожающе шумевшим и склонявшимся к ним, словно души бичуемых грешников, послышался звон колокольчиков и странное трио. Ангельский голосок и два баса, один – густой и гулкий, другой – надтреснутый и срывающийся, вдохновенно пели песенку Тантадруя:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз…
Люди замерли. А Матиц спокойно шагал дальше по белой песчаной аллее.
– Стой! – прохрипел стражмейстер.
Матиц остановился и повернулся.
– Именем закона, говори, почему поют? – потребовал стражмейстер.
– Поют. – Матиц, дрожа, указывал вперед.
Стражмейстер опять захрипел, а за ним захрипела вся длинная цепочка мужчин. Потом он вытер вспотевшую плешь, выпрямился и гробовым голосом возвестил:
– Люди, мой долг идти вперед, а вы – как знаете!
Одобрительное бормотание было ему ответом. Стражмейстер приосанился и последовал за Матицем. Люди тоже тихонько двинулись; они шли на цыпочках, медленно и осторожно, как бы приближаясь к опасному зверю. Когда они подошли совсем близко, песня уже кончалась. И только густой бас, в упоении, видимо, позабывший, что песне конец, оглушительно гудел:
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
Матиц свернул влево и оказался рядом с Лукой и Русепатацисом, которые, стоя на коленях, проворно кидали в могилу мерзлую землю.
– Божорно-босерна! – загремел Лука, отдавая всем честь.
Потрясенный, стражмейстер едва смог выдавить из себя:
– Именем закона, что вы здесь делаете?
И не успели они ответить, как из земли послышался веселый голосок:
– Тантадруй, теперь я умер!
– Что? Что? – Стражмейстер пошатнулся, да так неловко, что непременно упал бы в могилу, если б его не подхватили крепкие руки Округличара.
– Что? Что? – неслось сзади.
– Дурачка живьем закопали!
– О ужас! – зашелся Преподобный Усач. – Хватайте их! Держите их!
– Тихо! – загремел Лука. – Мы здесь в священном месте.
– Верно, – согласился стражмейстер, уже пришедший в себя. – И пусть никто не вмешивается в мои дела! Именем закона, держите их! – Он ткнул в сторону Луки, Русепатациса и Матица. Потом повернулся к могиле и приказал Тантадрую. – Именем закона, вставай!
– Тантадруй, я теперь умер! – донесся из ямы упрямый ответ.
– Именем закона, вставай! – Стражмейстер повысил голос.
– Тантадруй, я дошел до могилы и умер! – настаивал дурачок, даже не пытаясь встать.
Непослушание привело стражмейстера в ярость, и он завопил, позабыв обо всем на свете:
– Именем закона, вон из ямы!
– Кто это ревет на ниве вечного отдохновения? – раздался позади всех громкий голос.
Люди расступились, и четыре священника в длинных пелеринах, словно четыре великана, прошли вперед. Стражмейстер выпрямился, насколько это было в его силах, и козырнул:
– Имею честь доложить, дураки дурака закопали!
– Но он еще жив! – быстро добавил Округличар.
– Жив, – подтвердил стражмейстер, – но из ямы вылезать не желает!
Священник подошел к могиле и строго спросил:
– Тантарадра, это что такое?
– Тантадруй, я дошел до могилы и умер! – последовал ответ. – Теперь она настоящая?
– Ооо… – хором протянули чужие священники, качая головами.
– Нет, не настоящая! – ответил свой священник. – Если ты ляжешь в могилу, то не умрешь, а будешь только засыпан землею!
– Тантадруй, только засыпан! – застонал дурачок.
– Да, засыпан! А теперь вставай!
Тантадруй зарыдал во весь голос, но тем не менее встал на ноги, и люди выволокли его из могилы.
Священник вздохнул, вытер пот со лба, плотнее запахнул пелерину и повелительно сказал:
– Теперь вернемся к церкви!
Все пошли вниз. Священники, словно судьи, стояли плечом к плечу, и местный священник велел привести четверых блаженных.
– То, что вы сделали сегодня ночью, – строго начал он, – большой, очень большой грех!
– Это преступление, и они будут отвечать по закону! – вмешался стражмейстер.
– Тьфу! – презрительно фыркнул фурланец. – Raus е patacis, репа и картошка!
– Что? – рассвирепел стражмейстер и ринулся на него.
– Ты сошел с ума! – крикнул ему Лука.
– Доминик, не глупи! – остановил его священник.
Стражмейстер отступил, а священник, подняв руку, пригрозил:
– Чтоб вы у меня никогда больше не ходили на кладбище! Поняли?
– Поняли, и божорно-босерна! – загремел Лука.
– Пажорносерна! – испуганно повторил Матиц Ровная Дубинка.
– Вот так! – кивнул священник. – А сейчас расходитесь. Каждый в свою сторону…
– Господин жупник! – выступил вперед Хотеец. – Разрешите им сегодня побыть у меня, пусть обогреются и переночуют!
– Ты говоришь разумно, Хотеец, – согласился священник. – Но ты слишком поздно вмешался. Я уже сказал то, что сказал!
– Но вы можете изменить решение!
– Я никогда не меняю своего слова! – строго возразил священник. – Я сказал то, что сказал. Сейчас они разойдутся, и каждый пойдет в свою сторону. Ты, Лука, вверх по Соче!
– Книзу! – решительно возразил Лука. – Книзу, и божорно-босерна!
– Ладно, книзу! – уступил священник. – Ты пойдешь кверху, – повернулся он к фурланцу.
– Тьфу! – фыркнул Русепатацис. – Raus е patacis, репа и картошка!
– Ты, Матиц, пойдешь по Баче домой!
– По Баче домой, – послушно забормотал Матиц Ровная Дубинка.
– А ты, – повернулся он к Тантадрую, – по Идрийце и тоже домой!
– Тантадруй, домой! – со слезами в голосе откликнулся дурачок.
– И хорошенько запомни, – торжественно произнес священник, – ты вообще не умрешь!
– Тантадруй, вообще не умру?! – Дрожь прошла по телу дурачка, и все его колокольчики зазвенели.
– Нет! – решительно повторил священник. – Если ты еще захочешь умереть, то не умрешь вообще!
– Тантадруй, я не захочу больше умирать. – Дурачок зарыдал и, умоляюще сложив руки, бросился к нему. – Я не захочу больше умирать!
– В самом деле? – спросил священник.
– Тантадруй, не захочу, не захочу! – кивал головой дурачок и вдруг с надеждой в голосе спросил: – А после я умру?
– Ну, после – посмотрим! – милостиво отвечал священник. – Теперь расходитесь, и мир да пребудет с вами! И вы тоже ступайте, – обратился он к прихожанам, – и возблагодарите господа, что все удачно завершилось!
Потом он кивнул своим собратьям, и они торжественно проследовали к его дому.
Четверо несчастных направились каждый в свою сторону, женщины разошлись по домам, мужчины спустились на площадь. И опять многолюдно стало в трактире, и опять загомонили люди, потому что неожиданное происшествие оказалось хорошим поводом для того, чтобы новые склянки с вином появились на столах.
Священники возвратились в комнату, полную золотого света и золотого тепла. И когда кухарка внесла сосуд с золотым искрящимся вином, пахнущим корицей и гвоздикой, они вновь улыбнулись. Наполнили стаканы, отогрели пальцы, уста и желудки. Каждый отломил и отведал по куску темно-золотого пирога с бледно-золотой начинкой. Потом они опять уперлись затылками в стену, закрыли глаза, раскрыли рты и запели звучными густо-золотыми баритонами:
– Оо-ооо… Оо-ооо…
И пока священники пели в золотой комнате, а в дымных трактирах пили и веселились хозяева и батраки, купцы и ремесленники, парни и девушки, перекупщики и маклеры, молодые и старые, по пустынным долинам шли четверо. Стылая земля звенела у них под ногами, и стылая луна светила им сверху, потому что зимнее небо было ясным, а утро было еще неблизко…
Вот и конец истории о Тантадруе. Вступление, вероятно, было излишне, совершенно лишним оказался бы и эпилог. Я отлично понимаю, что сейчас вообще не нужны никакие слова, и, однако, смятенная душа не позволяет мне умолчать еще кое о чем.
Прежде всего история эта вовсе не такая светлая, какой ее рассказывала моя мать. И виной тому, разумеется, я сам. Тогда я был ребенком и внимал этому рассказу с радостью и без скуки, поэтому лишь изредка он отдавал полынью; теперь же, когда спустя сорок лет он ожил во мне вновь, выяснилось, что моя душа наполнила его горечью.
И что хуже всего – с того самого момента, как я заметил, что четверо убогих вышли из трактира и замерли, увидев пустынную площадь, скелет карусели и низкую окровавленную луну, которая, подобно последнему, уже разбитому фонарю, висела над опустевшей ярмаркой, меня стало преследовать тяжкое видение. Я прогонял и отталкивал его от себя, тряс головой и зажмуривался, чтобы не стало еще горше и чтоб вообще не прекратился мой рассказ. Но когда ему пришел конец, я перестал сопротивляться. Я уступил.
И что же я увидел?
Я увидел самого себя сидящим на вершине мира, на каменной стене возле сосновой рощи над Пираном. Не было больше ночи, но не было и дня. Лунный свет был бледен и призрачен, все в нем казалось сделанным изо льда. Дрожь охватила меня, и я замер недвижимо, ибо воистину все кругом было ледяное. Ледяными были дома, ледяным – море, ледяными – кипарисы и белые камни, ледяными были деревья, а листва была настолько ледяной, будто она превратилась в лед тысячу с лишним лет назад. И я видел не только знакомую мне местность, я видел весь земной шар, и он целиком был оледеневшим и мертвым. Ледяными пустынями были и те четыре мои долины, куда ушли когда-то четверо милых мне несчастных людей. Все было мертво. Да и ветер давно умер, вовсе умер, умер до последнего дуновения. На мертвом небе покойно лежало только одно облако, длинное и узкое, будто ледяная сосулька. И я знал, что это не облако, но последний протяжный стон человека, превратившегося в лед. Низко под ним висела луна. Она висела за острым шпилем ледяной верхушки старого собора, разрубленная на две части. Такою она светила теперь над землей, этой опустевшей ярмаркой человечества. Я был один, хотя, собственно, меня тоже больше не было. Блуждал лишь мой испуганный взгляд, также оледеневший за тысячу с лишним лет до этого. И…
Довольно! Невыносимая стужа пронзила меня. Я вскочил, и вдруг в этот самый момент небо ожило и вниз покатилась звезда. Я ликовал, будто на землю вернулась жизнь. Но лишь на мгновение. Тут же мелькнула мысль, что это не просто блуждающее во Вселенной небесное тело. И поскольку я еще такой младенец, что при падении звезды загадываю желание, напуганная и старомодная душа моя громко прошептала:
– Пусть в самом деле это будет упавшей звездой!..
Медленно уходил я из сосновой рощи, по-солдатски приветствовал старого искалеченного воина и спустился на дорогу. Оттуда я посмотрел на кладбище. Надпись над входом сверкнула серебром, словно желая ободряюще мне улыбнуться.
– Resurrecturis! – благодарно кивнул я ей головой.
– Resurrecturis! – сверкнуло серебро мне в ответ.
Я помахал рукой и повернул к дому. И вновь я был полон плодоносной грусти и обильной плодами печали. Я шагал по дороге и раскачивался из стороны в сторону, потому что был всем: сыном своей матери и одноухим горемыкой пиратом с черной нашлепкой на глазу, старым орлом и осиротевшей каруселью, разрубленной надвое луной и кладбищенским кипарисом, эхом своего собственного голоса и протяжным оледеневшим стоном, звеневшим в мертвенной тишине; я был Лукою и Русепатацисом, Ровной Дубинкой и Тантадруем. Было нелегко, но я нес это бремя с неосознанной радостью, потому что был также и стаей светло-сизых голубей, которые непрерывной серебряной лентой летели сквозь мою душу. Все шумело вокруг меня и надо мною, и откровенно признаюсь, хотя это могло бы навредить солидной, серьезной литературе, что иногда я подпрыгивал, как Тантадруй. Да почему бы и не подпрыгнуть? Ведь это его песенку я тихонько напевал:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз…
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…








