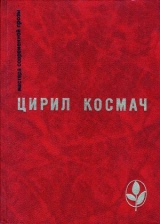
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
Часть третья
IКогда я проснулся, был сияющий день.
Отважное солнце перебороло темноту и воцарилось над землей. Оно вторглось и в мой чулан. С неодолимою силой пробилось через окно четырехугольным снопом своих молодых лучей – ослепительно яркой дорожкой, над которой плавали пылинки, перерезал этот свет мою комнату. А дорожка так пламенела, что очертания заржавевшей оконной решетки таяли в ней. В глубине комнаты солнечный свет отражался от чего-то сверкающего, точно там собрались солнечные воины и пускали свои стрелы, целясь в тени, скрывавшиеся по углам. Стреляли они и в меня, метясь прямо в мои заспанные глаза, даже я приподнял голову и посмотрел на дверь.
– A-а, это дед сверкает… – пробормотал я, увидев, что солнечные лучи дробятся в разбитом стекле на старинном образе святого Андрея, покровителя моего деда. Я опустил голову на подушку и усмехнулся, подумав, как сердито накричал бы на меня дед за мое лежание, если бы в самом деле стоял там, где теперь висит только старый образ его патрона. И он был бы прав! Я проспал зарю. Пропустил рождение майского дня на родине, – дня, о котором мечтал с щемящей радостью. Ну, ничего. Ступлю прямо в наш ядреный, звонкий, серебряный весенний день…
И все же я не сразу встал с постели, словно боялся, как бы мой край, который теперь был совсем рядом, за окошком, живой и реальный, – как бы этот край оказался не таким, каким я носил его в памяти по белу свету. Так уж заведено: человек, смолоду уходящий из дому, уносит в своей душе только то, что ему дорого. А то, что дорого, то и прекрасно, и с годами становится еще прекраснее, как написанная маслом картина, которую время в своем движении шлифует, смягчает и заполняет шероховатости своим мелким светло-серым прахом. Поэтому образы, которые мы носим в себе, благородны и прекрасны; нигде не найдешь уродливой черты или бородавки. Все пейзажи чудесны: дома белы, крыши красны, окна блестят. В одних горит утреннее, в других – вечернее солнце, но сияют все и всегда, ибо на картинах время не меняется. По колеям никогда не течет навозная жижа, нигде нет ни надоедливых мух, ни назойливого овода. Все хорошо. Поэтому я не вскочил тотчас с постели, а зажмурился, чтобы еще раз мысленно увидеть свою долину, прежде чем она наяву предстанет перед моими глазами.
Сейчас солнце уже на добрую сажень поднялось над Холмами. Значит, долина разделена вдоль на две половины. Солнечный, пологий и плодородный склон еще в росистой тени, дремотно и смутно просвечивает сквозь тонкое сито солнечных лучей. Наш крутой и скудный теневой склон пока купается в свете, полный жизни. Солнце уже выпило всю росу. Вереск обсох, и обсохли те желтые, пушистые весенние цветы, названия которых я не знаю. Они уже подрагивают под теплой ладонью солнца. Под ее надежной защитой они беззаботно раскрываются и своим ароматом зовут в гости похожих на них желтых, пушистых, толстых шмелей, которые с глухим бренчанием носятся в поисках нектара, а заодно, сами того не ведая, помогают цветам в их любви. Это происходит на всех лужайках, вдоль всех дорог, на Мальновом холме, на обеих Полянах, в Обрекаровой дубраве. Ракитник в светло-зеленом буковом лесу украсился желтыми цветами, листья осин уже совсем развернулись и вот-вот заколеблются в своем постоянном трепете, в Волчьем ущелье кукует кукушка – и над всем этим распростерлось синее море чистейшего неба. А в небе, смотри-ка, уже кружат орел и орлица. Они покинули свое безопасное, укрытое от чужого взгляда прибежище в скалах Вранека и отправились в свой утренний разбойничий поход, небесные пираты.
Дверь скрипнула. Сначала просунулась костлявая тетина рука, держащая обитую по краю, хорошо мне знакомую голубую кружку, а затем появилось ее озабоченное, робкое лицо. Эх, и странное же везение сопутствует некоторым людям: всегда они появляются в тот момент, когда мы меньше всего этого хотим.
– Глоточек кофе тебе принесла… – проговорила тетя. – Настоящего… Для каждого берегу по несколько зерен…
– Ммм… – недовольно пробурчал я.
Тетя приблизилась ко мне и сказала словно бы с упреком:
– Не забыл еще, как отец тебя будил каждое утро глотком настоящего кофе? Горячего…
– А как же, помню, помню… – поспешно заверил ее я.
Мне стало жаль тетю. Она стояла посреди комнаты в полосе солнечного света, охватывавшего ее узенькую талию, отчего она казалась еще более тщедушной, почти прозрачной. Я взял у нее кружку и подумал, что эта война все в ней перевернула до основания. Пятьдесят лет она прожила своей «мирной, благочестивой» жизнью. Перебирала четки, чуралась смеха – преддверия греха – и смиренно «ходила за Христом». Над нею бдело божественное око, строгое и холодное, потому и сама она была строгой и холодной, ледяной. Война ее пробудила. И теперь она, изумленно и растерянно моргая, смотрит на мир. Позади у нее длинная, пустая дорога – почти весь путь ее жизни. Она прошла по ней с завязанными глазами. Ничего не видела, ничего не переживала, только прошла по ней.
Я отхлебнул глоток кофе и стал оглядывать чулан.
Тетя тотчас заметила это и оживилась.
– Видишь, тут все, как было, – сказала она почти весело, разведя в стороны свои худые руки. – Мы ничего не переставляли. Даже твоя латынь висит над тобой.
Я поднял глаза и увидел, что потолок по-прежнему оклеен толстой белой бумагой, на которой я двадцать лет назад написал все формы латинских глаголов, чтобы они всегда были перед глазами.
– И правда, – усмехнулся я. – Amo, amas, amat…[35]35
Люблю, любишь, любит… (лат.).
[Закрыть] Удивительно, – покачал я головой. – Удивительно…
– Что же тут удивительного? – сказала тетя. – Кто мог подумать, что ты так долго не вернешься домой!..
– Я не об этом. – дружелюбно пояснил я. – Просто мне пришло в голову, что в латинском языке глагол «любить» считается примером самого легкого и самого правильного глагола. А в жизни у этого глагола больше всего неправильных, трудных форм. Как мало на свете людей, которые умеют его правильно спрягать!..
– В этом я ничего не понимаю, – сухо заметила тетя. Потом подсунула жиденькие седые прядки под платок и сказала: – Я хотела тебя спросить, ты правда собираешься на Вранек?
– Правда… А почему это тебя интересует?
– И в Обрекарову дубраву пойдешь? На кадетову могилу?
– Разумеется.
– За ландышами?
– Если они будут…
– Не будет их!..
– Что?! – изумился я. – А почему?
– Я тебе все расскажу. Все с самого начала. Ты ведь скоро встанешь?
– Конечно.
Тетя ушла, а я все не вставал. И странно, я совсем не думал о том, почему не будет ландышей на могиле кадета. Вместо этого я стал вспоминать, как его увезли в бронзовом гробу.
Это было ранней весной, погожим утром. Мы с отцом чинили крышу. Я притащил вязанку соломы, расстелил ее по подстрехе, уселся верхом на коньке крыши и поглядел вокруг. На Просеке я увидел горячих Модрияновых вороных, запряженных в коляску.
– Кто-то к нам едет! – воскликнул я и скатился с лестницы.
Тем временем коляска проехала по саду и остановилась под грушей, заняв все пространство между домом и хлевом. Все произошло так быстро, будто экипаж и лошади с неба свалились. Батрак Цене, бранясь и покрикивая, уже выпрягал лошадей, а из коляски вылезали гигант Подземлич и грубиян Мартин-могильщик.
Мама выбежала на порог, бог знает почему держа перед собой фартук обеими руками, будто ждала, что в него что-то упадет.
– Эй, Нанца, не бойся! – крикнул Подземлич. – Мы за кадетом приехали.
– За ка-де-том?.. – ничего не понимая, протянула мама, опустила фартук и поглядела в сторону Обрекаровой дубравы.
– За его косточками… Если от них еще что осталось, – сурово прохрипел Мартин и потянул из коляски попону, под которой оказался большой бронзовый гроб с позолоченными украшениями.
Мы подошли ближе и молча уставились на него.
– М-да… – первым подал голос Мартин. – Баба думала, что чешские господа не гниют – с этаким гробом явилась.
– Какая баба? – со страхом и удивлением спросила мама.
– Мать его. За нами идет, – пояснил Подземлич.
– Пешком. Слишком важная, чтобы на лошадях по проселку ездить, – буркнул могильщик и презрительно сплюнул.
– Иисусе, к нам идет! – воскликнула мама и побежала в дом.
Отец пустился в разговор с Подземличем. Мы, дети, ждали, когда из сада покажется мать кадета, которую мы знали по портрету в медальоне. Вскоре она появилась, и не одна – в сопровождении лавочника Модрияна, бригадира и стройной светловолосой девушки.
– И невеста тоже идет, и невеста! – бросились мы с сестрой к маме, которая в свежем платье и чистом фартуке стояла на пороге.
– И невеста? – всплеснула она руками. – Ой, где у нас медальон?
– В ящике швейной машины, – сказала сестра.
– Сбегайте за ним!
Но никто не тронулся с места. Мы во все глаза смотрели на даму в черном, приближавшуюся тяжелой, усталой походкой. Мама поспешила вытереть руки о фартук, чтобы поздороваться с ней, хотя это было совершенно излишне, так как мать кадета и перчаток не сняла. Она указала на скамью перед домом. Мама быстро вытерла скамью, и мать кадета села, тяжело дыша.
Я собрался было сбегать за медальоном, отец же кликнул меня и послал за молодым Войнацем, чтобы тот пришел помочь раскапывать могилу. Я полетел во все лопатки. Когда я объяснил Жефу Войнацу суть дела, разом поднялись все Войнаиевы бабы. Жеф страшно разозлился.
– Никуда вы не пойдете! – заорал он. – Не бабское это дело!
Я был польщен тем, что причислен к мужчинам, и горделиво зашагал следом за Войнацем.
На нашем дворе мужчины подошли к гробу и общими усилиями сняли крышку. Показался еще один гроб, меньше и светлее первого.
– Он серебряный? – поразился я.
– Нет, парень. Из цинка он, – сказал Подземлич и словно в доказательство побарабанил по нему твердым, как камень, согнутым пальцем.
– Хоть и из цинка, а тяжелый, черт!.. – раздраженно выругался могильщик Мартин. – Кто его потащит-то?
– Да уж не ты! – отрубил Подземлич. – Ты мой инструмент понесешь.
Мартин поднял с земли жестяной короб, в котором у плотника были припасены угли, бутылочка с соляной кислотой, которую у нас называют чертовым маслом, молоток, клещи и палочка цинка для запаивания гроба. Подземлич же отыскал веревку, обвязал ею гроб и взвалил его на спину на манер заплечника.
– Время идет!.. – крикнул он Модрияну и показал длинной рукой на склон холма.
Все встали и выстроились за блестящим гробом. Встали также кадетова мать и невеста. Модриян с неимоверным усердием втолковывал им что-то по-немецки, а они только вздыхали, упрямо качали головами и, по всей видимости, не соглашались с доводами лавочника.
– В чем дело-то? – спросила мама.
– Да вот в дубраву собрались! – простонал Модриян, разведя руками.
– В дубраву?.. В этаких-то туфельках?.. Им и до Поляны-то не дойти… Спроси их, может, обуют мои башмаки?
Модриян снова затарахтел на своем непонятном немецком диалекте.
– Nein! Nein! Nein! – устало, но решительно отказалась кадетова мать и пошла по тропинке вверх по склону. Далеко она не ушла. Уже на склоне над домом силы покинули ее. Вместе с Модрияном она вернулась к дому, остановилась возле груши и стала смотреть вслед поблескивающему гробу на спине Подземлича, медленно отдалявшемуся по зеленому крутому склону.
Когда гроб исчез на Поляне, мать кадета вытерла глаза и направилась было к дому; внезапно она остановилась и судорожно глотнула воздух. Потом взмахнула руками, вскрикнула и упала в объятия Модрияна.
– Нанца! На помощь! – закричал перепуганный торговец. – На помощь! Удар!..
Мама подбежала со стаканом воды.
Придя в себя, кадетова мать посмотрела на наш дом, снова вскрикнула и снова у пала.
Теперь и мама оглянулась в недоумении.
В черном проеме двери стояла четырехлетняя Кадетка, которая только что проснулась. Она была в одной рубашонке. Склонив кудрявую головку к левому плечу, она с удивлением и любопытством разглядывала подбористых вороных и даму в трауре.
– Иисусе! – схватилась за голову мама. – Ведь это она ребенка увидела! Видать, она не знает, что от ее сына ребенок остался…
Мама подхватила Кадетку на руки и отнесла в кухню.
Тем временем, услышав крики Модрияна, вернулась и кадетова невеста. Мать кадета начала говорить ей что-то по-чешски, торопясь и задыхаясь.
Она вытирала слезы и порывалась к дому. Модриян ввел ее в горницу. Обе женщины сели за стол, а Модриян, размахивая толстыми руками, стал объяснять что-то. Женщины слушали, вздыхали, делали большие глаза и стонали. Когда Модриян махнул рукой в сторону Идрийцы, обе, не дыша, замерли с вытаращенными глазами, а потом закрыли лицо руками. Мама умыла и причесала Кадетку. Она принесла девочку в горницу, и кадетова невеста, как и его мать, вскрикнула и закрылась руками.
– Нет, ничего-то они не знали, ничегошеньки, – сказал Модриян. – Я им все сказал, все. И что Юстина бросилась в реку… и вообще.
В это мгновение открылась дверь, и в горницу ввалились Войначихи с вереницей детей. Дебелая жена Жефа встала перед матерью кадета и, указывая на Кадетку, громогласно объявила:
– Я ее тетка!
– Ой, Ивана, Иванчица! – принялся утихомиривать ее Модриян. – Не кричи так. Ведь должна же ты понимать, что госпожа не понимает нашего языка, не понимает.
– Что?! – выкатила глаза Войначиха. – Не понимает?! Ну, так объясни ей. Все объясни! Скажи ей всю правду, сколько наша Юстина вытерпела из-за ее сына… И из-за этого невинного ребеночка, – тут она указала на Кадетку. – Наверно, она возьмет ее с собой, бедняжку?
– Что ты говоришь! – оборвала ее мама и прижала Кадетку к себе. – Неужто ты бы вот так отослала ребенка на чужбину?..
– Так она же к своим поедет! – вскричала Войначиха.
– Но-но, Ивана, Иванчица, – снова вступил в роль миротворца Модриян. – Если бы госпожа и захотела, она все равно не может взять ребенка с собой, потому что не имеет разрешения.
– А? – снова вытаращилась Войначиха. – Тогда спроси ее, думает ли она хлопотать о разрешении.
Кадетка расплакалась, и мама унесла ее из комнаты. Я остался послушать, как Модриян переводит кадетовой матери вопрос Войначихи. И когда та, переглянувшись с невестой, кивнула головой, я выскочил из комнаты, чтобы сообщить маме эту тревожную весть.
– Поживем – увидим, – сказала мама и передала мне плачущую Кадетку. Я унес ее к самшитовому кусту, чтоб утешить.
После полудня из Обрекаровой дубравы принесли останки кадета. Цинковый гроб вложили в бронзовый и накрыли крышкой. Батрак Цене впряг лошадей и не терпящим возражений тоном заявил, что не будет давать кругаля по проселку, а перевезет всех прямо через реку. Кадетова мать и Модриян несколько поупрямились, но в конце концов положились на волю божью и вскарабкались в коляску. Подземлич и Мартин уселись на гроб. Цене хлестнул лошадей, колеса заскрипели по песку, и кони вошли в воду. Это было так интересно, что я немедленно прицепился сзади и таким образом переехал через Идрийцу. На другом берегу, высоком и обрывистом, Подземлич, Мартин и Жеф соскочили на землю.
– Ха, это что такое? – воскликнул Жеф, хватаясь за пару сапог, торчавших из откоса.
– Иисусе! – завопил он, содрогнувшись; из сапог высовывались кости.
– Ну-ну, чего испугался-то? – хладнокровно пробасил могильщик Мартин. – Это, надо быть, ноги того чеха, которого расстреляли в семнадцатом году. Как раз в тот день, когда кадет пустил себе пулю в лоб.
Сапоги выскользнули из рук Жефа и упали в воду. Плотник кинулся за ними и выудил из реки.
– Это же человек, скотина ты!.. – заворчал он на Жефа и сунул сапоги с костями обратно в откос.
У меня мороз пробежал по спине. Я представил себе молодого военного с развевающимися светлыми волосами, который пять лет назад копал себе тут могилу. Не разуваясь, я кинулся в реку и почти бегом перебрался на наш берег. Только оказавшись на дороге перед домом, я перевел дыхание. Обернувшись, я снял башмак и, выливая из него воду, смотрел на удаляющуюся коляску, на горячих вороных коней, на бронзовый гроб, госпожу в трауре и светловолосую невесту… Все это, как в страшном сне, уплывало по зеленому Модриянову лугу.
IIВ моей памяти так живо воскресла эта картина с красавцами вороными, блестящей коляской, бронзовым гробом, дамой в трауре и светловолосой невестой, что я инстинктивно выглянул в окно и посмотрел на Модриянов луг. В тот же миг разум насмешливо заметил: вот, мол, дурень, четверть века прошло с тех пор, как гроб двинулся в путь, а ты сейчас ищешь его взглядом. Я согласился с трезвым разумом, что чувство порой оказывается чересчур безрассудным и восторженным сверх меры. Но несмотря на это, я, дабы не допустить полного и безраздельного господства рассудка, все же упрямо смотрел на луг. Он был устлан прекрасным зеленым ковром густой майской травы, только – увы! увы! – оказался несравненно уже и короче, в десять раз меньше того, каким был в мои детские годы. Да заслуживает ли этот участок ровной земли величиною с простыню названия луга? Люди с равнины его вообще бы в расчет не приняли. Для нас же, людей с холмов, особенно для тех, кто никогда не высовывал носа за пределы нашей гористой страны, Модриянов луг – неоглядная равнина. Даже для меня, хоть я и поездил по свету и видал луга куда шире. И наверное, моя ностальгия именно при виде тех, настоящих, лугов раздвинула границы Модриянова луга, удесятерила число его тополей и добавила им высоты, обрамила его светло-серыми вербами… Короче говоря, я хорошо помню, как в тяжелые, горькие часы ностальгия развертывала перед моим взором картину дивной зеленой равнины, на которой под легким ветерком колыхалась густая трава. И если ностальгия преувеличивала, разумеется, с благой целью, чтобы подкрепить мое тело и ободрить дух, – то зачем теперь трезвому рассудку с его хладнокровным расчетом уничтожать эту прекрасную картину и сводить луг к его реальным размерам и сухопарной географической незначительности? Ностальгия – это видение родины, мечтательное, неотразимо прекрасное и манящее. На чужбине это видение неотлучно сопровождало и волновало меня; многое оно пробудило во мне, возможно, жажду творчества. Поэтому к моему писательскому внутреннему миру, который в конечном счете представляет собою мир видений, порожденных миром реальности, принадлежит и Модриянов луг – и будет жить в нем как один из самых прекрасных лугов, даже если какой-нибудь пламенный борец за реализм в пылу слишком добросовестного изучения моего края и послал бы туда не только географа, но и землемера. Да! Мне кажется, что мы, малые народы, любим свою родину больше или по крайней мере по-иному, чем большие. Она мала… и так как мы не можем воспеть ее ширь, мы воспеваем и возвеличиваем ее уголки, полные красоты. Красота подобна истине: истина не требует толстых книг для своего изложения, а красоте, для того чтобы размахнуться и расцвести, не требуется беспредельных просторов. Пусть необозримая ширь гудит и поет свою могучую песню – истинная красота теплится тихим светом. Свою родину мы знаем, как знаем лицо матери: все ее морщины, морщинки и черточки. Лучики веселья и счастья, борозды горечи и скорби, родные для нас. Мы непрестанно ощущаем объятие ее по-крестьянски шершавых, ласковых, добрых и теплых рук, приникаем к ней и обороняем ее уже тысячу лет, обороняем чаще всего голыми руками, но с успехом, потому что первый залог победы – это беззаветная влюбленность, которая не рассуждает и потому не отступает перед более сильным противником. Да, прежде всего необходима любовь, которая в любую минуту готова встать на защиту, – только потом вступают в свои права трезвая мысль и оружие.
Бог знает, куда бы меня еще унесло, если бы мою задумчивость не нарушили чье-то пение и крики. Я перевел взгляд на шоссе. По нему двигалась довольно большая группа людей. Я пригляделся и вскоре по походке определил, что шли наши, деревенские. Впереди раскачивалась знакомая великанья фигура.
«Вряд ли Подземлич жив, – подумал я. – Ведь он был старым уже тогда, когда сколачивал гроб нашему деду».
Люди быстро приближались. Они пели, улюлюкали, размахивали шляпами. «Кому это они, черт возьми, машут? – недоумевал я. – Эх, скорей всего приветствуют, в своем счастливом настроении, наш дом… как-никак дом заменяет семью, когда она в отсутствии».
Я оторвался от окна и вышел из комнаты. Тетя стояла перед домом, приложив руку козырьком ко лбу, чтобы заслониться от лучей низкого утреннего солнца.
– Куда это они идут? – спросил я.
– К Доминову обрыву.
– Зачем?
– Будут ремонтировать дорогу, которую партизаны взорвали.
– Собственными силами?
– Собственными! – подтвердила тетя не без гордости. – Это Подземлич надумал. И никому покою не давал, хотя самому уже за восемьдесят.
– Ну-ну! – прервал я ее не без насмешки. – Ты-то могла бы с точностью до часа подсчитать его возраст.
– Одиннадцатого октября ему будет восемьдесят пять, если уж тебе так хочется подразнить меня «календарем»! – отчеканила тетка, слегка рассердившись, и тотчас продолжала. – Видишь, до чего ему не терпится! Впрочем, он всегда был лихой мужик. И во время войны тоже. Один бог знает, как его голова на плечах удержалась. А сейчас? За последним нахлестанным немцем еще пыль не осела, а уж вся деревня его слушала. «Чего нам ждать? – кричит, а руками, как цепами, молотит. – Теперь все наше, и шоссе наше, и мы должны за ним смотреть, как смотрим испокон веку за нашими проселками да тропами». И когда этот кисляй Завоглар, который во время войны был ни рыба ни мясо, а до работы, сам знаешь, и смолоду был не охотник, – когда он начал скрипеть, что, мол, шоссе государственное, Подземлич его сразу обрезал: «Теперь у нас нет государства, а есть родина!» Завоглар тут же пристал, как клещ: «А какая разница?» Подземлич – ты же знаешь, какой он, – прижал толстый палец к своему носишке и начал его крутить, точно без этого у него ум не работает, а другую руку уткнул в Завоглара да еще пронзил его острым взглядом – погоди, мол, сыворотка кислая, сейчас получится ответ. И в самом деле получился: Подземлич выпрямился, сплюнул, ткнул в Завоглара пальцем и загремел, как покойный священник Чар с церковной кафедры: «Родина дает, государство берет!»
– Ого! – воскликнул я, потрясенный как живостью тетиного повествования, так и афористической мудростью Подземлича.
– Что, слишком сильно сказал? – тетя смотрела на меня во все глаза, с интересом и некоторой тревогой.
– Хм, – усмехнулся я. – Да не без того, а главное – уж слишком он торопит события.
– То есть как торопит? – спросила она в чрезвычайном удивлении.
– Государство еще необходимо.
– А?! – широко раскрыла она рот и ухватилась за нижнюю челюсть, словно опасаясь, как бы она не отвалилась от такого удивления, потом раздумчиво спросила: – Если я тебя правильно поняла, то сейчас еще есть государство, а когда-нибудь его не будет?..
– Примерно так.
– Ага!.. И когда это произойдет?
– Когда?.. Об этом я не очень-то думал… Когда родина каждого человека будет свободна и ей не будет угрожать опасность… когда установится справедливый строй. Тогда надобность в государстве, очевидно, отпадет.
– А!.. Это значит – когда повсюду победят люди?
– Да, примерно так.
– Так?.. – и она снова ухватилась за челюсть. Потом встрепенулась, точно ее осенило, и воскликнула: – Тогда Подземлич был по-своему прав! Знаешь, Завоглар все стоял на своем и твердил, что Югославия – государство. А Подземлич ему: «Пока у нас был король, было государство. Как бы король мог существовать без государства? А теперь Югославией правят люди, а у людей может быть только родина».
– О людях он это здорово сказал! – заметил я. – А все остальное обстоит не так уж просто.
– Да, конечно, не просто… – тихо и смущенно сказала тетя и стала подбирать прядку волос под платок. – Потому-то люди и раздумывают. Только прежде чем кто из нас до чего-нибудь додумается… – Она махнула рукой и тотчас продолжала. – Все-таки надо бы людям объяснить, особенно теперь, когда все болтают, кому что в голову взбредет. О господи, сколько же сейчас умных людей развелось! Все всё знают, все всё ведают!.. Особенно что касается государства и отечества. Я думаю, копаюсь в своей памяти, и что же? Оказывается, ни одной песни о государстве не знаю, а о родине – хоть отбавляй…
– Верно… но и это не так просто…
– Ах, опять ты свое «не просто»! – недовольно прервала меня тетя. – И уж конечно, то, что не просто, – не для нас, старых баб… А ведь и у старой бабы разум есть… Да и что меня касается… открыто тебе скажу, как услышу слово «родина», у меня тепло на сердце, а услышу «государство» – и… ну, как бы это сказать… хорошо, что оно у нас есть, теперь мы сами у себя хозяева, и другие нам не будут указывать, ни итальянцы, ни немцы, никто!..
Я кивнул, но тетя, видимо, не заметила этого. Она решительно затянула уголки платка под подбородком и посмотрела на шумную кучку людей за рекой, которая подходила к Модриянову лугу.
– Ну, конечно! – воскликнула она, всплеснув руками. – И наш тут как тут!
– Кто? – встрепенулся я и воззрился на дорогу.
– Да дядя Томаж. Ни одной гулянки не пропустит.
– Это тот, с винтовкой? – вытянул я руку. – Тот, что рядом с Жужелчем идет?
– Он самый!
– Эй! Дядя-а-а! – крикнул я и стал махать. Я обрадовался ему, как радовался в детстве. Да и кто бы не был рад такому добряку и острослову!
Дядя остановился, всплеснул руками, сбежал с дороги и устремился к берегу, путаясь в высокой траве.
– Неужто и он в народной защите состоит? – спросил я тетю.
– Еще бы. Это как раз для него дело.
– Наоборот, не для него, – возразил я. – Кто может остаться серьезным в его компании? Ведь с ним живот надорвешь! Разве что с годами поунялся?
– Чтоб он да унялся! – фыркнула тетка. – Вот увидишь, как он, дурак старый, полезет в воду.
И в самом деле, подойдя к берегу, дядя уселся на песок – разуваться.
– Не ходи! Вода как лед! – закричала тетка.
– Ты давай огоньку приготовь, чтоб я этот лед отогрел! – лихо ответил он и жестом показал, что не прочь пропустить рюмочку.
– Дядя, погоди! – закричал я и стал разуваться.
– Тихо! – загремел он в ответ и поднял в воздух винтовку. – А впрочем, разувайся. Посреди лужи встретимся.
– Ух, нету такого умного слова, чтобы этот дурак послушался! – воскликнула тетя и полетела в дом за бутылкой.
Дядя закинул сапоги за плечо, выломал себе в ивовом кусту палку, издал молодецкий клич и вошел в воду. Он брел медленно, ноги уже не служили ему, как раньше. Ноги у него и правда были донельзя тонкие и бледные. Он подходил, а я смотрел на его лицо и все более и более убеждался, как сильно он постарел. Метрах в трех от берега он отбросил палку, прижал винтовку к боку и по всей форме отрапортовал:
– Melde gehorsamst[36]36
Осмелюсь доложить (нем.).
[Закрыть], Тушар Томаж… А, черт! – отмахнулся он и сплюнул. – Как же я отрапортую, если у немцев не было народной обороны…
– Давай, давай, болтун старый! Шевелись! – в нетерпении заверещала тетя, уже наливавшая стаканчик.
– Святая правда, – подтвердил дядя. – Болтун. И старый тоже. Видишь, – обратился он ко мне, – состарился, а не поумнел. Ни на волосок!
– Не болтай! Иди сюда! – топнула ногой тетя.
Дядя вышел на берег, подмигнул мне и таким обыденным жестом встряхнул мою руку, точно мы виделись в последний раз не далее как вчера.
– Вот полюбуйся, – сказал он, осушив стаканчик и отдав его тете, – на шесть лет моложе меня, я ей нос вытирал и еще кое-что, а она с тех пор, как ходить начала, все меня уму-разуму учит. А я отбиваюсь. «Не хватит с тебя того, что я старый? – говорю. – А если бы я еще и умный был, то и старше был бы вдвое». Говорят ведь, только старики умные.
– Обувайся, трепло! – крикнула тетка и толкнула его на песок.
– Если бы все сделались умные, – безжалостно продолжал дядя, неторопливо обтирая ступни об пук травы, – придурков бы не стало. Откуда бы тогда умные знали, что они и вправду умные? Стояли бы себе важно, как памятники на кладбище. А так мы хоть можем друг над другом посмеяться: умные над дураками, дураки над умными. Анца смеется надо мной, а я над нею.
– Вовсе я над тобой не смеюсь! – огрызнулась тетка. – Просто жалко мне тебя, чтоб ты знал.
– Сострадание – прекраснейшая добродетель. Даже в катехизисе где-то упоминается.
– Оставь в покое катехизис! – подскочила тетка как ужаленная.
– Да почиет в мире, аминь! – басом протянул дядя и, обернувшись ко мне, добавил. – А знаешь, что сказал вахмистр Доминик Тестен? Он сказал: «Все мы дураки, только каждый на свой лад». И, клянусь верой, как только он этакое изрек, я сразу засомневался, такой ли уж он дурак.
– Да, кстати, что с ним, с Тестеном? – спросил я.
– На тот свет его переместили. Ха, смерть и старого веселого жандарма заберет. Вот, наверно, чудно-то ему было, что и его кто-то забрать может. Впрочем, он долго упирался. Когда пришла пора умирать, предпочел рехнуться.
– Томаж! – возмутилась тетка. – Не насмехайся над смертью!
– Да не насмехаюсь я над смертью. Вообще не хочу никакого касательства иметь к этой нечисти, – нахмурился дядя. – Я о Тестене говорю. Понимаешь, – обратился он ко мне, – он взял да и спятил немного, чтоб она от него отвязалась, Ведь говорят же – оставь дурака в покое.
– Самое умное оставить тебя в покое! – фыркнула тетя и пошла прочь.
– Вот так мы с ней переругиваемся, а время-то и проходит, – подмигнул мне дядя, когда тетя скрылась за углом дома. – А что касается Тестена, так он в самом деле малость повредился в уме, когда фашисты его избили в Толмине. Голова у него стала как-то не так работать, и его свезли в шенпетрский сумасшедший дом. Я, когда бывал в Горице, каждый раз заходил к нему. Ему там совсем неплохо жилось! Гулял по саду да еще трех слуг имел, таких же ненормальных, которые ему прислуживали. А сумасшествие его заключалось в том, что он все время пел: «Винцо мое, винцо мое…» – хотя целую жизнь пил только водку. А по вечерам ломился в другие палаты и кричал: «Polizeistunde! Heraus!..»[37]37
Полицейский час! Выходи! (нем.).
[Закрыть]
Я слушал дядю, радуясь ему, как в детстве, когда он еще дергал меня за нос. Меня смешил его рассказ, а еще больше – уморительная мимика. Удивительное дело, лицо у него было своеобразное, даже характерное, худое и костистое, но ему ничего не стоило изобразить самых разных людей: толстых и тощих, усатых и безбородых – целую галерею наших односельчан.
– Ну, а теперь вперед! – сказал он, обувшись и взяв свою длиннющую берданку. – Пошли за теткой, авось выжмем из нее еще по глоточку.
Мы вошли в кухню и уселись за стол. Дядя, не теряя времени, взялся за бутылку.
– Ты будешь? – подвинул он бутылку ко мне. – Впрочем, чего спрашиваю. Ты же мужчина. Может, и за работой кой-когда хлебнешь, а?.. О некоторых людях говорят, что, мол, хлебнет три капли, а потом поет – как цветочки сажает. Пером цветочки сажать – наверно, дьявольская работа, а? Ну, не знаю, как уж у вас это устроено, знаю только, что цветочки еще надо поливать.








