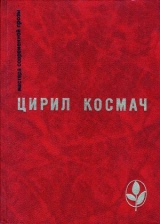
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
– Боже, царю небесный! – заломил руки Локовчен. – Он же их еле носит!
– Он не чувствует тяжести! – серьезно возразил Хотеец.
– Вы думаете, не чувствует? – с сомнением поднял на него глаза Локовчен, будто подозревая, что у того самого не все дома.
– Думаю! – стоял на своем старик, точно это было самое простое и очевидное для всех дело на белом свете.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка! – раздался презрительный голос фурланца.
Люди опять рассмеялись. Хотеец вздрогнул, сердито посмотрел на Русепатациса, словно позабыв, что перед ним больной человек. Потом поглядел на людей, которые, стихнув, ожидали, что последует дальше. Видно, он собирался ответить покрепче, но справился с собой. Снова повернувшись к несчастным, он ласково сказал:
– Не смейте бродить, когда стемнеет! Все приходите ко мне спать! Поняли?
– Поняли! Спать, и божорно-босерна! – загремел Лука, салютуя.
– Тантадруй, если она будет настоящая, я сперва умру! – упирался дурачок.
– Ладно, ладно! – уступил Хотеец. – Тогда ты позже придешь спать.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка! – фыркнул фурланец.
Хотеец невольно повернулся так резко, что Матиц Ровная Дубинка испуганно отскочил в сторону и почти в лицо ему крикнул:
– И картошка…
И снова смеялись люди. Однако на сей раз их смех внезапно перекрыл звонкий, необыкновенно красивый голос:
– Эй, глупцы, чего вы ржете? Ведь сами вы с ума сойдете!
И прежде чем они успели оглянуться и осмотреться, всем стало ясно, что это красавец Найденыш Перегрин. Люди расступились, и он предстал перед ними во всей своей красоте. У него были черные, как вороново крыло, волосы, большие синие глаза, белая кожа и почти девичьи черты лица, почему он и считался образцом красоты. Если кого-нибудь находили по-настоящему красивым, говорили, что он почти так же прекрасен, как Найденыш Перегрин, а это была высокая оценка. Толковали, будто он был сыном красавца цыгана и местной красотки, которая тайком носила и родила его, а потом оставила в придорожной канаве. Окрестили его Перегрином, потому что обнаружили в день этого святого, и назвали Найденышем, что соответствовало истине. Хотеец взял его к себе, не имея своих детей, но сумел сделать из него только пастуха, потому что чем старше становился Перегрин, тем сильнее говорила в нем беспокойная кровь. В раннем детстве он много плакал, хотя для этого не было никаких особых причин, а когда превратился в парня, затаил слезы в душе, украсил лицо улыбкой и отправился странствовать по белу свету. Хотеец не мог понять этого и потому не мог простить. Красавцу не было равного во всей округе. Он играл на гармонии, на скрипке, на кларнете, цитре и трубе, вообще владел любым музыкальным инструментом, который попадал ему в руки, пел, причем так хорошо, что у женщин мурашки пробегали по коже. Был он бродягой и большим шутником. Шутки его не были злыми, однако иногда они доставляли людям немало хлопот. Одной из самых излюбленных его забав был обмен. Шел он, например, в полночь по селу и из чистого озорства в первом же попавшемся доме мимоходом снимал с окна горшок с гвоздикой, уносил на другой конец села, там ставил кому-нибудь на подоконник, брал здесь в свою очередь горшок с геранью, уносил в третий дом, обменивал герань на иной цветок, который отправлял еще дальше. Так неслышно бродил он всю ночь и столь основательно перепутывал цветы, что потом девушки и бабы целую неделю ходили с горшками по селу, хохотали, ворчали и бранились. И все знали, что это проделки Найденыша Перегрина. Иногда по ночам он обменивал у крестьян скот, телеги, инструмент, копны сена на лугах и даже перетаскивал снопы пшеницы и гречихи с одного козольца на другой. Когда крестьяне потом попрекали его за такие забавы, он лишь посмеивался и отвечал, что, мол, ничего худого не вышло, ведь все осталось в деревне. Вообще же сердце у него было доброе. И хотя он ни у кого не тронул волоска на голове, его побаивались: опасались его зорких глаз и острого языка; жил он точно полевой цветок или птица небесная, поэтому мог всякому сказать в глаза, что о нем думает. Говорил он так складно, точно каждого одаривал талером, предпочитая использовать рифмы, которыми сыпал как из рукава.
И вот встал он посреди обиженных людей, сдвинул с прекрасного лба на затылок зеленую шляпу, насмешливо оглядел всех, указал пальцем на четырех несчастных и громко сказал:
– Благо им, настолько разумным, что все для вас умное – для них безумно!
Люди молча расходились. Исчез и Хотеец, избегавший встреч со своим приемным сыном. А Тантадруй подскочил к юноше и умильно попросил:
– Тантадруй, спой. Перегрин, спой!
Перегрин положил ему на плечо руку и приветливо спросил:
– Ну, теперь у тебя настоящая?
– Настоящая, тантадруй! – радостно подтвердил дурачок.
– И ты умрешь?
– Тантадруй, умру!
– Если так, я спою! – ласково улыбнулся Перегрин. Он снял с плеча гитару, провел пальцами по струнам и запел:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
Тантадруй сиял от счастья, да и остальным было хорошо, потому что пел Найденыш в самом деле прекрасно, даже Русепатацис растрогался и ни разу не фыркнул. Словно бы всех озарил необычный, ясный и согревающий, свет. Перегрин смолк, и Тантадруй попросил его спеть еще.
– Пока оставим, в другой раз добавим! – шутливо улыбнулся парень и исчез в толпе.
Тантадруй кинулся было следом, но тут же вернулся, так как продавец колокольчиков Локовчен принялся вовсю названивать, привлекая покупателей.
– Давай, народ, налетай! – кричал он. – А вот колокольцы! Лучшие звоночки! Прекрасные голосочки!
Тантадруй приступил к делу. Возился он долго, но в тот самый миг, когда он наконец выбрал, Русепатацис выхватил колокольчики у него из рук, бросил в кучу к остальным и презрительно заявил, что это репа и картошка. Лука взял колокольцы, сунул их Тантадрую и повелительно загремел:
– Возьми вот эти, и божорно-босерна!
Локовчен сразу смекнул, что чем меньше он будет вмешиваться, тем скорее освободится от нежеланных покупателей. Так и случилось. Лука привязал три колокольчика ремешками к веревке, на которой уже болталось тридцать семь штук. Увидев, что дело сделано, дурачок радостно подскочил на месте.
– Тантадруй, теперь я пошел к жупнику!
– Божорно-босерна! – отдал ему честь Лука и закричал вдогонку. – Если кверху, то не будет настоящая. Книзу, немного по земле, а потом прямо в землю. Запомни это, и божорно-босерна!
– Тьфу! – презрительно фыркнул фурланец. – Raus е patacis, репа и картошка!
– И картошка! – дружелюбно пробормотал Матиц Ровная Дубинка; ему показалось, будто непременно надобно что-то сказать, и потому он повторил последние услышанные слова.
III
Под громкий перезвон своих колокольчиков Тантадруй пробрался сквозь ярмарочную суету и поспешил в гору к церкви. Но едва он сделал несколько шагов, как его окружила плотным кольцом ватага разыгравшихся ребятишек.
– Эй, Тантадруй, ты еще не умер? – громко кричали ребятишки.
– Еще нет, тантадруй. Но теперь она здесь, и эта будет настоящая! – весело отвечал он.
– Вот и не будет!
– Тантадруй, я думаю, будет! – Он таинственно усмехнулся.
– А какая она? Ты что, с колокольни спрыгнешь?
– Тантадруй, нет! – ужаснулся он. – Та была ненастоящая. Если с колокольни прыгать, то не умрешь, а убьешься! – подняв кверху палец, внушал он детям с той же строгостью, с какой ему самому говорил священник, когда он делился с ним своими намерениями.
– Тогда с моста спрыгнешь?
– Тантадруй, нет! Та тоже была ненастоящая. Если с моста прыгать, то не умрешь, а утонешь!
– Тогда в снегу заснешь?
– Тантадруй, нет! Если в снегу заснуть, то не умрешь, а замерзнешь!
– Тогда в печь к пекарю прыгнешь?
– Тантадруй, нет! Если в печь прыгать, то не умрешь, а сгоришь!
– Нет, испечешься! – ликовали ребята.
– Тантадруй, жупник сказал, что сгорю! – строго отверг он эту догадку.
– Нет, испечешься! Разве хлеб в печи сгорает?
– Верно, тантадруй, хлеб в печи не сгорает.
– Вот видишь! Что ты теперь будешь делать?
– Тантадруй, знаю, да не скажу!
– Скажи! Скажи!
– Не могу, тантадруй! Сперва я должен жупнику рассказать… – вырывался он, бросаясь то в одну, то в другую сторону, норовя ускользнуть от детей.
Так они добрались наконец до церкви, и ребятишки мгновенно юркнули внутрь, ибо начиналась торжественная месса. Тантадрую тоже хотелось войти в храм, ведь там было так красиво, но он знал, что ему нельзя. Он встал под толстой шелковицей у церковной ограды и загляделся на трех светло-сизых голубей, прогуливавшихся неподалеку. Гудел орган, и в воздухе плыли чудесные звуки. Тантадруй внимательно слушал и сердился на воробьев, оживленно гомонивших в ветвях над его головой. Он посмотрел вверх и задрожал от злости. Колокольчики зазвенели, и воробьи вспорхнули, поднялись с земли и три красивых голубя – они устремились прямо к солнцу, которое заливало их расплавленным серебром, и, превратившись в серебряных птиц, унеслись дальше в небо.
Тантадруй вспомнил Тратареву Елчицу, которая как-то назвала птиц самыми счастливыми существами. Он представил себе, как было бы хорошо, если б он тоже стал птицей и в птицу бы обратилась бы Елчица. Тогда бы, например, сейчас они сперва взлетели на крышу дома священника, оттуда поднялись на кладбищенские кипарисы, потом – на колокольню, с колокольни – на гору и, с горы на гору, улетали бы дальше и дальше.
Ударили в колокола, и Тантадруй пришел в себя. Из церкви повалил народ и стал быстро расходиться, торопясь на ярмарку, в трактир, на обед. Появился стражмейстер Доминик Тестен, который, правда, сейчас уже выглядел менее строгим, чем прежде, однако Тантадруй на всякий случай спрятался за толстым деревом, чтоб в этом укрытии дождаться священника.
В конце концов двери сакристии распахнулись. Показались четыре священника, и несчастный лишился дара речи. Они были огромные, очень круглые и, точно гуси, друг за другом легко катились к нему. Каждый из них левой рукой поднимал край сутаны, внимательно глядя перед собою, чтоб не ступить в грязь, правой рукой они придерживали крохотные черные шапочки, опасаясь, как бы ветер не сорвал их с толстых, совершенно лысых голов. И они так походили друг на друга, что Тантадруй с трудом смог узнать своего священника. Они приблизились к дереву, и Тантадруй вышел навстречу. Услышав непонятный звон, священники вздрогнули, разом вскинули головы и удивленно воззрились на странное существо, увешанное коровьими колокольцами.
– Это тот самый Тантарадра, который хотел бы умереть, – с легкой улыбкой сообщил собратьям местный священник.
– А-а-а? – разом протянули чужие священники и точно так же разом остановились, сложив на животах руки, наклонили головы к левому плечу и стали ждать, что последует дальше.
– Ну, Тантарадра? – повернулся к нему священник-хозяин.
– Тан-та-друй! – сконфуженно улыбаясь, но очень любезно ответил дурачок, чтобы священник хорошенько запомнил его имя.
– Да, да, Тантадруй, – кивнул тот. – Ну, что ты на сей раз придумал?
Тантадруй улыбнулся и с необычным блеском в мутных глазах торжественно сообщил:
– Тантадруй, я поймаю гадюку, она меня укусит, и я умру!
– О-о-о! – хором протянули чужие священники и закачали головами.
Местный священник поглядел на них несколько свысока, словно испытывая гордость за своего дурачка, и, повернувшись к нему, сказал:
– Тантадруй, сейчас зима, и гадюк нету! – Он поднял палец и строго продолжал, словно вбивая в голову слово за словом: – Но даже когда они появятся, и ты поймаешь одну из них, и она тебя укусит, ты не умрешь, а будешь отравлен!
– Отравлен, тантадруй! – простонал бедняга, и искренняя, бесконечная печаль разлилась по его маленькому сморщенному личику.
– Отравлен! – хором повторили чужие священники и погрозили своими толстыми пальцами.
– Отравлен! – подтвердил местный священник и тоже погрозил пальцем. – Подожди, пока не пробил твой час. Все мы должны терпеть, прежде чем лечь в могилу! – так сказал он и зашагал к своему дому.
– Все мы должны терпеть, прежде чем лечь в могилу! – торжественно подтвердили чужие священники, приподняли края своих сутан, взялись за шапочки и поплыли за хозяином.
Разом лишившись сил, прислонился Тантадруй к дереву, глядя вслед огромным черным фигурам, которые исчезали в светлых проемах дверей. Двери захлопнулись, и он вздрогнул, словно заперли его утраченное счастье. Он стоял неподвижно, слушая, как шумит у него в голове и как бешено стучит сердце в узкой груди. И сквозь этот шум и стук ему показалось, будто откуда-то издалека его зовут. Он открыл глаза и удивленно огляделся. Мир вокруг был чужой, совсем незнакомый, и было необычайно холодно.
– Тантадруй! – звали подкрадывавшиеся ребятишки и манили его.
Медленно, с мукою оторвался он от шершавого дерева и пошел обратно на площадь. Обступив его плотным кольцом, ребятишки кричали:
– Ну что, ненастоящая оказалась?
– Ненастоящая, тантадруй, – печально отвечал он.
– А какая она была-то?
– Тантадруй, я сказал, что найду гадюку, она меня укусит и я умру!
– Ха-ха-ха! – Охваченные бурной радостью, дети хлопали себя по коленям. – Любому дураку известно, что тогда не умрешь, а отравишься!
– Отравишься, тантадруй? – повторил он, удивленно глядя на них – они были еще детьми, но уже такими мудрыми и все знали, совсем как священник.
– Отравишься, Тантадруй, отравишься! Это тоже ненастоящая. Придется тебе что-нибудь новенькое подыскать! – Взявшись за руки, они плясали вокруг него и пели:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
IV
Тантадруй долго отбивался от разыгравшихся ребят, а затем снова погрузился в беспокойное ревущее море ярмарочной суеты. На площади было теперь не так хорошо, как прежде. Его уже не привлекали пестрые прилавки со всеми их чудесами и красотами, выложенными для насыщения голодных глаз. А как нескладно громыхала теперь музыка на карусели, как печально плакали шарманки, как жалобно пищали дудки в окоченевших детских ручонках. И какими твердыми были тела людей, и какими грубыми их слова! Опустив голову, катился меж ними Тантадруй, подобно капле чистой воды, которая между корней и камней прокладывает себе дорогу к тихому колодцу.
Еле-еле удалось ему пробиться сквозь плотную массу беспокойных и нетерпеливых тел и достигнуть цели – старого трактира Подкоритара. Здесь под высоким сводом главного входа уже сидели на разбитой скамье фурланец Русепатацис, Лука Божорно-Босерна и Матиц Ровная Дубинка. Перед ними на земле стоял огромный горшок с дымящимися говяжьими костями; с их помощью они отогревали замерзшие руки и утоляли вечный голод.
– Божорно-босерна! – озорно загремел Лука, отдавая ему воинскую честь большой костью, которую он приставил к правому виску.
Тантадруй молча опустился на скамейку, сжал коленями свою палку – весь воплощение горя. Долго сидел он так, не делая попыток принять участие в трапезе. Он ждал, что его спросят, как закончилось дело у священника. Но все молчали, и, не дождавшись вопросов, он с упреком произнес:
– Тантадруй, она оказалась ненастоящая!
– Если шла кверху, значит, ненастоящая, – сказал Лука, отшвыривая обглоданную кость и нагибаясь за другой.
– Тантадруй, – дурачок повысил голос, – я сказал, что найду гадюку, она меня укусит и я умру.
Лука и Русепатацис были слишком заняты делом, чтоб обратить внимание на его слова, а Матиц Ровная Дубинка, ощущая потребность высказаться, отнял от своих толстых губ кость и ласково повторил:
– И я умру…
– Тантадруй, теперь я не умру! – покачал головой дурачок, поворачивая к нему свое печальное сморщенное личико.
– Не умру! – сокрушенно кивнул Матиц и с чавканьем принялся высасывать костный мозг.
Пышнотелая служанка Пепа, женщина уже не первой молодости, вышла из подвала с кувшином золотистого вина. Остановившись возле несчастных, она загляделась на сильную фигуру Матица. А тот, отняв ото рта толстую кость, которую держал обеими руками, в страхе жался к стене и, окаменев от ужаса, не сводил с нее глаз, словно зачарованный змеей.
– Эх, ты б и меня еще поглодал! – задиристо рассмеялась служанка.
– Меня поглодал! – оробело кивнул Матиц, прижимаясь к стене, словно хотел слиться с нею. Он боялся женщин с давних дней своей юности, когда однажды парни напоили его пьяным и после этого он напал на бродяжку Катру. Жандармы застали его на месте преступления и, дабы на веки вечные отучить от приставаний к женщинам, три дня продержали в темной камере, потом, всыпав как следует, окатили ледяной водой, да еще пригрозили, что на всю жизнь засадят в тюрьму, если он хоть раз тронет пальцем какую-нибудь женщину.
– Ты меня боишься? – продолжала разбитная Пепа, протягивая полную руку, чтоб погладить его.
– Боишься! – поспешно согласился Матиц, отодвигаясь в сторону.
– Ох, да ведь это я тебя боюсь, чего ж тебе бояться! – добродушно засмеялась женщина.
– Чего ж тебе бояться! – благодарно посмотрел на нее Матиц.
Она погладила его по щеке, а он устремил на нее огромные мутные глаза, в которых плясали светлые искорки счастья.
– Эх ты, бедолага! – растроганно вздохнула женщина. Она покачала головой, вытерла руку о передник, потом повернулась к Луке и довольно добродушно, хотя и чуть свысока, спросила: – Ну, а ты как? Все еще кверху?
– Кверху? – оскорбленно загремел Лука. – Книзу! – Не выпуская кости, он резким движением руки наглядно показал – куда: вниз, немного по земле, а потом прямо в землю!
– Тьфу! – презрительно фыркнул фурланец, выбирая новую кость. – Raus е patacis, репа и картошка!
– Ну, ты-то помалкивай, пока я тебе в самом деле не принесла репы с картошкой! – пригрозила Пепа. – Лука верно говорит! – пригорюнилась она. – Я вот тоже вскоре пойду книзу, немного по земле, а потом не спеша и в землю.
– Не не спеша! Прямо! – загремел Лука, костью указывая в землю.
– Ясное дело! – вздохнула Пепа, громко высморкалась в передник и вытерла набежавшие слезы. – Прямо! Прямо в яму!
– Тантадруй, в яму? – почти с завистью отозвался дурачок. – Погоди, пока твой час пробьет. Каждый должен терпеть, прежде чем лечь в могилу!
– Ты где это слыхал? – удивилась Пепа, очевидно потрясенная его словами.
– Тантадруй, мне жупник сказал.
– Ах, жупник…
– Тантадруй, а ты уже терпела? – живо спросил дурачок.
– Терпела, да, видно, недостаточно! – Пепа горько усмехнулась.
– Тантадруй, а я нет! – грустно вздохнул он. – А как бы мне хотелось потерпеть, чтоб я мог лечь в могилу!
– Ох ты, счастливая твоя душа, несчастная! Перестань, перестань! – воскликнула Пепа и снова взялась за передник, чтобы утереть глаза. – И чего я с дураками связалась! До слез довели! – вдруг рассердилась она, решительно засучила рукава и скрылась в широкой темной подворотне.
Тантадруй заглянул в трактир, где стоял гул, как в потревоженном улье, и опять заныл:
– Тантадруй, как я теперь умру?
– Возьми кость, и божорно-босерна! – неожиданно выкрикнул Лука, и Тантадруй, невольно вздрогнув, послушно наклонился над горшком.
Некоторое время они сидели и громко высасывали кости. Когда все кончилось, Лука встал и потянулся.
– Ребята, как стемнеет, все к Хотейцу спать! – повелительно произнес он. – А теперь божорно-босерна! – Он отсалютовал и отправился на ярмарку. Русепатацис и Матиц Ровная Дубинка последовали за ним.
Тантадруй остался сидеть на скамье перед кучей обглоданных костей. Когда двери трактира распахивались, его окатывала беспокойная буйная волна музыки и песен. Но он не двигался; в печали своей он был незыблем, как скала. Мимо него проходили хозяева и батраки, купцы и перекупщики, старые и молодые; непослушные ноги несли их за угол и снова вели обратно. Одни грубо ругали дурачка, иные бросали ласковое слово, третьи молча совали в руку мелочь, четвертые хлопали по плечу и грустно замечали:
– Хорошо тебе, тронутому!
Наконец вышел Найденыш Перегрин. Возвратившись своим чередом из-за угла, он остановился рядом с Тантадруем и тряхнул его за плечо.
– Тантадруй, она была ненастоящая! – запричитал дурачок. – Я не умру!
– О, умрешь! Умрешь! – Перегрин встряхнул его сильнее, колокольцы дружно зазвенели. – А теперь пошли со мной!
– Тантадруй, а ты теперь споешь? – обрадовался несчастный.
– Ясное дело!
Перегрин привел его в трактир и усадил возле печки. Здесь было тепло и весело. Люди словно сошли с ума. Лица у всех были потные, глаза влажные и блестящие. Все громко говорили, смеялись, наливали в стаканы золотистое вино и с полными стаканами приставали к Перегрину, упрашивая его поиграть и спеть. Но парень только улыбался своей прекрасной улыбкой и отбивался длинными руками.
– Доминик! – завопил вдруг Округличар, человек необычайной физической силы, уже крепко подвыпивший, и повернулся к стражмейстеру, который восседал за отдельным столом и, обмакивая толстый палец в винную лужу, выводил на столе узоры. Над головой Доминика висели большие стенные часы, и тяжелый их маятник проходил над самой его лысиной, сверкавшей так, словно ее специально вычистили и оттерли под праздник. Округличар заметил, что черные думы овладели жандармом, и крикнул еще раз – Доминик, скажи ему, пусть сыграет!
– Именем закона, играй! – гаркнул стражмейстер и ткнул пальцем в Перегрина. При этом решительном акте он задел головой маятник, и тот остановился. Жандарм деловито вырвал его, швырнул под стол и торжественно сообщил: – Полицейского часа не будет!
– Ура, полицейского часа не будет! – загудели вокруг. – Играй, Перегрин!
Парень улыбался. Неожиданно он подошел к Тантадрую и попросил у него колокольчики. Дурачок, всецело доверявший Перегрину, не возражал, напомнив только, чтобы он был осторожнее, ведь они предназначены мученикам.
– Они и понадобятся мученикам. Малым да большим, – смеясь ответил Перегрин. Он поставил на два стола два стула и натянул между ними веревку с колокольчиками. Потом взял В руки деревянную ложку, слегка коснулся каждого колокольчика, прислушался, отвязал один, второй, привязал их в другом месте. Долго он перебирал колокольчики. Люди недоуменно следили за ним, кое-кто заранее предвкушал забаву. Разместив колокольчики по-своему, Перегрин попросил еще две деревянные ложки и заиграл, в самом деле заиграл, на колокольчиках и запел песенку Тантадруя:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
Песня отзвенела, люди сидели раскрыв рты, а дурачок радостно захлопал в ладоши.
– Так будут играть мученики! – ласково кивнул ему Перегрин.
– Тантадруй, так будут играть мученики!
– Так будут играть мученики! – поддержал растроганно могучий Округличар, своей комплекцией вполне соответствовавший фамилии.
– Мученики? – внезапно подскочил на месте благочестивый бобыль Арнац, по кличке Преподобный Усач, прозванный так за то, что он слишком склонялся в церкви над кропильницей и смачивал в освященной водице свои длинные, вислые усы. – Не поминайте всуе мучеников!
– Арнац! – возразил Перегрин. – А мы разве не мученики?
– Именем закона, все мы мученики! – авторитетно заявил стражмейстер Доминик Тестен.
– Безумцы! – верещал Преподобный Усач.
– Пошел ты к черту! – взбеленился Округличар и, вытянув тяжелую руку, опустил ее на острую головенку Арнаца, одним движением сбросив его под стол.
– К черту! – подтвердил стражмейстер. И деловито добавил. – Именем закона, мы все безумцы! Только каждый по-своему!
– Верно! – громыхал Округличар. – Мы все безумцы! И все мученики! Перегрин, играй сначала!
– Давай, Перегрин, снова, – поддержали остальные.
– Именем закона, играй еще раз! – разгневался стражмейстер, ударил кулаком по столу и кинул такой свирепый взгляд, что Перегрин улыбнулся и кивнул. Он заиграл снова, и еще раз, и опять сначала – и так пел и играл до самой ночи. А люди пили, смеялись и плакали.
Когда стемнело, в комнату вошли Лука, фурланец Русепатацис и Матиц Ровная Дубинка. Они пришли за Тантадруем, чтобы вместе отправиться на ночлег к Хотейцу. Но остались в трактире и восхищенно слушали игру Перегрина на коровьих колокольцах. Это было так хорошо, что даже Русепатацис ни разу не фыркнул.
Однако в конце концов пришлось прощаться. Тантадруй подошел к Перегрину и попросил отдать ему колокольчики.
– Оставь их нам, Тантадруй! – взволнованно просили растроганные люди. – Мы тебе другие купим! Еще лучше! Совсем новые!
– Нет, нет! – со смехом покачал головой Перегрин. – Для него только эти имеют цену. Вы поймете, ведь вы еще не совсем потеряли разум!
И в самом деле, люди поняли. А Тантадруй их тоже по-своему понял и счел нужным утешить:
– Тантадруй, я вам их еще разок дам, ведь я теперь не умру!
– Ты умрешь! Ты умрешь! – неслись со всех сторон ласковые, дружеские голоса.
– Именем закона, имею честь заявить, что ты воистину умрешь! – внес свою лепту захмелевший стражмейстер Доминик Тестен, испытавший потрясение такой силы, что позволил себе выпустить крупные слезы, которые катились у него по багровым щекам.
Тантадруй благодарно смотрел на добрые лица и влажные глаза, а Перегрин тем временем повесил ему на плечи веревку с колокольчиками и перевязал его крест-накрест и вокруг пояса.
– Теперь к Хотейцу, и божорно-босерна! – повелительно громыхнул Лука, отсалютовал всем и повернулся к двери. Русепатацис, Матиц Ровная Дубинка и Тантадруй послушно следовали за ним.
В этот миг растворилась дверь, и на пороге появился Батов Янез, по кличке Янез Жачем. Это был человек тоже в своем роде лишившийся рассудка, очень серьезный и хмурый. Он не был ни злым, ни буйным, однако почти все его избегали, потому что своим вечным шепелявым «жачем?» он многим портил настроение и ставил их в смешное положение. И на сей раз с ним поздоровался только Найденыш Перегрин.
– Ну-ка, входи, Янез, чтоб мы уж все были в одной куче, хотя этот мир огромен!
– Жачем огромен? – вопросил Янез Жачем.
– Затем, что человек мал! – усмехнулся Перегрин.
– Жачем человек мал?
– Затем, что ему трудно живется!
– Жачем человек живет?
– Затем, чтобы бога славить! – заверещал Преподобный Усач, выскакивая из-под стола.
– А ты иди обратно! – загрохотал Округличар, снова опуская тяжелую руку на его острую головенку.
– Жачем обратно? – осведомился Янез.
– Затем, что он нам надоел! – отрубил Округличар.
– Жачем надоел?
– Хоть ты не надоедай! – в сердцах закричал Округличар и подступил к нему со стаканом вина. – На, пей! Золотое, как солнышко!
– Жачем солнышко? – угрюмо вопросил Янез.
– Затем, что не луна! – смеялся Перегрин.
– Жачем луна?
– Затем, чтоб давать нам лунный свет!
– Кончай болтать! – оборвал Перегрина Округличар. – Затем, чтоб соленая репа не заплесневела у нас в кадушках.
Все расхохотались. И тут снова выскочил Преподобный Усач и злобно проверещал:
– И пусть она у вас плесневеет!
В словах этих не содержалось ничего ужасного, потому что среди гостей было несколько мужиков, которые жили не только соленой репой. Но тем не менее людей этот выкрик задел; все разом смолкли, и взгляды всех угрожающе обратились на Преподобного Усача. И черт знает что произошло бы дальше, не вмешайся стражмейстер; в праведном гневе он стукнул кулаком по столу, неверной рукой указал на дверь и крикнул:
– Вон! Именем закона, вон!
– Вон! Вон! – раздался хор голосов, и Преподобного Усача вышвырнули на улицу.
– Жачем вон? – хмуро поинтересовался Янез, когда дверь закрылась.
– Будет! – не на шутку рассвирепел стражмейстер. – Именем закона, ни одного «жачем»!
Округличар поспешил успокоить Янеза:
– Будет, человече божий! Будет! И без того невесело! Пепа, подай еще два литра!
– Еще два литра! – подхватили со всех сторон, и могучие удары обрушились на столы. И отчего бы нет? Ведь это была большая ярмарка, ярмарка нужды и желаний, – ярмарка тысячи вопросов, которые остались без ответов; да если б и удалось получить ответы, по сути дела, они были бы лишь новыми вопросами. И потому никому больше не нужны были эти Янезовы «жачем».
– Пей, Янез! Пей, Янез! – вопили люди, протягивая ему стаканы.
– Жачем пей? Жачем пей? – стоял на своем Янез, по-прежнему хмуро оглядывая всех.
– Зачем? – Жестом отчаянной скуки Округличар воздел руки горе. – Затем, чтоб все к дьяволу покатилось!
– Жачем к дьяволу?
И тут раздался шум и гром: стражмейстер Доминик Тестен с силой оттолкнул от себя стол, медленно поднял свое дородное тело и, сжав кулаки, пошел на Янеза. Но едва он успел сделать несколько шагов, как дверь опять распахнулась настежь, и на пороге встал Преподобный Усач; подняв длинные руки, он вопил во все горло:
– Знамение на небе!.. Луна в крови! Быть войне!
Все окаменели.
– Тьфу! – фыркнул в полной тишине фурланец. – Raus е patacis, репа и картошка!
А Тантадруй оттолкнул его, выскочил вперед и тоскливо спросил:
– Тантадруй, а я теперь умру?
– Ты с ума сошел! – толкнул его Лука. – Луна в крови, говорят, к дождю. Пошли спать! – Он решительно шагнул к двери и еще раз отдал честь: – Божорно-босерна!
Тантадруй, Матиц Ровная Дубинка и Русепатацис послушно брели следом. И пока захмелевшие, а то и просто пьяные мужики растерянно смотрели друг на друга, убогие спокойно и разумно вышли из трактира.
V
Тантадруй остановился у входа, вместе с ним невольно замерли и его товарищи. Опустилась ночь, и в студеном свете луны площадь казалась огромной, как пустыня. И такой же безлюдной. Нигде не было ни единой лавки, словно ветер смел их вместе с товарами и продавцами. Только на другом конце площади виднелась карусель. Но и она не выглядела больше пестрой, живой и веселой, как днем, когда на ней кружилась разудалая молодежь. Теперь она походила на огромный черный скелет, лишившийся черепа и оцепеневший под ночным ветром.
Дул резкий, пронизывающий ветер. Он гнал пыль, мусор, клочья бумаги, плясавшие в воздухе, точно огромные грязные хлопья снега. Собственно, плясало все. Плясали старинные кованые фонари над входом в трактир, плясали перепуганные тени, которые они отбрасывали на площадь. Плясали голые ветки старого каштана, а под ним на земле плясали черные кружева, которые эти узловатые ветки сплели своими тенями. А раз плясали ветки, то над ними плясала и подвешенная к небу луна. Она на самом деле была в крови и не казалась круглой, а висела так низко, будто пустынную ярмарку освещал последний, еще не погасший, но уже разбитый фонарь.
– Пошли! – решительно загремел Лука, и звуки его голоса словно вытолкнули их из-под свода. Вытянувшись цепочкой, как гуси, они зашагали через площадь. Впереди семенил Тантадруй, вторым шел Матиц, прижимавший под мышкой наполовину обстроганную палку, третьим ковылял, размахивая длинными руками, костлявый фурланец Русепатацис, завершал процессию Лука Божорно-Босерна: он ступал так твердо, что временами под его деревянной ногой, подкованной лошадиной подковой, вспыхивала искра. Молча и сосредоточенно шли они в долгую зимнюю ночь, словно унося от растерянных людей неведомый завет или необходимое утешение какому-то иному, новому человеку, которому где-то там, в далеком утре, только еще предстояло начать жизнь.








