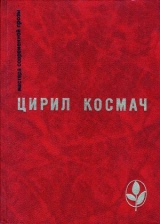
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
– Может быть, ты все-таки скажешь, куда тебя черт несет? – обиженно заговорила женщина.
Темникар вздрогнул – и Тилчка исчезла.
– Чего ты торчишь там в темноте? – пронзительно выкрикнула Темникарица. – Иди сюда и скажи!
Темникар оглянулся и посмотрел на жену, возившуюся у печки, – хрупкую, маленькую, прозрачную, ставшую как бы собственной тенью и отражением своей безрадостной жизни. И сердце у него дрогнуло, как случалось уже столько раз.
– Не сердись, Марьяна, не сердись! – ласково сказал он.
– Эх! – с негодованием передернула она острыми плечами. – Опять ты за свое: не сердись да не сердись! Скажи лучше, куда идешь, чтоб мы не тревожились!
Темникар подошел к ней и с грустью подумал: «Я бы тебе охотно сказал, что иду в Робы! Но ведь, если скажу, ты меня из дома не выпустишь».
– Что, в самом деле говорить не хочешь? – Она строго и обеспокоенно смотрела на него.
– Эх, ну куда ж мне тут идти? – ласково и почти беззаботно ответил он. – В лес иду. Знаешь ведь!
– А почему водки отлил?
– А почему бы и нет? Как-никак зима на дворе! – спокойно возразил он и стал надевать шинель.
– Ерней! Не дури! – Женщина подошла ближе. В голосе ее уже звучала неприкрытая тревога. – Кто же уходит из дому в сочельник?
– В сочельник? – нахмурился Темникар. – Да! Даже в сочельник людям приходится уходить из дому! А у скольких людей нет дома!
– Ну, уж к тебе это не относится! – отрезала Темникарица.
– Не относится? – сильней нахмурился Темникар, но тут же успокоился и равнодушно добавил. – Да разве я сказал, что меня не будет дома? До вечера еще далеко! И полдень еще не прошел!
– Не дури! – чуть спокойнее сказала женщина. – Послушай, Ерней! Я пирог испеку. Все мешки вытрясу, а муки наскребу. А ты дров в печь подложи, чтоб вечером потеплей было.
Холод прошел по спине Темникара. Он отчетливо увидел лица пятерых белогвардейцев, которые каких-нибудь полчаса назад вышли из его дома, и ясно услышал ехидный голос Мартина Лужника: «Хе-хе, Темникар, хорошо у тебя, и нам бы тоже хотелось денек провести в тепле. Но нельзя, нельзя! Нельзя, потому что слишком жалостливое у нас сердце, хе-хе!.. Прослышали мы, что в Робах укрылись лесовики подстреленные. Порядком их там. И все такие, что ни рукой, ни ногой пошевелить не могут, хе-хе!.. Спрятались от облавы в Чареву пещеру и теперь ждут, пока „товарищи“ за ними явятся. Но вместо „товарищей“, у которых сейчас другие заботы, хе-хе, нагрянем мы, пощекотать их да отогреть, хе-хе!.. Зачем беднякам мерзнуть в Чаревой пещере? Да еще в сочельник? Мы их отправим в Вифлеем, хе-хе!.. К Иисусу в ясельки, хе-хе! Отогреться, хе-хе!.. Дурак дураком будет выглядеть Иосиф, когда вместо трех святых королей ворвутся к нему в хлев десяток волосатых и измученных язычников, хе-хе!.. Пожалуйста, можете исповедаться в грехах! И сегодня же ночью, хе-хе! Поэтому мы отправим их в Вифлеем кратчайшей дорогой! И не будь я Мартином Лужником, если до ночи они туда не попадут, хе-хе! А ты нам ясельки приготовь и дровишек в печку подбрось, чтоб и нам потом было где отогреться, хе-хе!»
– Ерней! – по-прежнему сварливо произнесла Темникарица. – Ты слышишь или вовсе оглох?
– Слышу! – угрюмо кивнул Темникар, вытаскивая топор из-под деревянных почерневших ступенек.
– Зачем тебе топор?
– Да разве я когда-нибудь ходил в лес без топора? – спокойно спросил он и провел твердым пальцем по лезвию.
– Ах ты господи боже мой! – покачала головой Темникарица. – Что с тобой сегодня, в самом деле? Посмотри на себя! Полчаса назад был весь зеленый, без сил, и вдруг сапоги на ноги, топор под мышку – и в лес!
– Без сил? – не поверил Темникар, цепляя к поясу баклажку и направляясь к двери.
– Теперь еще и врать будешь?.. Разве не ты сыпал арнику в водку?
– Вот и полегчало, – сказал Темникар. И встал на пороге, сам удивившись тому, что почти забыл о сегодняшнем утре.
Он проснулся очень рано, с какой-то странной тяжелой печалью на сердце, она вскоре перешла в отчаянную тоску, ледяной глыбой придавившую желудок. Он беспокойно ворочался и несколько раз так всхрапнул, что жена тоже проснулась и накинулась на него: «Угомонись ты наконец! Лягаешься и храпишь, как старый конь!» Он хотел было рассказать ей, как непривычно и плохо себя чувствует, но передумал, по опыту зная, что она разойдется еще пуще: «Опять ты со своими хворями! Почему у меня ничего не болит? Спи!» А уснуть он больше не мог. Встал и насыпал арники в водку, потому что считал это единственным целебным средством для мужчины, хотя чувствовал, что боль такого рода не утихнет от арники и водки… Но когда, глядя вслед Мартину Лужнику и его кротам чертовым, уходившим по заснеженной дороге, он решил, что тоже пойдет в Робы и там с ними схватится, ему сразу стало легче. Ледяная глыба исчезла, и он снова почувствовал себя крепким, здоровым, на душе сделалось ясно. И все вокруг стало таким прекрасным, таким светлым и торжественным, как было всего однажды за его долгую жизнь – в далекой молодости, когда небывалое наводнение снесло все мосты и переправы и даже несколько домов на берегу, а он решил непременно проведать Тилчку; он наскоро сколотил три дубовые плахи и без раздумья отдался во власть разбушевавшейся стихии; вода должна была вынести его на Засекаревы пороги, но сердце подсказывало, что он как-то минует их и пристанет к противоположному берегу возле Усадаревой отмели. Так все и вышло… И теперь, почти пятьдесят лет спустя, он испытывал точно такое же чувство. Он стоял на пороге, и, как только принял решение, мир сразу переменился. Все стало светлым, чистым, непривычно значительным: и грушевое дерево, и орех, и колода для рубки дров, и вода, стекавшая по обледеневшему желобу тонкой серебряной струйкой в ведро, и голый куст шиповника, заглядывающий поверх почерневшей ограды в сад, и заснеженная тропинка, змейкой бегущая по крутому склону, и зубчатый, вонзившийся в иссиня-стальное небо Вранек, и белое облачко, которое чуть заметно дрожит, словно прощаясь с ним. Правда, зимнее солнце своим сиянием так очистило мир, что жаль было умирать. Однако Темникару даже в голову не пришла мысль, что он может остаться жив, точно так же как он не подумал о том, какой будет его смерть. Он знал одно: он немедленно должен отправиться в путь, и чувствовал, что сделает то, что надлежит сделать, хотя больше не вернется. Так будет…
– Ерней! – окликнула его жена.
Темникар вздрогнул и оглянулся.
– Опять может схватить! – озабоченно напомнила жена и подняла передник, чтоб утереть свои старые слезящиеся глаза.
– Что может схватить? – проворчал Темникар.
– Как что? Желудок.
– Ничего не будет!
– Что ты говоришь? – Женщина повысила голос.
– Говорю, ничего не будет! – повторил Темникар с какой-то странной ласковой улыбкой. Но тотчас помрачнел, рассердившись на себя. Ему показалось, что он слишком много сказал, что без всякой нужды тревожит жену, и в то же время почувствовал, что ведет себя не так, как хотелось бы. Поэтому он поспешно и сурово добавил: – Во всяком случае, сегодня не будет!
– Ох, какого молодца ты из себя строишь! – усмехнулась жена. – Не забывай, что тебе семьдесят лет!
– Не забуду! – отрезал Темникар и решительно шагнул через порог.
– Эй! – раздался резкий женский голос.
Петер Майцен мгновенно пришел в себя и, оглянувшись на хозяина, невольно спросил:
– Что случилось?
– Старуха меня зовет, – ответил тот. – Жена. Злится…
– Ага, жена… – забормотал Петер Майцен, недовольный тем, что не сумел скрыть свой испуг.
– Хм, такое дело. Голос у нее пронзительный.
– Пронзительный… – «Как у Темникарицы», – подумал Петер Майцен, снова возвращаясь в Темник.
– Хм… Она ведь хозяйка.
– Ага, хозяйка…
– Хм, такое дело… Мужик, что в дом женится, всегда батраком остается.
– Ага, батраком…
– Эй! – еще громче донеслось со двора.
Петер Майцен видел, как хозяин высунул руку в окно и помахал. Слышал, как он что-то крикнул, но это его не занимало, потому что в ту минуту он был целиком поглощен созерцанием длинной и тонкой руки, которая, словно обгорелый узловатый сук, медленно поднималась и опускалась в белом солнечном свете.
«Довольно живописный мужик, – подумал он. – Надо его запомнить!»
Крестьянин убрал руку и почесал подбородок.
– Хм, такое дело! – вздохнул он. – Косу надо отбить.
– Ага, косу… – бормотал Петер Майцен, наклоняясь над чемоданом, чтоб вынуть из него карандаши, чернила и прочую мелочь.
– Хм… Отаву пойду косить.
– Ага, отаву… – отсутствующе повторил Петер Майцен и вдруг с удивлением огляделся по сторонам. – Отаву?.. Теперь?.. Ведь… – Он хотел сказать: «Ведь зима все-таки!», но вовремя сообразил, где находится, и не произнес слов, уже готовых сорваться с языка. И это так по-детски его развеселило, что он засмеялся и самому себе покачал головой.
– А куда косить пойдете?
– В Тихий дол.
– Хорошее название.
– Хм, такое дело. Правда, для отавы чуть рановато, ну да в Тихом доле хорошая земля и воды довольно, трава быстро растет.
– Да, да, да! – кивал Петер Майцен и улыбался про себя. «Ох и дурень же я!.. Хотя что тут такого? Здесь лета, но я-то сейчас в Темнике. А там зима. И снег, Всю ночь шел снег. По колено навалило… Неудивительно, что Темникарица никак не может понять, зачем понадобилось Темникару в лес…»
– Ерней! – окликнула мужа Темникарица.
Темникар был уже возле хлева. Он не оглянулся, но на душе у него было тяжело.
«Кричит, словно чует что-то, – подумал он. – Так, наверно, и есть. Если я утром почувствовал, то она сейчас тоже может…»
– Ерней!
Он оглянулся. Женщина стояла на пороге – темная фигура в раме темных дверей. Ему стало жаль ее.
«Неплохая жена была!.. Сама, бедняга, страдает от своего характера. Сердце у нее в толстой кожуре, как у грецкого ореха и каштана, вместе взятых: твердая скорлупа, толстая кожица, да еще колючки в придачу… А неплохая была жена!.. Тилчка умерла с ребенком под сердцем. Эта принесла двоих. Правда, оба на меня не похожи. Оба в нее. Дочь ладно, пускай, баба ведь. О парне речь. Изнежен он, на мое горе. А она в чем виновата? Ни в чем… И любила меня. Я ее тоже по-своему люблю, хотя совсем иначе, чем Тилчку… Завтра или послезавтра, когда меня найдут в Робах, будет, бедняга, руки ломать да причитать…»
– Ерней! – с ужасом и гневом закричала женщина.
Он медленно подошел к ней.
– Слушай, Марьяна, – произнес он, и голос его звучал непривычно проникновенно. – Зачем нам всегда ругаться?.. И почему всегда должно быть по-твоему?.. Почему хотя бы сегодня… ну хотя бы сегодня, в сочельник… когда у людей хорошее настроение, как говорится… почему и у нас, хотя бы сегодня, не быть хорошему настроению?.. А, Марьяна?..
– Ерней, что с тобой? – ответила женщина и сложила руки под передником.
– Что? – усмехнулся Темникар. – Так вот… Давай позабудем про худое!.. Ты пеки пирог, я пойду в лес, потому что так решил. Давай руку!
– Что с тобой сегодня, Ерней? – Жена изумленно покачала маленькой головой.
– Ничего. Давай руку!
– Какой-то ты сегодня чудной, – сказала женщина. И, сама не зная почему, протянула мужу руку.
– Ну вот видишь! – кивнул Темникар. – Ну разве не хорошо? Не разумно?.. Теперь я могу спокойно уйти… – Он крепко пожал ей руку и быстро повернул за угол.
– Ерней!.. Ерней!..
– Эй! – снова раздался пронзительный окрик.
Петер Майцен еще сильнее вздрогнул, хотя тут же вспомнил, где находится.
– Жена вас опять зовет, – сказал он, потому что хозяин не пошевельнулся.
– Хм, такое дело, – только и произнес тот, а потом не спеша высунул длинную руку в окно и прополоскал ее в солнечном свете.
– Это ваша вторая жена? – спросил Петер Майцен. «Громы небесные, что это мне пришло в голову?.. Все к Темникару его примериваю!.. Совсем запутался…»
– Вторая? – недоуменно протянул крестьянин, и его костлявые пальцы снова вцепились в заросший подбородок.
– Ох, простите! Простите!.. Сам не знаю, что это мне взбрело в голову! Ни с того ни с сего ляпнул, – оправдывался Петер Майцен. Он улыбался, но ему было не по себе. Швырнув на стол толстую папку, он принялся ее развязывать. «Я целиком в Темнике, и душой и телом… И потому пора этого „такодела“ выставить из комнаты. Если сейчас же не уберется, я опять ляпну какую-нибудь глупость!..»
– Хм, такое дело, – подал голос хозяин. – Бывает, брякнешь что-нибудь эдакое… Ни с того ни с сего, как вы говорите. Но ничего. – Он почесал подбородок и неторопливо добавил: – А раз уж об этом речь зашла, могу вам сказать, что я у нее второй муж.
– Ну-ну! – ответил Петер Майцен, успокаиваясь. «Впрочем, я мог и сам сообразить, что дважды ты не стал бы стараться».
– Да… да… Такое дело… Женила меня на себе, как говорится. Понимаете?
– Понимаю, понимаю…
– Ведь я и раньше жил в доме, когда ее муж еще был жив. И был я, как бы это сказать, вроде батрака, только почище… Сперва приторговывал скотом, древесиной, иногда землицей… Хм, все больше по мелочам. Торговцем-то я не был. Радовался, что могу по делам разъезжать повсюду… Понимаете?
– Понимаю, понимаю…
– Хм, такое дело… Ну вот, много раз приходил я и в Черный лог. И вышло так, что переночевал тут и… ну, да вы можете сами представить, что случается, когда старик хворает и не встает с постели, а баба молодая, здоровая и кровь у нее горячая, как говорится…
– Понимаю, понимаю…
– Хм, такое дело. Мне-то это не больно нравилось. Да что говорить, слаб человек… Что поделаешь! Напоролся я на такую… и остался, прилип к бабе как банный лист… Вы поймете…
– Понимаю, понимаю…
– Хм, такое дело, а потом, когда он умер, мы поженились… Лучше, если б этого не было.
– Почему? – спросил Петер Майцен безо всякого интереса.
Крестьянин ответил не сразу. Откашлялся и громко проглотил слюну.
– Хм, такое дело. Батрак к дому не привязан, а хозяин… даже если в доме он не хозяин…
– А, разумеется…
– Да… А если баба хозяйка и мужик по бабе с ума сходит, тогда… тогда…
– Что тогда? – невольно, но по-прежнему отсутствующе спросил Петер Майцен, неторопливо укладывая бумагу в ящик стола.
Хозяин снова откашлялся.
– Тогда баба над ним голова… Обводит его вокруг пальца, как говорится… И хоть старик из-за нее совсем с ума спятил, он догадывался о вещах, о которых ему не стоило бы догадываться…
– А что такое? – спросил Петер Майцен, окинув его взглядом. «Кто знает, какая мерзость за всем этим скрывается!»
Пальцы крестьянина застыли на заросшем подбородке. Очевидно, он уже пожалел, что затеял такой разговор.
– Хм, такое дело… Я хочу сказать, человек не делает того, что должен был бы сделать. Конечно, он сам виноват, коли такая разиня…
– Ясное дело! У каждого свои слабости и свои беды! – сказал Петер Майцен и с грохотом задвинул ящик, словно желая этим сказать, что с него хватит.
– У каждого!.. – с облегчением вздохнул хозяин.
– У каждого, у каждого!..
Крестьянин откашлялся и шаркнул ногой.
– Хм, такое дело. Вы теперь начнете?
– Что?
– Ну… писание…
– Разумеется!.. – «Жду не дождусь, когда ты уйдешь!» Петер Майцен поставил на стол рюкзак, чтобы вынуть спиртовку, кофе, сахар и боснийскую мельничку для кофе.
– Хм, такое дело… И пойдет?
– А почему не пойти? – вздрогнул Петер Майцен, и черная тень скользнула по его лицу. Он насыпал зерна в мельничку и начал молоть.
– Когда умеешь, дело идет.
– До конца этому никогда не выучиться!..
– Жизнь слишком короткая.
– Будь она и вдвое длиннее, все равно было бы то же самое. Не стоит сейчас об этом и говорить!..
– Хм, такое дело. Работай и терпи, пока она не придет.
– Кто – она?
– Да та самая, с косою.
– Что о ней говорить!
– Да, говори не говори, все одно придет.
– Именно поэтому! – отрубил Петер Майцен, опустив голову и быстро крутя мельничку.
– Вы не рассердитесь, если я спрошу? – сказал крестьянин. – А о чем вы писать будете?
– О Темникаре.
– О ком?
«Громы небесные, неужели я в самом деле не смогу работать?»
– О ком, вы сказали?
– Об одном старике… Можно кружку воды попросить?
– Кружку воды? – переспросил крестьянин. – Хм… Только чтоб хуже не было.
– Нет, хуже не будет! – отрезал Петер Майцен и твердо поставил мельничку на стол. – Мне надо только кружку воды – кофе сварить.
– Эй! – раздался во дворе женский голос, уже полный ярости.
– Славу богу! – невольно вслух произнес Петер Майцен, но тут же добавил: – Скажите ей, пусть принесет мне кружку воды!
Хозяин проворно высунулся в окно. Видимо, он был доволен, что может угомонить жену этой просьбой.
– Принеси кружку воды! – закричал он.
– Что?
– Кружку воды, господин хочет сварить себе кофе!
Петер Майцен подвинул расшатанную тумбочку к стене, где была розетка, расстелил старую газету и поставил на нее спиртовку, джезву и чашечку.
– Сейчас принесет, – произнес крестьянин. Он опять прислонился к окну, почесал подбородок и спросил: – А что с ним было?
– С кем?
– Да с тем человеком. Как вы его назвали?..
– Темникар! – в сердцах сказал Петер Майцен, не зная, как прекратить надоевший ему разговор, не слишком обидев хозяина.
– Ага, Темникар! А что же с ним было?
– Ничего особенного! – махнул рукой Петер Майцен. – Он вступил в схватку с пятью белогвардейцами, чтобы спасти двенадцать раненых партизан, которых товарищи спрятали на время облавы в лесу. И это все, что с ним произошло!
– Хм, такое дело… А он один был?
– Один…
– И побил их?
– Побил…
– И старик, говорите?
– Семьдесят лет…
– Хм… А сам тоже погиб?
– Погиб…
– Хм, такое дело… – Хозяин почесал подбородок и шумно вздохнул, словно это отвечало каким-то его мыслям.
– Такое дело! Такое дело! – отрывисто произнес Петер Майцен, разозлившись. – Погиб он! Погиб! И все же это был прекрасный, пожалуй, самый прекрасный день в его жизни!.. Вам этого не понять!
Крестьянин остолбенел. Пальцы его замерли на подбородке; раскрыв рот, не моргая, он глядел на Петера Майцена, словно на змею, которая вот-вот вонзит свои зубы в его сердце.
– Я хочу сказать, что вам это и впрямь трудно понять! – стал выкручиваться Петер Майцен, сам невольно оцепенев перед этим изваянием. В ту минуту он подумал лишь о том, что смертельно обидел человека. Позже, значительно позже, он будет с возмущением упрекать себя: как он, писатель, мог оказаться настолько слепым; как мог не заметить, что его слова разбередили открытую, кровоточащую рану Чернилогара, которая жгла ему тело и душу; он сердился на себя и убеждал, будто не заметил этого оттого только, что Чернилогар не вызвал у него интереса и симпатии. Но, как бы то ни было, в ту минуту он ничего не заметил, он видел перед собой лишь обиженного человека и пытался как-то оправдаться: – Я хочу сказать, что вам это и впрямь трудно понять! И никто не мог бы понять, если б ему не рассказали о прежней жизни Темникара, о его судьбе, его тоске, обо всех тех особых обстоятельствах, которые так повлияли на человека, что он переродился, его страх переплавился в мужество и… и он принял смерть во имя жизни, принял ее как…
Тут в дверь постучали, и вошла хозяйка с кружкой воды. Петер Майцен уже видел ее, но лишь сейчас ему бросилось в глаза, какая она высокая и дородная.
– Вот! Хватит? – спросила она, ставя кружку прямо на книги. И, не дождавшись ответа, накинулась на мужа. – Эй! Ты уже пустил корни?.. Чего стоишь истуканом, как надгробный камень на собственной могиле?
Потом она снова повернулась к Петеру Майцену.
– Его только за смертью посылать, и тогда можно преспокойно ждать трубы Судного дня!
Муж ее вздрогнул и громко откашлялся.
– Хм, такое дело… Я разговариваю…
– Разговариваешь? – Женщина уперлась руками в литые бока и как-то странно ухмыльнулась, вроде бы свысока. – Разговариваешь? Молодец… ничего не скажешь… И помогает?.. Нет! В самом деле?.. И только мешаешь господину! И верно ведь, сударь?
– Нет, нет, – поспешил ответить Петер Майцен – жена ему понравилась еще меньше, чем муж. Несмотря на всю свою живость и смех и опрятную одежду, она показалась ему какой-то нечистой, не очень умной, с глухим сердцем.
– Хм, такое дело! – рассмеялась она, разводя в стороны полные белые руки. – И я ведь тоже не прочь поговорить. Особенно с образованными людьми, которые… и могут многое объяснить… и понимают, что к чему… и могут растолковать, что и как… И мы ведь простые люди… и неученые… и, однако же, люди и… И верно ведь, сударь?
– Разумеется, разумеется! – закивал Петер Майцен, опасаясь, что теперь женщина вовсе выведет его из себя, и не зная, как от нее отделаться.
– Я и говорю, – оживленно зачастила она, – я и говорю, что иногда простой человек может споткнуться… и я хочу сказать – не понять… и потом мучается, как змея в расщепе и… без нужды вовсе даже… И верно ведь, сударь?
– Да, да…
– И… было время… я не хочу сказать, что плохое было время, нет, не плохое… другое только… и хорошее… И только мы в прежнее время… и перед войною… И только когда нас война закружила, мы от всех этих ужасов… и совсем голову потеряли и… я хочу сказать, что очень легко было ее потерять… И ничего странного в том нет…
– Да, да! – произнес Петер Майцен, взял кружку с водой и подошел к тумбочке.
Крестьянин откашлялся и вдруг так неожиданно громко выпалил свое «такое дело», что Петер Майцен невольно на него оглянулся.
– И… и чего это я болтаю? – засмеялась женщина и цветастым передником стала вытирать красное лицо. – Разболталась по-бабьи…
– Да, да! – произнес Петер Майцен. – Ничего в этом нет худого! Только, знаете, я хотел бы поработать.
– Вот и я говорю! – проворно подхватила женщина. – Всему свое время – и верно ведь, сударь?
– Конечно, конечно!
– И вот видишь? – повернулась она к мужу. – Пошли! Самому работать неохота, так хоть другим не мешай. И верно ведь, сударь?
Петер Майцен не ответил. Он поднял кружку и стал наливать воду в джезву так, что струя громко забулькала.
Муж и жена не произнесли больше ни слова и так тихо прикрыли за собой дверь, словно не были хозяевами в собственном доме.
II
– Ух! – громко вздохнул Петер Майцен.
Он поставил джезву на спиртовку, а кружку на пол. Потом крепко, до хруста в суставах, потянулся и высоко подпрыгнул, как бы освобождаясь от тяжкого и гнетущего бремени.
– Ух! Досыта наговорились – и с «такоделом», и с его «икалкой»! Надеюсь, теперь до ужина больше не услышу ни этого «дела», ни этого «и»!
Он сунул руки в карманы и принялся насвистывать неторопливую английскую мелодию, давно звучавшую у него в ушах. Насвистывал и слегка пританцовывал возле тумбочки, пока не закипела вода. Быстро размешав кофе, налил его в чашечку.
– Вот так! Теперь за работу! – воскликнул он и сел к столу. Закурил, придвинул к себе папку. Медленно, почти торжественно открыл ее и в своей озорной радости по-французски окликнул Темникара, окликнул даже несколько фамильярно, словно вызывал на битву – Et maintenant, Temnikar, à nons deux![49]49
А теперь, Темникар, мы одни! (франц.).
[Закрыть]
Но, увы, Темникар не появлялся!
Петер Майцен испугался. Широко раскрыл глаза, потом крепко зажмурился, чтоб разглядеть его во тьме. Но видения, только что такие ясные и отчетливые, что он мог бы их сфотографировать, вдруг омертвели, затянулись туманом, расплылись в серые пятна и наконец совсем растаяли. Перед его взором была лишь кромешная тьма. Потом в ней возникли красные, зеленые и желтые круги, они мелькали, сталкивались, от их мельтешенья у него заболели виски; вскоре они исчезли, и вместо них появились черные пятна – они бегали, скользили, будто по черному льду, и тотчас пропадали.
– Проклятый мужик! Проклятая баба! – выругался Петер Майцен и, в сердцах отодвинув стол, заметался по комнате. – Так и знал, доведут меня!
«Знал? Думаешь, в самом деле виновата эта пара?»
– А как же! – воскликнул он, стремясь заглушить свой внутренний голос. «Хм, такое дело, а пойдет?.. Хм, такое дело, а у вас быстро идет?.. Хм, такое дело, а интересно получится?.. Хм, такое дело, а стоит?»
Петер Майцен погрузился в себя. Он почувствовал в сердце грусть, которая вскоре перешла в отчаяние, отчаяние сгустилось в тоску, а тоска, окаменев, ледяной глыбой осела в желудке. Пламя творческой радости, только что озарявшее лицо, погасло; ожили горечь и скорбь и засмеялись над ним, как над побежденным старцем. «Да, так всегда!.. А почему? Откуда эта тревога, отчаяние, эта тоска, эта ледяная глыба в желудке?»
Он закрыл папку и оттолкнул ее от себя. Облокотился на стол, подперев голову руками, и уставился в окно.
Двор был тесным; метрах в четырех шла высокая белая стена другого крыла дома, над ней – коричневая крыша с низкой трубой, из которой тянулся прозрачный голубоватый дым.
– Все дым! – сокрушенно вздохнул он.
Он сжал губы и посмотрел на узкую полоску неба, видневшуюся над крышей. Небо было темно-синим, глубоким и пустынным.
«Даже облака нет!.. У Темникара было свое облако. Уходя из дома, он видел его над Вранеком, а позже, когда лежал в Робах, – над Врезами. Облако растаяло при последнем его вздохе… А мое небо уже пустое, пустое и глубокое, как бездонная пропасть…»
По спине его пробежали мурашки.
«Поделом мне, раз я провожу такие ужасные аналогии! – Он грустно усмехнулся. – Пропасть? Да! Этот прямоугольник неба – лишь начало бездонной пропасти, и я сижу здесь, глубоко под землей, в глубоком подвале, и внезапно, сейчас, именно в эту секунду, земля разверзается, из-за глыбы в желудке я теряю равновесие и обрушиваюсь в пропасть. Я падаю в раскрытое окно, пролетаю мимо высокой белой стены, мимо крыши, мимо трубы, сквозь дым и падаю, падаю и знаю, что никогда не достигну дна, ибо его нет; я только падаю и буду падать, пока тоска не одурманит меня и я не потеряю сознание… я падаю, и вокруг меня бесконечная, звенящая тишина, словно стена из жести…»
Он невольно ухватился за стол.
И тут, как раз в это мгновение, послышался звон отбиваемой косы. Он был таким неожиданным и резким, что Петер Майцен вскочил на ноги.
«Хм, такое дело… – усмехнулся он, придя в себя, – этот проклятый „такодел“ отбивает свою косу. Да он ведь и сказал, что пойдет косить отаву… Куда? Как он назвал это место?»
«Тихий дол».
«Да, в Тихий дол… Удивительно, какие в этих местах странные названия! Черный лог, Тихий дол!»
«Это для того, чтобы ты мог погрузиться в свои мрачные мысли… Перестань, перестань! Можно подумать, что у тебя смерть за плечами. Хозяин правит косу, и в этом нет ничего странного».
«Странного? Разумеется, нет! Но она звенит, словно кто-то разбивает жестянку тишины в бездонной пропасти… Да, именно так – сама смерть села на вершине горы, положила свою огромную косу на всю долину и теперь отбивает ее у меня над головой…»
«Глупости! Конечно, это не смерть, а крестьянин, хотя и весь высохший, как скелет».
«А если он отбивает косу для себя?..»
Эта мысль так поразила Петера Майцена, будто она не принадлежала ему. Он встал, и вновь по спине у него пробежали мурашки; и душу обожгло так, будто это он сам пожелал крестьянину смерти.
«Ей-богу, я сошел с ума!.. Сегодня я и впрямь какой-то странный! Моя собственная голова – бездонная пропасть; в ней рождаются самые чудовищные мысли».
«Ну-ка возьми себя в руки! Пусти мысли в другом направлении!»
«Пущу! Это необходимо! – Он сжал кулаки и потряс ими. – Однако же… разве не странно, что такая мысль вдруг пришла мне в голову?.. Но почему должен пробить его последний час?.. Почему?.. И вообще, откуда взялась эта мысль?»
«Пришла, как и все остальные. Откуда? У мысли нет паспорта, по которому можно узнать, откуда она явилась».
«О, разумеется! Свой внутренний мир человек не может познать до самой смерти. Медленно раздвигаются границы новых, неведомых стран. А сейчас открылась граница той мрачной страны, где обитают думы о тленности, думы о смерти…»
Он махнул рукой, зажег сигарету и зашагал по комнате.
И снова замер, погрузившись в раздумья.
«А что, если здесь в самом деле что-то есть?.. Странный какой-то этот Чернилогар… А его жена?.. Что она там болтала? Как-то мне не по себе».
Медленно огляделся он по сторонам. Четкие, короткие удары по лезвию косы, почти осязаемые, как кусочки металла, влетали в окно, отражались от стен и стучали в виски.
Он подошел к окну. Крестьянин сидел на земле метрах в трех от входной двери. Его лысая, почти голая голова на длинной, побуревшей от солнца шее вздрагивала при каждом ударе молотка. Петер Майцен раскрыл было рот, чтоб спросить, когда он закончит, но вовремя удержался.
– В конце концов старик подумает, будто я в самом деле спятил! – пробормотал он, махнув рукой, зажег новую сигарету и решительно сел за стол.
Придвинул пишущую машинку, вложил бумагу. Но не успел притронуться к клавишам, как раздались звуки трубы. Они неслись откуда-то издалека. Звук был чуть слышный, но необыкновенно чистый и звонкий.
Пальцы его замерли.
Тишина…
Коса тоже умолкла.
Он вслушивался.
«Может, показалось?.. Когда на душе тревожно, всякое в голову лезет…»
Он поднял руки, но не успел опустить их на клавиши, как снова зазвучала труба. Теперь Петеру Майцену удалось различить мелодию. Это было начало грустной народной песни, но только начало, две первые фразы. Он хорошо знал эту песню, но слов припомнить не мог. И это привело его в ярость. Он ждал, когда снова раздастся голос трубы, однако раздались удары по металлу, да такие сильные, словно Чернилогар хотел заглушить этот голос.
– Кто играет? – спрашивал Петер Майцен. – И что играет?
Он ждал долго, но, убедившись, что труба замолчала, а коса звенит громче, отодвинул машинку и встал.
«Нет! Сам господь не убедит меня в том, что здесь все благополучно… Пойду пройдусь!»
Он решительно махнул рукой, чтоб отогнать голос совести, быстро обулся и вышел из комнаты.
На пороге Петер Майцен остановился. Ему стало не по себе оттого, что надо было пройти мимо крестьянина, – и из-за недавних мыслей, и из-за невыполненного решения остаться в комнате и работать. Он водрузил на нос темные очки и, решив без лишних слов отшить хозяина, если тот снова пристанет, медленно вышел во двор.
Но тот уже учуял его. Необыкновенно быстро он повернул голову и столь же быстро спросил:
– Не идет?
– Что? – хмуро отозвался Петер Майцен.
– Писание!
– Нет! – довольно недружелюбно сказал Петер Майцен – ему почудилось в голосе крестьянина какое-то удовлетворение. – У вас тоже не идет! Целую вечность стучите!
– Целую вечность? – Хозяин удивленно взглянул на него. – Десяти минут не прошло!
– Десяти минут?.. – «Неужели в самом деле прошло только десять минут с тех пор, как он вышел из моей комнаты? Неужели возможно, что всего за десять минут я столько перечувствовал и передумал?»
– Начнешь слушать, как косу отбивают, – сказал крестьянин, – так может показаться, будто целая вечность прошла.
– Да, да… – кивал Петер Майцен. – А кто тут играет?
– Играет? – протянул крестьянин и снова с удивлением посмотрел на него.
– Да. На трубе.
– На трубе?
– Вы не слыхали?
– А вы слышали трубу?
– Разве поблизости нет трубы?








