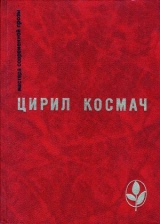
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Петер Майцен погрузился в раздумье.
«А что увидели бы мы, если б синева на самом деле показала нам все, что произошло в нашей стране? Миллионы погибших!..»
«И среди них Темникарица!»
«Темникарица? – удивленно покачал он головой. – Темникарица?.. Непонятно!.. Она проснулась, как вулкан, и стала почти сказочным персонажем».
– В том-то и трудность! – озабоченно произнес он. – Что мне делать с нею?.. Она разбивает сюжет. Но это еще полбеды. Главное – она заслоняет Темникара. Был у меня герой, человек что надо, все вокруг гроша ломаного не стоили по сравнению с ним, и вот на тебе…
«А разве теперь он стал меньше?»
«Нет!.. Конечно же, нет! – вздохнул Петер Майцен. И это вновь наполнило его радостью. – Нисколько!»
«Значит, вопрос в том, куда пристроить эпизод с Темникарицей?»
«Да. Или сделать так, будто это привиделось Темникару?» «А когда?.. И что потом будет с Темникаром?»
«Он может заколебаться. Я не говорю, что он может сломиться, судьба не позволит ему сломиться, но он может надломиться… И перестанет быть героем, высеченным из одной глыбы, каким виделся мне раньше».
«Но это тоже должно произойти».
«А что, если он ничего не представлял себе? Если я не покажу ему конец его семьи и его дома?»
«Тогда он в самом деле станет меньше… Впрочем, все это пустые слова. Разве ты не хозяин его души и его сердца? Это видение уже в нем».
– Разумеется, – пробормотал Петер Майцен.
«А где же он теперь?»
«Где он теперь? – Петер Майцен задумался. – На Мальновой горе он простился с Крном и повернул в Мелинский лес».
«Значит, вот-вот подойдет к Рейчеву лазу».
– Да, вот-вот подойдет к Рейчеву лазу… – Петер Майцен посмотрел на луг в глубине долины, разрезанной солнцем на две части: светлую и темную. – Сейчас он подойдет к Рейчеву лазу… – повторил он и перевел взгляд на опушку леса. – Подойдет к Рейчеву лазу… – в третий раз произнес он, ощущая грусть.
Темникар вышел к Рейчеву лазу. Шел он медленно и словно без сил. Да и выглядел постаревшим и маленьким. Согнулся, будто нес тяжкое бремя.
На опушке леса он остановился. Перед ним открылась широкая прогалина Рейчева лаза. Ровно посередине нее проходила граница света и тени. По одну ее сторону снег был серебристым, искрился на солнце, казался теплым и живым, по другую лежала синеватая пелена и снег был холодным и мертвым.
Темникару стало зябко, зябко было и на душе, хотя сам он не хотел этому верить. Он потянулся за баклажкой, глотнул водки и снова посмотрел в тень.
– Скоро двенадцать, – произнес он, чтобы успокоить себя. – Неплохо! Кроты чертовы подойдут сейчас только к Равнишской поляне, а может, и нет еще.
Он вытер потный лоб и опять приложился к баклажке.
– Вот так. А теперь вперед! – приказал он себе, но в голосе его уже не было прежней решимости.
Выпрямившись, он глубоко вздохнул и шагнул к самой границе света и тени. Замер перед нею, точно на краю бездны. Какое-то время неподвижно смотрел перед собой, потом поднял голову.
– Пойду!..
Потер снегом щеки и взглянул на солнце.
– Теперь пойду… Туда… На ту сторону… – тихо шепнул он самому себе и показал на тень.
Солнце чуть-чуть покачнулось.
– Пойду… Так вышло, надо идти… И мы больше с тобой не увидимся!..
Солнце снова качнулось.
– Никогда тебе больше не светить мне… Никогда!..
Солнце кивнуло.
– Ну, сегодня-то твои лучи я еще увижу. Там… – Темникар показал на гладкую, круглую гору, где были деревенские покосы, – там, в Брезах, я их увижу. Правда, как они угаснут вечером, не увижу, сам угасну прежде… Понимаешь?
Солнце кивнуло.
– Ну а теперь пойду… переступлю… Э-э… нет, не так-то легко, оказывается, переступить с солнечной стороны на теневую. Веришь?
Солнце снова кивнуло.
– Так ничего мне и не скажешь? – с обидой произнес Темникар.
– Скажу, – заговорило солнце его собственным голосом. – Если ты сам не ступишь в тень, тень переступит через тебя.
Темникар посмотрел на землю. И увидел, что синеватая тень подползла к самым его ногам. Вздрогнув, он отошел на два шага.
– Ну, что еще? – проворчал он и покачнулся. Он снова почувствовал камень в желудке. – Что такое? – повторил он и быстро потянулся к баклажке, хотя понимал, что водка теперь не поможет. – Что такое?..
Издалека донесся звон.
«Полдень! Дома уже ждут!.. – мелькнула мысль. – Вот что за камень у меня!.. Как же я об этом не подумал? А завтра?.. Все праздники им испорчу… Почему бы не произойти всему чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже!..»
«Не думай об этом! – ответил он самому себе. – У кого нынче праздник!.. Враг и по праздникам сжигает дома и убивает людей! Иди!»
Он рванулся вперед, но ноги остались на месте.
«Бог знает, что будет, когда меня найдут?.. – поежился он. – Могут сжечь усадьбу…»
«У многих сожгли! – ответил он себе. – Если бы каждый так раздумывал, как я сейчас, давно бы всех перебили! Иди!»
Но ноги словно вросли в землю.
«Их будут мучить… могут убить!»
Теперь у него не нашлось ответа.
«Убить!»
Перед глазами снова возникли картины расправ и пожаров.
«Домой! – встрепенулся он. – Домой!..»
Он стремительно повернулся и зашагал обратно к Мелинскому лесу. Однако ноги его словно налились свинцом.
– Домой! – хрипел он, устремляясь вперед изо всех сил. И почувствовал, какой тяжестью наполнилось его сердце. – Ведь мне надо домой! – крикнул он.
– Домой? А вечером в Чаревой пещере будет лежать двенадцать трупов, – раздался в тишине тихий и неумолимый голос, и этот голос принадлежал ему самому.
Темникар замер на месте.
– А вечером в Чаревой пещере будет лежать двенадцать трупов! – прохрипел он, закрывая глаза.
Все у него в душе бурлило и клокотало. Он почувствовал резкую боль от рывка, точно он сам был столетним дубом и налетевший вихрь пытался вырвать его из земли, но не мог – длинными и узловатыми корнями своими, уходившими в неведомую глубину, он цепко держался за незыблемые и неодолимые скалы. И боль эта была такой страшной, что Темникар разом переменился.
Ему было уже не семьдесят лет. Ему было тысяча лет. Лицо его превратилось в серый камень, только глаза не были больше пустыми дырами, как на старых памятниках. В них пылал огонь.
Темникар выпрямился и оглянулся. Подступив снова к границе света и тьмы, остановился и взглянул на солнце.
– Теперь я пойду в Робы! – твердо сказал он, и голос его был стальным.
Солнце кивнуло.
– Они сожгли мой дом, убили мою жену, сына и дочь!.. Понимаешь?
Солнце снова кивнуло.
Темникар протянул руки, и солнце осветило его большие мозолистые ладони. Потом он сложил их вместе, будто хотел зачерпнуть солнечного света.
В этот миг запела труба.
– Иду, иду! – произнес он и ладонями вытер лицо, словно умывшись солнцем.
Снова запела труба.
– Прощай! – Помахав солнцу рукой, Темникар выпрямился и решительно переступил границу света и тьмы.
– Прощай! – пробормотал Петер Майцен, и у него сжалось сердце при мысли о том, что Темникар навсегда простился и с ним. Он почувствовал, что Темникар вышел за пределы того мира, который был доступен ему, Петеру Майцену, и который он кое-как сумел бы изобразить. Темникар вышел за эти пределы и живет сейчас по законам более высокой и более широкой трагической судьбы, до которой ему самому не дано подняться… – Прощай! – повторил он. – Ты перерос меня. Ты идешь вперед, в Робы, в бой, а я…
Он не закончил фразы, потому что звук трубы поднял его на ноги. Он вздрогнул и прислушался. Труба пела где-то совсем рядом.
Петер Майцен огляделся вокруг. По тропинке выше виноградника шла девушка, неся на голове лохань с выстиранным бельем. На ней была черная блузка без рукавов и зеленая юбка.
– Да ведь это она! – воскликнул Петер Майцен, напрягая зрение. – Та самая, что остановилась у явора. Это она, Яворка! Да, так и назовем ее – Яворка!..
Он спустился на тропу, чтобы перехватить ее.
– Добрый день, девушка! – обратился он к ней как к старой знакомой.
Девушка не ответила и не остановилась. На ее красивом лице было удивление, а за ним скрывалось что-то еще, чего Петер Майцен не мог определить: какое-то особое чувство, близкое печали и гордости, надежде и отчаянию.
– К омуту идете? – спросил он, указав палкой в сторону развесистого граба.
Девушка не ответила и не остановилась. Белыми руками она придерживала лохань, а ее сильное тело напряглось, как струна.
– Простите, что я к вам пристаю! – продолжал Петер Майцен и пошел рядом. – Кто это играет на трубе?
Девушка не ответила и не остановилась, лишь посмотрела бездонными синими глазами, чуть повернув голову в его сторону.
– Неужели взаправду этой чертовой трубы не существует? – удивился он.
Девушка не ответила и не остановилась, глаз ее он больше не мог видеть, потому что, обогнув виноградник, она стала спускаться в долину.
– Что за черт? – пробормотал Петер Майцен, останавливаясь возле старой ивы. – Ушла – гордая, как вила, презирающая простых смертных… И все-таки не очень веселая эта вила..
Девушка исчезла. В воздухе сохранился горький аромат печали.
«Что с ней? – спрашивал себя Петер Майцен. – И что сегодня со мной?.. Мне тоже все печальнее и тоскливее…»
Он оглянулся и снова затрепетал. Все вокруг опять было странным, почти нереальным: контуры холмов и деревьев, просторные поля и старые вербы, крыша на доме и дорога, белой змеей обегавшая склон, старый дуб и развесистый граб, омут и мостки, черная вода, которая беззвучно текла теперь между берегами черной травой. Все выглядело мертвым и пустым, пустым было и синее небо над головой – о, ни облака на нем! – пустой была земля под ногами, пусто было в груди. И он был один.
Чувство невыразимого одиночества и опустошенности было хорошо знакомо Петеру Майцену.
«Устал я, – утешал он себя, – разбит… устал от видений… И от сомнений…» Он прижался лбом к шершавому стволу старой ивы и закрыл глаза.
«Видно, не только со мной это происходит, – продолжал он. – Теперь…»
Неожиданно звуки трубы так сильно ударили его в спину, что он пошатнулся. Замерев, он ждал нового удара. И труба запела. Близко, совсем рядом. В винограднике.
Петеру Майцену стало легче. Он подошел ближе к кустам и раздвинул их. В трех шагах от себя он увидел старика, который дул в трубу. Это был невысокий коренастый старик с тупым носом, широкими ноздрями, подбородок его зарос короткой серой щетиной, блестящую плешь окружал венчик жестких волос, брови напоминали густые кусты, лицо покрывала сетка синих прожилок, водянистые глаза излучали грусть, в глубоких морщинах таилась скорбь.
«Старый Пан», – подумал Петер Майцен.
Рядом со стариком стоял мальчик лет пяти с круглым личиком, светлыми глазами и светлыми кудрявыми волосенками. И у него в глазах было что-то печальное, а на губах лежала тень грустной улыбки.
«Юный Пан», – подумал Петер Майцен.
Старый Пан протрубил две фразы грустной народной песни и тыльной стороной жилистой ладони вытер толстые губы.
– Еще! – умоляюще произнес юный Пан, поднимая руку.
Старый Пан грустно взглянул на него и погладил по голове. Потом набрал в легкие воздуха и приложил трубу к губам.
Юный Пан взмахнул рукой, и труба загудела.
И тут Петер Майцен внезапно вспомнил слова этой песни:
Лихая смерть придет,
мой погребок запрет…
V
Словно тяжкий груз свалился у него с души. И хотя пела труба печально и грустными были слова народной песни, хотя старик и мальчик тоже не выглядели особенно веселыми и в первый миг показались даже не совсем реальными, Петер Майцен вздохнул с облегчением. Он снова почувствовал под ногами твердую почву, природа ожила – он видел наконец трубу, которая так долго его тревожила. С легким сердцем и благодарностью смотрел он на мальчика и старика. Думал было подать голос, но продолжал стоять тихо и неподвижно, не желая нарушать это милое, трогательное согласие, которому труба придавала какую-то необычность и даже таинственность.
– Еще! – попросил мальчик, поднимая руку.
– Ведь уже три раза играл! – ласково ответил старик и погладил его по кудрявой голове.
– Ну еще один разик!..
– Погоди, дай дух перевести!
Старик отдал трубу мальчику. Бережно, с любовью тот принял ее в свои объятия, словно живое существо: ягненка, зайца или дикую козочку. Старик обхватил его за плечи, притянул к себе и, закрыв глаза, начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, будто утешая его или баюкая, а быть может, лишь для того, чтобы ощутить жар сердца, соединявший их. И солнце так же ласково и тепло освещало и его голову, и трубу.
– Идиллия! – произнес Петер Майцен; им овладело чувство той мягкой печали, которое появлялось всегда, когда он видел подлинно сердечную близость между людьми. «Старая идиллия. Дед и внук. У одного дыхание уже кончается, а другому его еще не хватает. Два поколения… уходящее и будущее, каждый на своем берегу, а между ними среднее поколение упрямо гребет по бурной и мутной реке жизни…»
– Мм… что поделаешь… так уж… – растягивая слова, пробормотал старик, не открывая глаз и не переставая покачиваться. И чуть слышно затянул своим глухим, надтреснутым голосом:
Лихая смерть придет,
мой погребок запрет…
– А потом еще три раза сыграете, – громко сказал мальчик и погрозил пальцем.
– Ладно, – покорно кивнул дед. – Три раза…
– Как всегда?
– Как всегда…
– А потом сказку?
– А потом сказку… Но ведь сказку я уже рассказывал! – встрепенулся старик и открыл глаза. – Разве не рассказывал?
– Хочу сегодня еще одну! – попросил мальчик. – Вы обещали две: одну утром, другую вечером.
– Ну, коли так, конечно, расскажу, – сдался старик. – Но сперва пойдем в погребок горло промочим.
– Только обязательно, ладно?
– Ладно, ладно, – согласился дед. – А вот солнышка надо побольше пустить. – Он наклонился к лозе и обеими руками раздвинул плети. Любовно лаская ладонью тяжелые гроздья, он протяжно приговаривал: – Вот так, вылезайте сюда!.. На солнышко! Солнышко вам соку даст, соку даст… Солнышко вам сахару даст, сахару даст.
– А как солнышко даст винограду сахару? – спросил мальчик, опускаясь на корточки рядом с дедом.
– Как?.. А вот так, возьмет и даст! – задумчиво ответил старик, не поворачивая головы. – Солнце все дает. Силу… Свет… Огонь… да, и огонь дает солнце… солнце дает… солнце! Да, да: солнце дает солнце! Все, что есть на свете, – все от солнца! Да, да!
– А где солнышко берет сахар? – спросил мальчик.
– Где берет?.. Просто он у него есть! – Старик отвечал рассеянно, продолжая подставлять гроздья солнечным лучам. – Издавна есть… И всегда будет… До тех пор, пока… А когда солнышка не станет, не станет и силы и света… И огня не станет… И солнца не станет! Не станет его больше! Что поделаешь!..
Лихая смерть придет,
мой погребок запрет…
Старик говорил медленно, раздумчиво, а напевал явно бессознательно и машинально. Исподволь повторяемая песенка стала как бы частью его самого, она сама собою звучала через равные промежутки времени. Потому и напевал он лишь первые две строчки.
– Дедушка, а оно само его делает? – раздался детский голос.
– Что делает? – Старик посмотрел на него.
– Сахар.
– Кто делает сахар?
– Солнышко.
– А, солнышко…
– Ведь вы сказали, оно дает сахар винограду! – не отставал мальчик.
– Солнышко?.. Конечно, дает. Сахар дает и силу дает…
– Дедушка, пойдем в погребок! – прервал его внук, которому, очевидно, стало скучно.
– Пойдем… – вздохнул старик и медленно, щадя свои старые больные кости, поднялся.
– Но сперва вы еще поиграйте. – Мальчик протянул трубу. – Ведь у вас уже перевелся дух.
– Перевелся… – печально улыбнулся старик и взял трубу. – Посмотри-ка, мое окошко еще закрыто?
Мальчик поднялся на цыпочки, вытянул шею в сторону дома с красной крышей и кивнул головой:
– Закрыто, закрыто.
– Мм, закрыто… – повторил дед и провел ладонью по глазам и лбу.
– А почему вы все спрашиваете про окошко? – спросил мальчик.
– Да так вот, спрашиваю… – ответил старик и положил ему на голову свою большую ладонь. – Спрашиваю… Что поделаешь!
Он вздохнул и запел:
Лихая смерть придет,
мой погребок запрет…
– Ну поиграйте!
– Сейчас…
– Ну пожалуйста! – не отставал мальчик.
Старик облизнул толстые фиолетовые губы, расправил плечи, набрал в легкие воздуха и поднял трубу, засверкавшую в солнечных лучах червонным золотом.
– Ну же! – приказал ребенок и взмахнул рукой.
Труба запела.
Петеру Майцену стало не по себе, как было недавно, когда он еще не знал, есть ли в самом деле труба, или это плод его воображения. Откровенно говоря, ему было жаль, что она пела не только в его воображении, почему – он и сам не понимал: мелодия не утратила ни выразительности, ни загадочности. Вернее даже, она теперь стала загадочной. Труба пела печально не только оттого, что песня была грустной, ее звуки сами по себе рождали более глубокую, неизбывную тоску. И его обожгла мысль о том, что, пожалуй, труба каким-то роковым образом связывает все, что происходит в его душе и вокруг него. Разве не долетели ее звуки до Черного лога и не подняли его на ноги, словно подтверждая его сомнения, мрачные раздумья, предчувствия смерти? Она вытащила его из дома. Не будь ее, он остался бы в комнате, спокойно сидел за столом и писал. А потом она запела и в его повести: она подгоняла Темникара в решающие минуты, толкала его вперед, побуждала действовать, вступить в бой и принять смерть. Неужели она в самом деле предрекает гибель?
– Еще! – Мальчуган опять взмахнул рукой.
Труба запела во второй раз.
– Как проникновенно она звучит! – сказал Петер Майцен. Его снова бил озноб, и, раздосадованный своим состоянием, он вступил в спор с самим собой: «Какая гибель? И какая тут может быть связь?.. Что общего между этим стариком и Темникаром? Что общего между Темникаром и Чернилогаром? Между Чернилогаром и этим стариком?.. Хотя нет! Здесь есть связь, должна быть связь! Чернилогар наверняка слышал трубу, но промолчал. Почему промолчал? И почему не велел мне идти в Тихий дол?.. Странно!.. Пожалуй, сейчас все прояснится. Все. И молчаливая гордая печаль Яворки станет понятной».
– Еще! – просил мальчик, размахивая рукой.
Труба запела в третий раз.
«Что за глупости! – покачал головой Петер Майцен, потому что недоброе предчувствие опять кольнуло его. – Что здесь прояснять? Дело ведь яснее ясного. Дед учит внука играть на трубе. И чтоб не мешать домашним, они ушли в виноградник. Вот и все!.. Нет, не то! Проклятое наваждение! Все подозрительно, все важно, все взаимосвязано, все загадочно! Хватит! По крайней мере на сегодня!.. Перекинусь словом со стариком, поиграю с мальчиком, приду в себя, успокоюсь, а потом домой – и за стол!»
– Еще! – твердил мальчик.
– Да ведь я уже три раза сыграл! – Старик ласково погладил кудрявую голову мальчика.
– Ну ладно, тогда пойдемте в погребок и расскажите сказку. – Мальчик взял трубу и повернулся, собираясь идти.
– Добрый день! – громко поздоровался Петер Майцен и шутливо добавил. – Так это вы тут трубите?
Старик и ребенок не проявили ни малейшего удивления при виде незнакомого человека.
– Мы, – не спеша подтвердил старик, – мы трубим…
– И долгонько трубите! – шутливо продолжал Петер Майцен.
– Долгонько… – грустно улыбнулся старик, словно оправдываясь. – Долгонько. Уже три дня…
– Да ну? – удивился Петер Майцен, не зная, как понимать его ответ.
– Три дня!.. – вздохнул старик. – Что поделаешь… Хотите пропустить стаканчик?
– Можно, – согласился Петер Майцен, только сейчас почувствовав, как у него пересохло в горле. – Вам тоже не помешает, раз вы три дня трубите! – добавил он с улыбкой.
– Три дня, три дня! – кивнул головой старик. – Что поделаешь, так уж это!.. Ну, теперь иди! – обратился он к внуку. – И не бойся!
– А я и не боюсь! – с обидой ответил мальчик.
– Чего ему бояться? – спросил Петер Майцен. – У меня тоже есть такой мальчик.
– Ну, вот видишь! – Старик ободряюще потрепал ребенка по плечу. – Господин тоже папа. И мальчик у него есть.
– А девочка? – заинтересовался мальчуган.
– И девочка есть.
– Как у нас, – кивнул дед. – Только она не дома. Нет ее дома. Мы ее к дяде отправили. А сами уходим на виноградник… Что поделаешь!..
– Играть его учите?
Старик грустно улыбнулся.
– Нет, – ответил он, снова кладя большую ласковую ладонь на голову внука. – По правде говоря, он меня учит. Так-то… Малец сам играет и просто помешался на трубе. Уж и клапаны перебирает, только дыхания пока не хватает. Но дыхание придет. Верно, Янкец?
– Так тебя Янкецем зовут?
– Янкец он, Янкец, – сказал старик, обнимая внука. – Янкец Блажич… Я тоже Блажич. Конечно, старый Блажич. А средний дома. Лежит…
– Больной?
– Больной, больной!.. Что поделаешь, так уж это!.. Ну, пойдем в погребок!
Петер Майцен хотел было проститься с ними, но ему вдруг стало жаль старика, а еще больше мальчугана, серьезного и грустного. Он подыскивал подходящее слово, но, так и не найдя его, протянул руку:
– Ну-ка, покажи мне эту мою трубу!
– Труба папина! – решительно возразил Янкец и посмотрел на Деда.
– Покажи, покажи! Ведь господин не съест ее!
Петер Майцен взял в руки трубу и внимательно осмотрел ее, хоть ничего не понимал в музыкальных инструментах. Он знал, что выглядит смешным, но не выпускал трубы из рук: его не покидало ощущение, что она на самом деле таит в себе печаль и что именно эту трубу слышал Темникар.
– Старая она, старая!.. – заговорил дед.
– А как ее зовут?
– Крылатый рог, – тотчас отозвался Янкец.
– Далеко ее слышно. Даже в Черном логе! – сказал Петер Майцен и посмотрел на старика.
– В Черном логе слышно! – воскликнул Янкец и схватил трубу. – Дедушка, сыграйте!
– Что ж тут удивительного! – спокойно ответил старик. – Труба есть труба… Потому ее и в армии держат… И в Судный день труба, говорят, заиграет…
– Только если вы будете играть на ней, то Чернилогар ее не услышит, – со значением сказал Петер Майцен и улыбнулся.
– Почему не услышит? – спросил мальчик.
– Сегодня он ее уже не слышал. – Петер Майцен обращался к старому Блажичу. – И диву дался, когда я сказал, что слышу.
Старый Блажич ничуть не удивился.
– Наверно, привык, – невозмутимо протянул он. – Знаете, ведь ухо постепенно привыкает… Или он глуховат. Может и такое быть, хотя ему не так много лет. Сколько? Пятьдесят. Всего-то и есть!.. Что поделаешь!.. Со временем все становится хуже. У одних раньше, у других позже; у одних – то, у других – се. Я, к примеру, хорошо пока слышу. Совсем неплохо слышу, слава богу! А вижу похуже… Ну-ка, Янкец, погляди, окошко еще закрыто?
– Закрыто, закрыто! Я смотрел, – ответил Янкец, вкладывая ему в руки трубу.
– Да, мы вон там живем. – Старик повернулся к Петеру Майцену, указывая трубой на дом с красной крышей.
– Красивый дом.
– Дом-то?.. Красивый, конечно, красивый…
– Видно, горел.
– Горел, конечно, горел… Что поделаешь, так уж это…
– Во время войны?
– Во время войны, конечно, во время войны… Что поделаешь!..
– Дедушка, поиграйте!
– Сейчас…
– Ну пожалуйста!
Старый Блажич облизнул губы и поднял трубу. Набрал в грудь воздуха, но не издал ни звука. Повернувшись к Петеру Майцену, он показал взглядом на внука:
– Не сердитесь, сударь! Ребенок есть ребенок!..
Петер Майцен вопросительно посмотрел на него, но тот уже держал мундштук у губ и зажмурил глаза.
– Давайте! – громко скомандовал Янкец.
Лихая смерть придет,
мой погребок запрет…—
запела труба.
«Она и вправду звучит печально – или это душа моя отзывается печалью? – спросил себя Петер Майцен. – Ну ладно, пусть дело во мне, и конец! Только хотелось бы мне знать, почему я должен сердиться? И почему они играют три дня? И почему окно должно быть закрыто? Или все это старческие причуды? Не понимаю. Ничего не понимаю. В самом ли деле он старый и дряхлый, или все его внимание поглощено одной мыслью и она ни на миг не отпускает его?.. Странно! Чернилогар болтлив и любопытен, как баба, а этого старика вовсе не интересует пришлый человек – кто он, откуда появился и что делает в этой глуши».
Труба запела во второй раз.
Петер Майцен огляделся. Взгляд его остановился на омуте. Яворка была уже там. Она стирала; намочив в воде простыню, она свернула ее и начала бить по белым мосткам. Потом вдруг выпрямилась и посмотрела в их сторону. «Будто слушает. И кто ведает, что труба пробуждает в ее душе? – подумал Петер Майцен. – О ней тоже ничего не удалось узнать. По крайней мере здесь… Но что же надо узнавать? Она прижалась к дереву и не захотела разговаривать. Что тут таинственного?»
Труба запела в третий раз.
«Верно, самое таинственное сегодня – это мое утомленное воображение!» Он поглядел на небо и опять увидел белое облако. И так обрадовался, что чуть было вслух не приветствовал его. В улетавших звуках трубы звенела печаль, но теперь в ней звучали и ласковые ноты. «Впрочем, и облако лишь моя фантазия наделяет смыслом, – усмехнулся он, – тем не менее я доволен. Какую надежду несет оно с собой? Что я начну работать? Конечно, оно велит мне идти домой и садиться за стол. И я пойду. Сейчас же пойду. Только вот в погребок загляну и распрощаюсь».
– Еще! – сказал Янкец.
– Да ведь я уже три раза сыграл, – ласково возразил дед, возвращая ему трубу.
Они спускались виноградником. Старый Блажич несколько раз останавливался, чтобы подвязать лозу к колышку или взвесить на ладони гроздь. Янкец ступал осторожно, словно опасаясь уронить трубу. Петер Майцен смотрел на Тихий дол, и всякий раз его взгляд задерживался на омуте, где большим цветком покачивалась Яворка.
– Чудесная долина! – сказал он.
– А, долина?.. – задумчиво переспросил старик. – Чудесная долина, конечно, чудесная долина…
– Спокойно, чисто, красиво: луг, речка, омут и этот косматый граб.
– А, граб?.. Граб тоже красивый, конечно, красивый граб…
– И девушка тоже ничего! – озорно произнес Петер Майцен и улыбнулся.
– А, девушка?.. – так же задумчиво повторил старый Блажич, не обращая никакого внимания на окружающее. – Девушка тоже ничего, конечно, ничего…
«Совсем не в себе старик, – подумал Петер Майцен. – Видно, забыл уж, что посулил мне стаканчик. Может, проститься?»
Но он никак не мог подобрать подходящих слов, и, прежде чем сообразил, что сказать, они уже подошли к дому.
– О, да ведь это мой погребок! – начал Петер Майцен с наигранным оживлением. – Совсем недавно я смотрел на него из долины. Он так приветливо улыбался мне со склона.
– Приветливо, приветливо… – закивал старый Блажич. Он совал толстую руку в трещины стены, под низкую соломенную кровлю, за косяк и под порог и все время чуть слышно напевал:
Лихая смерть придет,
мой погребок запрет…
– Ключ ищете? – спросил Петер Майцен.
– Ключ, конечно, ключ…
– Он в двери.
– А, в двери?.. Да ведь это я сам в двери его оставил! – глубоко вздохнул старик и неуверенно покачал головой. – Ну, что поделаешь!..
Он медленно отворил тяжелые окованные двери, пронзительно заскрипевшие проржавевшими петлями. Изнутри повеяло приятной прохладой, напоенной винным ароматом и запахом плесени.
Петер Майцен сел на порог.
– Сюда! Сюда! – приглашал старик внутрь, к ветхому прессу, где стояли две низенькие треногие табуретки. – Вон на ту садитесь! Это моя. Я там сижу. А Янкец – на пороге. Верно, Янкец? – ласково обратился он к мальчугану и, подойдя ближе, опять погладил его по кудрявой голове. – Да, вот так-то: я сижу в углу, а Янкец – на пороге. Чтобы дом был виден. Я-то плохо вижу… Да ведь я это уже вам говорил!.. Что поделаешь… Ну-ка, Янкец, погляди, закрыто ли окошко?
Янкец посмотрел в сторону дома и скучающим голосом сообщил:
– Закрыто, закрыто.
– Закрыто, закрыто… – бормотал старый Блажич. Он взял стоявший на прессе щербатый майоликовый кувшин и медленно подошел к бочкам с вином. Послышался глухой удар: старик выбил затычку. Потом, задержав дыхание, он по трубочке потянул вино из бочки. Вино полилось в кувшин, а старик негромко запел:
Лихая смерть придет,
мой погребок запрет…
Янкец сидел на пороге, держа трубу на коленях.
– Значит, твой папа играет на трубе? – спросил Петер Майцен.
– Папа играет. Только сейчас не играет, – ответил мальчуган.
– А почему?
– Потому что у него больше нет дыхания.
– Так тяжело болеет?
– Тяжело болеет, тяжело, – донесся из полутьмы голос старика, – что поделаешь…
– Но ведь он выздоровеет? – спросил Петер Майцен.
– Нет, не выздоровеет! – покачал головой Янкец.
– Кто это тебе сказал?
– Он сам.
– А что с ним? – Петер Майцен резко повернулся к старику.
– Чахотка у него, чахотка!..
– Нынче чахотку лечат.
– Лечат? – быстро переспросил Янкец.
– Конечно, лечат.
– А у вас была чахотка?
– Нет, не было.
– Не было? – протянул мальчик и с упреком посмотрел на него, словно хотел сказать: «Зачем же вы тогда говорите?»
– Эх, что поделаешь, так уж это!.. – снова заговорил старик. Плеск вина прекратился. Старый Блажич постучал по кувшину и забормотал. – Ну вот, довольно!.. Сколько нальется, столько и выпьется…
Он с шумом забил затычку и не спеша вернулся на свое место. Потом взял грязный стакан, повертел в нем толстым пальцем, подул в него, вытер о штаны и, поставив перед Петером Майценом, стал наливать. Вино струилось плавной дугой, цветом оно напоминало чуть разбавленную водой кровь.
– Пейте!
Петер Майцен выпил и отставил стакан.
– Кислое. Что поделаешь, раз солнца нет!.. – сказал старик, опускаясь на табуретку. Он молча налил себе и тоже выпил. Рука у него слегка дрожала, красная струйка потекла по небритому подбородку. Осушив стакан, он поставил его перед Петером Майценом и снова налил. – Пейте! – сказал он и, опершись локтем о колено, уставился прямо перед собой.
Молчание становилось тягостным. Не зная, что сказать, Петер Майцен опять повернулся к мальчику.
– А папа тебя иногда носит на плечах?
– Нет, – отрицательно качнул головой мальчик. – Давно не носит.
– А мама?
– Мамы нет дома.
– Нет дома, мамы нет дома… – забормотал старик.
– Давно уж нет! – вздохнул мальчик.
– Давно нет, давно нет!.. – вздохнул дед. – Что поделаешь, так уж это!..
– А куда она уехала? – спросил Петер Майцен.
– Уехала… Уехала… – Блажич развел руками. – Что поделаешь, уехала… Пейте!..
И снова воцарилось молчание. И снова стало горько Петеру Майцену.
– A у вас только один сын?
– Что, сын?.. Четверо у меня было, четверо! – качал головой старик. – Да троих уж нет!..
– Погибли?..
– Погибли, погибли!.. Что поделаешь, так уж это!..
– Нет, не так! – вдруг сказал мальчик. – Они сгорели.
– Сгорели, сгорели!.. – вздохнул старик и наполнил стакан. – Что поделаешь!.. Пейте!
Петер Майцен выпил и подождал, пока старик последует его примеру. Он надеялся, что старый Блажич расскажет подробнее о своих сыновьях, но тот молчал.
– А когда это случилось? – спросил Петер Майцен. – Когда дом сожгли?..
– Тогда, тогда…
– Как же это было?
– Как?.. Они домой пришли, а их окружили. Они не захотели сдаваться, и дом подожгли… Хотя откуда мне знать? Меня еще раньше взяли. Как ребята ушли в лес, меня сразу на Раб[75]75
На острове Раб находился концентрационный лагерь, где оккупанты держали заложников из гражданского населения.
[Закрыть] отправили. Мать дома одна осталась.








