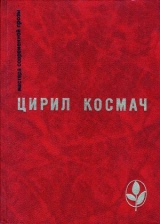
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
Я прилег рядом с тетей на вереск и, опершись на локоть, стал смотреть на зелень долины внизу; я надеялся, что от этого зрелища пройдет щемящая душу боль.
– Ты бы написал об этом, – нарушила молчание тетя.
– М-м, – неохотно буркнул я; мне было не до разговора.
Но тетя не отставала!
– Такая необыкновенная история! – воскликнула она.
– Пишут об обыкновенных историях, – сказал я, не глядя на нее.
– Конечно. Я ничего не говорю… Только подумай, какое совпадение! Чех и итальянец, вроде бы тесть и зять в одной могиле. Вдали от родины. Здесь. У нас. В Обрекаровой дубраве…
– В литературе такие совпадения не очень рекомендуются.
– Но если это правда! – вскричала тетя.
– Правда или неправда, эти случайности меня смущают. И в особенности смерть Джино. Смерть как слепой случай, без проявления его воли или действия внешних сил!.. Если бы я написал так, мне бы сказали, что я отправил Джино на тот свет, потому что хотел похоронить его в кадетовой могиле.
– Но если это было на самом деле? – снова горячо возразила тетя.
– Ну, хорошо! Пусть на самом деле. Только ведь ты же сказала Кадетке, будто Джино погиб при подрыве шоссе у Доминова обрыва. И сочинила ты это еще до того, как мы подошли к могиле. Ты думала об этом уже на Нижней поляне. А почему?
– По-че-му? – растерялась тетя. – Потому что…
Она развела руками и замолчала.
– Потому что ты сочиняла историю, – сказал я. – Ты старалась исправить, дополнить то, что случилось в действительности, догадываясь, что Кадетке будет не в пример тяжелее, если она узнает, как умер Джино. Ты чувствовала, что в Джино не было бы цельности, что ему не хватало бы чего-то. И потому ты послала его к Доминову обрыву, на смерть, которая убедительна и которая довершает его образ.
– Да, да, да! – подтвердила тетя, глядя на меня прямым и ясным взглядом.
– Вот видишь. И хоть это и неправда, а получается правдивее.
– Верно! – кивнула она. – Так выходит правильнее.
– Правильнее. Это ты хорошо сказала. Об этом и идет речь.
У искусства свои законы, которые нигде не записаны и тем не менее неумолимы, потому что это живые и незыблемые законы. Да что толковать… Ты сама увидишь. Скоро ты сама будешь верить, что Джино погиб при взрыве шоссе. Придет Кадетка, будет спрашивать тебя о его смерти, и ты станешь рассказывать ей, как он лежал у Трнаровых верб, как мужественно терпел боль и что поручил передать, прежде чем скончался. Ты забудешь о его подлинной гибели и уверуешь в вымышленную.
– О-о… – широко раскрыла глаза тетя. – Ведь и верно, так будет. Мне уже сейчас кажется, что он погиб там, на шоссе. Он ведь был подрывником. Когда он зажигал бикфордов шнур, то наверняка думал: «Сейчас бабахнет на всю долину, и Божена догадается, что это привет от меня». Господи, я уже брежу! – воскликнула она и схватилась за голову. – До чего это странно!..
– Странно, странно, – согласился я.
– И ты вот так и пишешь?.. Из головы?.. Странно!
– Странно. А самое странное то, что человек вкладывает в это всю свою жизнь, просиживает ночи напролет, открестившись от всего света, голодный и усталый до смерти, и пишет, пишет, пишет, хотя никто не давит на него и не заставляет. Откуда эта одержимость? И зачем она?.. Лучше бы я лес пилил!
– Ну-у! – остановила меня тетя. – Ты сердишься?
– Чего уж сердиться! – махнул я рукой, усмехнулся и добавил. – Если бы я и сердился, то это была бы только видимость, а не правда.
Я обвел взглядом долину. Она раскинулась, простираясь до самого Башского холма. Над ним тянулась целая толпа гор самых различных форм и размеров, а еще дальше величаво высился широкоплечий, старый, седой Крн, спокойным светом горел в лучах заходящего солнца. В эту пору вид гор быстро меняется. Прямо на глазах силуэты гор утрачивали четкость, тая в вечернем сумраке. На душе у меня стало тихо. Я спросил себя, откуда мне ведома эта картина. Да, конечно, пятнадцать лет назад я смотрел на нее с этой самой тропинки; рядом стояла двенадцатилетняя Кадетка с букетом ландышей в руках. Она подергала меня за рукав и, устремив на меня большие синие глаза, с детской серьезностью спросила, могу ли я представить себе, что меня могло бы не быть.
Вспомнив это, я покачал головой и усмехнулся.
– Нет, такого я и в самом деле не могу себе представить, – пробормотал я. – А если бы и мог, было бы очень жаль – я так люблю жизнь!
– Что ты сказал? – спросила тетя.
– Да так, ничего, – махнул я рукой. – Просто подумалось вслух.
– О Кадетке?
– И о ней тоже, – кивнул я. – Наверное, когда-нибудь я напишу о ней, несмотря на все эти случайные совпадения, которые меня так смущают. Главную-то роль все-таки сыграли две страшные случайности – две мировые войны.
– Значит, напишешь? – обрадовалась тетя.
– Напишу. И ты будешь сердиться, потому что не все будет так, как было на самом деле. Может, и мне придется соврать, как пришлось тебе.
– Только чтобы было красиво!
– Если будет верно, то будет и красиво, – сказал я и встал. Мы пошли вниз по Отцову лугу. На Нижней поляне мы остановились и еще раз обвели глазами долину, откуда доносились голоса и звуки работы. Подземлич по-прежнему стоял на скале, нависшей над омутом, размахивал руками и что-то кричал, подгоняя односельчан. Пара лошадей цокала подковами по дороге, Идрийца шумела, птицы пели, и все сливалось в единый громкоголосый пульс жизни. Мне почудилось, будто я стою в центре огромного сердца. О, это был такой прекрасный весенний день, светлый и звонкий, точно отлитый из чистого серебра.
БАЛЛАДА О ТРУБЕ И ОБЛАКЕ
© Перевод А. Романенко

I
Печально пела труба, и в голубом небе безмятежно плыло белое облако.
А чуть погодя…
Вначале все было очень просто и даже хорошо.
Они поставили на пол чемодан, рюкзак и пишущую машинку. Комната выглядела уютной, но немного темной. Быть может, она только казалась темной, потому что снаружи все было залито огненными лучами яркого послеполуденного солнца, отвесно падавшими с синего неба.
Хозяин ладонью вытер лоб и ленивым движением стряхнул со лба капли пота. Потом, прислонившись к подоконнику, почесал заросший подбородок. Это был высокий, тощий крестьянин, голый до пояса, в коротких штанах; он стоял в проеме окна, выходившего в узкий внутренний двор, куда падал поток ослепительного солнечного света, и поэтому был темным, почти черным.
Петер Майцен сразу подошел к столу, лишь мельком посмотрел на него. Взглянул машинально, по привычке. И так же быстро определил: «Почерневшая готическая статуя великомученика несколько увеличенных размеров».
Он решил, что сравнение удачно, но тут же и это сравнение, и сам человек стали ему безразличны. Голову переполняло множество образов, и на душе было слишком радостно. Он стремительно взялся за расшатанный стол и начал двигать его по неровному полу, чтоб установить покрепче.
Хозяин шаркнул ногой и глотнул воздух. Потом почесал подбородок и произнес:
– Хм, такое дело… Вы, значит, пишете?
– Пишу! – кивнул Петер Майцен.
– Хм, такое дело… Однако можно подумать, что вы учитель… или врач… или еще кто-нибудь в таком роде…
– А вот и не так! Я ведь без очков! – пошутил Петер Майцен. Был он среднего роста и средних лет. И выглядел сегодня веселым, оживленным, совсем под стать своей пестрой рубашке. «Я счастлив! Счастлив! Счастлив! – стучало его сердце в таком бурном ритме, что он даже чувствовал какую-то неловкость. – Счастлив, как ребенок. Я взволнован. Взволнован, как юноша, который впервые идет на свидание».
– Хм, такое дело, – протянул хозяин. – И вы пишете книги?
– Книги… – «А ведь это почти соответствует истине».
– Истории, так сказать?
– Истории… – «И всегда словно в первый раз».
– И выдумываете из своей собственной головы?
– Из своей собственной… – «Только женщина всегда другая». Петер Майцен усмехнулся, но лицо его на миг потемнело, будто по нему пробежала тень.
– Хм, такое дело, – поддакнул, почесывая подбородок, хозяин. – Это, так сказать…
– Ну конечно! – живо перебил его Петер Майцен.
– Я хотел сказать, что вы пишете… пишете вот так.
– Как? – оглянулся Петер Майцен. И в ту же секунду, поняв, радостно улыбнулся. – Разумеется, разумеется! Вот так, вот так! – Он легко повел плечами и отбросил светлые волосы с высокого лба. «Стоит наклонить голову над машинкой, и мысли сыплются из нее, как орехи из мешка». На его лбу, щеках и вокруг губ пролегло немало глубоких морщин, оставленных будничными заботами, прорезанных острыми ножами частых огорчений. Но сейчас лицо его озаряло вдохновение, возникшее еще в пути.
– Хм, такое дело, – продолжал хозяин. – Что в голову придет, то и напишете?
– Что в голову придет, то и напишу… – «Так просто, что дальше некуда! И если бы ты знал, до чего ж это приятно, приятно!»
– А иногда что-нибудь услышите и потом напишете?
– Бывает! – согласился Петер Майцен и снова скользнул по нему взглядом. «Верно, ты хочешь предложить что-нибудь свое? Но погоди, братец! Сейчас некогда! Меня ждут старые герои! Уже долгие годы ждут! Нетерпеливо ждет меня старый Темникар».
– Хм, такое дело, – тянул хозяин. – С людьми всякое случается.
– Всякое, всякое…
– И даже с обыкновенными людьми!
– Да ведь обыкновенные люди и есть необыкновенные.
– Хм, такое дело…
– А необыкновенные – большей частью самые обыкновенные.
– Хм, такое дело… Люди есть люди.
– А может быть, и нет! – вдруг возразил Петер Майцен.
Крестьянин глотнул воздух.
– Хм, такое дело… Иногда и нет!
– Нет, нет! – живо качал головой Петер Майцен, будто эта горькая истина чрезвычайно его обрадовала.
Крестьянин опять глотнул воздух.
– Что делать! – покорно вздохнул он. – Так уж повелось.
– Хм, такое дело! – невольно и неожиданно для себя сказал Петер Майцен и оглянулся. Сильной рукой он подхватил свой чемодан, легко кинул его на постель и раскрыл. В чемодане лежали книги, бумага и папки с неоконченными рукописями и черновиками.
– А о войне, – снова заговорил хозяин, – о войне вы тоже пишете?
– О войне тоже.
– Хм, конечно… Ведь о войне много чего еще можно написать.
– Много чего! Много чего! – закивал Петер Майцен. – И не только об атаках, боях, победах и о трубе, что после победы гремит свое «тра-ра-ра»! – Он положил пачку бумаги на край стола, приставил ладони к губам, поднялся на цыпочки и протрубил на три стороны света: – Тра-ра!.. Тра-ра-рааа!.. Тра-ра-раааа!
Хозяин вздрогнул и испуганно выпучил глаза.
– Ну как? A-а, вы удивляетесь, что я затрубил! – весело засмеялся Петер Майцен. – Ох, да вы разве не слышали, что художники – те же дети! Озорные и шаловливые невинные дети! Совершенно несерьезные люди! Разве серьезные люди станут мять глину, смешивать краски, писать стихи и разные истории? Еще чего! Это ведь детская забава. Потому серьезные люди художников всерьез и не принимают. И умные женщины их тоже считают дуралеями.
Крестьянин откашлялся и громко проглотил слюну.
– Хм, такое дело… Женщины…
– Такое дело! Такое дело! – прервал его Петер Майцен. Подбоченясь левой рукой и подняв правую, он пророчески вытянул указательный палец. – А после смерти приходит слава! Похороны за государственный счет, мемориальная доска на доме, где родился, жил и творил, мемориальная доска на доме, где умер, улица его имени, надгробие, памятник! А потом выступит бесстрашный отряд ученых, точно внимательных полицейских; угрюмо нахмурив лбы, поджав губы, они сперва сунут свои длинные носы во все его бумаги и бумажки, которые не успели сжечь домашние, потом пустятся по извилистым следам его жизни и в поте лица своего точно выяснят, куда он ходил, где бывал и пил, сколько у него было любовниц и как они выглядели, что он поделывал тут и что творил там, где служил в армии, где находился на штатской службе, сколько зарабатывал и как поступал со своими деньгами! Вполне профессионально, хотя и без перчаток, они ощупают его печень, почки и мочевой пузырь – о, мочевой пузырь у художников чуть ли не самое главное дело! – исследуют кишечник, вскроют сердце, распилят череп и измерят его, взвесят мозг, пересчитают ребра и волосы на груди! Ну, и всяк по-своему – ведь речь как-никак идет о том, чтоб доказать собственную оригинальность! И почему бы не доказать, раз представляется случай? Холодно и деловито они станут утверждать, что знаки препинания он расставлял по смыслу, а не в соответствии с общепринятыми правилами; что язык у него живой, образный и легкий, хотя нельзя сказать, что крепкий; что он был хорошим стилистом, пожалуй, даже слишком хорошим, ведь иногда его заносило в другую крайность, в артистизм; что он был мастером веристского, реалистического диалога, хотя его и нельзя причислить к чистым реалистам; что в его произведениях много эпических моментов, но ему никогда не удавалось подняться до подлинно эпического письма; что он оставался закоснелым лириком с весьма ощутимым романтическим душком; что сатирическая жилка у него была сильна и потому нередко касалась того, чего не следовало касаться; что его мысли, изящно сформулированные, большей частью даже оригинальные, тем не менее не могут считаться необыкновенно глубокими; что он придерживался передовых взглядов, хотя явно не слишком обременял себя изучением социологии; что образы у него жизненные и яркие, персонажи из плоти и крови, однако не монументальные, высеченные из камня фигуры; что он глядел на мир несколько свысока, с легкой усмешкой, хотя на самом деле был исполнен гуманизма; что он написал очень мало, но манера его письма изысканная, достаточно своеобразная и впечатляющая, хотя в конечном счете ему все-таки чего-то не хватает; что… что… короче говоря, вопреки всему и несмотря ни на что, он был человеком и художником, и по-настоящему жаль, что слишком рано сошел в могилу… Знаете, считается, будто все художники умирают рано, даже если им перевалило за сто…
Крестьянин удивленно моргнул и глотнул воздух.
– Хм, такое дело… Говорят, смерть никогда не приходит слишком поздно.
– Вы так думаете? – живо возразил Петер Майцен. – Иногда люди ждут ее и зовут, а ее нет и нет.
Крестьянин раскрыл рот, и костлявые его пальцы застыли на заросшем подбородке.
– Что? Разве не так? – спросил Петер Майцен.
Тот закрыл рот и громко глотнул.
– Ну, ну! – ободряюще улыбнулся Петер Майцен. – Не надо принимать все так серьезно. Я же вас предупредил, что художники народ несерьезный… Ясно? Значит, думы о смерти людям не нравятся. Да ведь и мне они не по душе. А сегодня другое дело!.. Почему?.. Потому что наступил мой час… тот счастливый час, когда я сяду работать. Тогда у меня хорошее настроение. Несколько странное, пожалуй, непривычное, но радостное. Мое настроение. В таких случаях для меня все – все, что есть, и даже то, чего нет, – живо, прекрасно, полно смысла. Ведь все это и есть жизнь. Даже в смерти!..
Хозяин оторопело смотрел на него.
– Вам, должно быть, удивительно такое слышать, но это так! – сказал Петер Майцен. – Да вы не волнуйтесь! Если я сам этого не понимаю, то и вы, должно быть, не поймете… Так-то! И хорошо, что так! – засмеялся он и повернулся к чемодану.
Он выложил папки на стол и принялся сосредоточенно и неторопливо их разбирать, хотя уже изнывал по той прекрасной минуте, когда сварит себе турецкий кофе, сядет к столу, зажжет сигарету и вновь наконец встретиться со своими героями. В нетерпении он отыскал папку с названием «ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» и раскрыл ее, чтоб просмотреть черновики.
И вот Темникар предстал перед ним. Его образ сейчас был более отчетливым и ясным, чем когда-либо.
Он стоял в черной от сажи раме сводчатых дверей, что вели в сени его старого уединенного дома. Стоял высокий и прямой, именно такой, каким был в тот зимний день, последний день его жизни, когда он вышел в последний путь – свой первый бой. Он стоял на выщербленном каменном пороге, в старых, разбитых сапогах, в старой австрийской солдатской шинели, в старой, облезлой меховой шапке, с баклажкой, наполненной водкой, у пояса, держа под мышкой топор, а в кармане – тяжелый заряженный револьвер.
«Как спокоен этот человек, – восторженно подумал Петер Майцен. – Как величественно спокоен! Хотя ясно чувствует, что жить ему осталось пять, может быть, шесть, от силы семь часов. Но он не думает об этом, хотя ни секунды не сомневается в том, что погибнет».
Темникар поднял голову. Ясный взгляд его из-под косматых бровей скользнул по крутому, покрытому снегом склону. На мгновение остановился на скалах под острым Вранековым гребнем, потом поднялся еще выше, к иссиня-стальному небу. Там, на самом горизонте, в лучах зимнего солнца слегка покачивалось прекрасное белое облако его жизни. В иссиня-стальных глазах Темникара вспыхнули две белые точки, две серебристые капли, но лицо оставалось спокойным, решительным, торжественным и почти величавым.
– Иду! – произнес он беззвучно. Ему захотелось еще раз заглянуть в длинные и темные сени, где у очага стояли три фигуры, трое встревоженных людей – жена, дочь, сын, по он не оглянулся. Быстро сошел с порога во двор, прижал к себе топор и ощупал револьвер.
– Ступай! Ступай, чтоб дьяволы не опередили тебя! Время не ждет!
– Время не ждет! – повторил Темникар и решительно шагнул в свежевыпавший снег.
Петер Майцен почувствовал, что у него затуманился взор, но продолжал смотреть ему вслед с гордостью и печалью.
– Время не ждет! Время не ждет! – вполголоса сказал Петер Майцен, отложил в сторону папку и опять наклонился над чемоданом.
Хозяин шаркнул ногой и откашлялся.
– Хм, такое дело. – Снова он скреб заросший подбородок. – Скоро это у вас идет?
– Что? – вздрогнул Петер Майцен: он совсем забыл о хозяине.
– Скоро, говорю, писание идет у вас?
– Иногда скоро, иногда нет, – пожал плечами Петер Майцен. «А Темникар пойдет скоро. Ведь я так давно перемалываю его, что, пожалуй, в самом деле ему пора лечь на бумагу».
– Хм, такое дело, – согласился хозяин. – Ведь у вас есть машина.
– Главное в таком деле, чтоб была тишина! И чтоб человеку быть одному! – с ударением сказал Петер Майцен. Он опустился на корточки возле чемодана и стал перебирать книги. «Надеюсь, этот бедняга не станет мне слишком надоедать! Я уехал из города, чтобы где-нибудь уединиться и спокойно писать, а вовсе не для того, чтобы кто-то целый день „такал“ меня по голове!.. Надо сказать, уголок я нашел подходящий. Очень мне по душе эта старая, непривычно белая, хотя и обветшалая, одинокая усадьба на краю долины, под черным сосновым лесом. И даже название по душе. Черный лог! Подходящее название для такого местечка! Правда, мрачновато, романтично. Но это пустяки, ведь такой пейзаж окрыляет воображение, а иногда можно взлететь под облака, в царство фантазии. Ничего плохого в этом нет. Фантазия искусству не вредит, как говорится. И люди с большим интересом относятся к выдуманным фигурам и вымышленным историям, чем к слепым копиям жизни… Конечно, конечно, жизненный уровень повышается, как утверждают. На рынке с каждым днем появляется все больше товаров, в том числе и таких, которые не только приносят пользу, но и приятны для глаза, веселят сердце. Поэтому необходим также и больший выбор – по-словенски мы, как обычно, сказали бы: ассортимент – изделий для души. Люди сыты литературными пирогами и мясом. Это, безусловно, здоровая и добрая пища, но теперь им охота отведать фазанчика, пестрой куропатки, чего-нибудь острого и пикантного… Конечно, конечно, мир еще не во всем ровный да гладкий, будничная жизнь вовсе не по-будничному бурная и безмятежная, героическая и робкая, горькая и сладкая, однако человек, несмотря на это, а может быть, благодаря этому, охотно переключается на другое, даже на фантастику, хотя именно там у него иногда дрожит и леденеет сердце, так как фантастика есть странное, странное и даже очень странное зеркало, которое, несмотря ни на что, не отражает и не может отражать ничего иного, кроме как опоэтизированную картину нашей собственной внешней и внутренней жизни… О, диалектика и сюда сунула свои пальцы! От нее не уйдешь! Словарь говорит, что это метод познания явлений природы в развитии как результат единства противоречий. У меня такое определение вызывает некоторую досаду: отчего не нашлось для обозначения результата словенского слова, однако особенно мне досадно, что результат-то – это человек. Еще чего! Вот так. И если ты диалектики не знаешь и не признаешь ее, то так и останешься явлением природы, которое диалектика толкает в противоречия, и результат этого – ты сам. О дикий зверь! (Я думаю об этом всерьез и с должным уважением, поэтому было бы уж слишком, если б какому-нибудь милиционеру от литературной критики вздумалось из-за этого призвать меня к ответу!) Итак, следовательно, у меня все хорошо и в полном порядке. Только старик попался скучноватый. Хотя, ничего не скажешь, он хорошо вписывается в пейзаж. Сумрачный какой-то, из него можно сделать романтическую, даже фантастическую фигуру.
Любопытно было бы заглянуть ему в душу. Но некогда… Да и вообще он меня не интересует. А почему? Потому что не нравится он мне. Не могу сказать, что он мне противен, просто не нравится, и все. Руки ему я бы не подал… Разве не странно, что есть люди, которые неприятны не только духовно, но даже своей внешностью. И этот таков. Я хорошо знаю, что не смог бы его описать, даже окажись он очень интересным. Я должен любить всех своих героев, если хочу их описать, даже тех, с кем я воюю и кого презираю. А этот мне не нравится. И чем дальше, тем больше. Чешется, бормочет свое „такое дело“, а лицо постное, будто у него язва двенадцатиперстной кишки… Должно быть, бедняга в самом деле хворает, вон как высох».
Хозяин откашлялся и громко проглотил слюну.
– Хм… такое дело. – Он продолжал почесывать подбородок. – Тишина… разумеется… тишина.
– Тишина! Тишина! – оборвал его Петер Майцен. «Причем не на один час! И не на один день! И не на неделю! Тишина, вообще тишина».
– Хм… Что касается этого, тут тишина… Если бы вы на зиму остались, тогда б еще больше узнали, что такое тишина!.. Одиночество тут будто лает на человека!
«Посмотри-ка, чего начесал, горемычный! – удивился Петер Майцен. – Ведь именно так Тилчка сказала Темникару, когда долгая зимняя ночь накрыла одинокий Темник». И Петер Майцен ответил словами Темникара:
– Одиночество-то пускай лает, только б люди не лаяли!
– Хм, такое дело, – скоблил подбородок хозяин. – Одиночество не всегда приятно, но и люди временами помеха.
«Что такое? Опять слова Темникара! – вздрогнул Петер Майцен, и вдруг у него на душе стало как-то неприятно. – Странно! Ведь они жили в сотне километров друг от друга и ни разу в жизни не встречались! Откуда эта непонятная связь?»
Он оглянулся и окинул хозяина взглядом. В самом деле! В проеме окна, в сверкающем потоке ослепительного солнечного света, который падал во внутренний двор, вырисовывалась старая готическая статуя великомученика несколько увеличенных размеров. Крестьянин был необычайно худым и изможденным. Лицо продолговатое, лоб высокий, глаза большие, щеки впалые, нос острый, опущенные книзу серые усы напоминали струйки неведомой застывшей жидкости. Он был голый до пояса. Под загоревшей дубленой кожей отчетливо вырисовывались узкие ребра. Живот его, казалось, никогда не наполнить. Короткие грязные штаны из темно-коричневого плиса мешком свисали с бедер, словно вырезанных из одного куска дерева. Из широких штанин торчали две длинные тощие ноги, но колени были необычно толстыми и узловатыми, будто их вырезал некий плотник, не очень заботившийся о форме, но думавший прежде всего о том, чтоб его изделия служили вечность.
«Нет, ничего у него нет общего с Темникаром. Даже отдаленно он его не напоминает. Темникар был богатырь, а этот – сущая жердь, хотя и не очень-то хорошо так называть человека».
– Хм, такое дело… – сказал крестьянин, шаркнув ногою. – Не обессудьте, а стоит?..
«А голос какой! Пустой и хриплый! Словно по деревянному желобу сыплется галька. Темникар говорил так, что все кругом гудело. Когда он исповедовался, вся округа знала о его грехах. „Тише, тише, Ерней!“ – утихомиривал его священник в исповедальне. А Темникар еще пуще: „Если богу надо знать, каков я, то почему бы не знать и людям! Или это бесчестно? Ведь я живу на земле, а не в небесах!“»
– Хм… – почесывался хозяин. – Вы же знаете…
– Конечно, знаю!
– Не обессудьте… я ведь так спросил.
– Что? Вы о чем-то спросили? – обернулся Петер Майцен. – Я не слыхал.
– Не обессудьте, я спросил: стоит ли?
– Что?
– Стоит ли писать?
– Нет! – хмуро ответил Петер Майцен, и темная тень вновь прошла по его лицу. «Этот дьявол мне в самом деле надоест. Он, конечно, думает только о деньгах, но попадает в самое больное мое место».
– Хм, такое дело… Люди нынче слишком мало читают… Ну, дети еще… Зимой… Или когда скотину пасут.
«Сейчас самое время выставить его из комнаты!»
– Слишком мало читают… О войне-то вовсе не желают читать… Войной все сыты.
– Разумеется…
– Хм, такое дело. Воспоминания горькие… И самые разные… И раны еще не затянулись, как говорится… Если вообще затянутся.
– Время все лечит! – решительно ответил Петер Майцен, кладя связку книг на стол. – Нельзя где-нибудь еще один стол раздобыть?
– Не верится, – покачал головой хозяин.
– Эх, если б нам все-таки где-нибудь раздобыть старый стол. Ведь у вас почти настоящий замок.
– A-а, стол? – переспросил хозяин. – Стол мы раздобудем. Такое дело. Только чтоб хуже не было!
– А что может быть хуже? – нервно спросил Петер Майцен, не сводя теперь глаз с лица крестьянина. «Я уже знаю, что может быть хуже, чего я боюсь и что меня гложет!.. Но погоди, погоди… похоже, тебя тоже что-то гложет?»
– Да ничего, ничего! – заторопился хозяин и даже попытался улыбнуться. – Это только так говорится. – Он все чесал свой подбородок. Пальцы у него были необыкновенно длинные, костлявые и коричневые, тоже словно выточенные из старого дерева.
«Не нравится он мне, ох не нравится! – покачал головой Петер Майцен. – Может, он в самом деле бедняга и мученик, а мне не нравится!..»
– Ну, пошли за столом?
– Сейчас? – Хозяин и не думал трогаться с места.
– Сейчас, сейчас!.. – «Ему некуда спешить! Вот придет к нему смерть и скажет: „Пошли, Чернилогар!“, а он почешется только и переспросит: „Сейчас?“»
Они вышли из комнаты и в конце темного коридора увидели старый стол. Петер Майцен вытер его лежавшей тут же перепрелой тряпкой.
– Так, теперь все будет в порядке! – произнес он с ударением.
– А будет? – спросил хозяин.
– Конечно, будет!..
– Ну, только чтоб было… а если не будет…
– Будет! Будет! – прервал его Петер Майцен и рывком поднял стол себе на голову.
– Ну, только чтоб было, – ответил хозяин и вошел следом за ним в комнату.
Петер Майцен поставил стол и в сердцах принялся двигать его по неровному полу так, что все загремело.
– Хм, такое дело, – сказал крестьянин, снова прислонясь к косяку. – Расшатанный, но сойдет.
– Разумеется, сойдет!.. – «Да не отвечай ты ему больше! – упрекнул себя Петер Майцен. – Не отвечай больше, скорее уберется!» Он высыпал сигареты из коробки, чтоб подложить ее под ножку стола.
– Хм… Если еще что понадобится, скажите.
– Скажу! Скажу! – согласился Петер Майцен. «Нет, больше не скажу ни слова! – Он согнул картонку и опустился на пол, чтоб сунуть ее под ножку. – Спокойней! Чего ты с ним болтаешь? Думай о Темникаре!»
И, собравшись с мыслями, он снова обрел способность видеть и слышать.
– Нет, больше не скажу ни слова! – решил Темникар, натягивая сапог.
– Ну и ладно, – огрызнулась Темникарица, сажая в печь горшок. – Дурень – он и есть дурень!.. Хоть до утра его тряси, ума не сыщешь!
– Ни слова не скажу! – повторил Темникар и надел другой сапог.
– Скажи хоть, что на тебя вдруг нашло!
Темникар подошел к закопченному буфету и снял с гвоздя свою старую солдатскую австрийскую баклажку, прикидывая про себя уже в который раз: «Дьяволы пойдут по дороге, потом по Вратаровой тропе, а я махну через Мальнову гору и упрежу их. Пойду по целине и упрежу их. Этим кротам псоглавым некуда спешить в такой светлый день».
– Скажи, Ерней! – повелительно произнесла женщина и с грохотом поставила в угол ухват. – Будь человеком! Почему я всю жизнь должна ругаться с тобой?
– Хм, такое дело, – не унимался хозяин. – Что говорить, ведь мы все-таки люди.
– Разумеется… – рассеянно пробормотал Петер Майцен, раскладывая книги на столе.
– Поговорить ведь надо, да…
– Разумеется… – «А со мной уже кончено!»
– Со мной уже кончено, – сказал Темникар, наливая в баклажку водки.
– Да? – пренебрежительно фыркнула Темникарица. – Хотела б я знать: почему мне не придется больше с тобой ругаться?
– Со мной уже кончено…
– До самой смерти буду с тобой ругаться! Ведь хорошо знаю, что бог тебя разумом обидел!
– Я говорю: со мной уже кончено…
– Хм? – снова фыркнула женщина. – Неужто ты думаешь, будто та, с косою, поджидает тебя за углом?
– Нет, за углом не поджидает, – спокойно возразил Темникар и вышел за дверь, где в сенях висела его старая австрийская солдатская шинель.
– Ну да! А если б и поджидала, все равно коса ей не поможет. Тебя колом надо!
– Можно и колом! Кто знает… – прозвучало из тьмы, и голос был какой-то непривычный, тихий и проникновенный.
– Ерней! Что с тобой сегодня? – Судорога перехватила ей горло.
– А что? – спросил Темникар, отворачиваясь, чтобы жена не видела его лица.
– Какой-то ты чудной… Словно и не ты…
– Почти сорок лет не был я самим собой, а сегодня вот опять стал.
– Неужто? – насмешливо возразила женщина. – Обеими ногами в могиле стоишь, а только о своей первой и думаешь!
Темникар замер на месте. «Смотри-ка, – сказал он себе с укоризной, – ухожу, а о ней и не вспомнил!.. Тилчка!» – позвал он ее мысленно. И вот она стояла перед ним, живая, белая, светлая, какой давно уже не была. Тилчка! О, сколько раз в тот короткий, такой короткий год, который они прожили вместе, она пряталась в угол за большой дверью в сенях, а он искал ее, искал по всему дому и звал, звал; когда же в конце концов останавливался посреди комнаты и с детской обидой начинал ругаться, Тилчка не выдерживала, бросала в него из темного угла свой звонкий смех, словно золотое яблочко, он молнией отскакивал в сторону и молнией кидался к ней; а она умолкала, прижимая к высокой груди свои маленькие кулачки, белая, тонкая, хрупкая, дрожащая, как тростинка, ибо ждала и боялась того огненного вихря, что с дикой силой пробуждался в нем. Тилчка! Она всегда пряталась от него за дверью, и он упрямился, не хотел искать ее там, ведь она столько раз там пряталась, теперь наверняка спрячется где-нибудь в другом месте… А потом, когда ее навсегда унесли из дома, он долгие годы, входя, первым делом глядел в угол за дверью. Сперва она виделась ему такой живой, что у него начинало ныть все тело, потом ее образ потускнел, и она стала являться ему редко, да и то в виде туманного облачка. Сорок лет – это сорок лет? И они лишь подтвердили старую истину, что большая любовь и большая печаль не живут вечно: большая любовь сгорает в собственном огне, большая печаль тонет в собственном море… Но остались воспоминания, добрые воспоминания, какие остаются лишь после больших и чистых чувств, и после минувшей печали тоже. Тилчка! Странно, а сейчас это уже перестало быть воспоминанием! Она снова стояла перед ним, белая и нежная, со светлой улыбкой во влажных глазах, прижав маленькие кулачки к высокой груди, такая живая, что Темникар не успел и удивиться. Он лишь поскорее скинул шинель и спрятал за ней Тилчку, чтоб жена не увидела.








