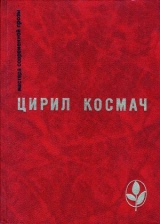
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Му-у-у… – замычала корова.
– Ладно, хватит! – махнул рукой Темникар. – Знаешь, о своих драках я всегда интересно говорил. Да не только говорил, иногда кое-что и показывал. Однажды так распалился, что схватил стул – хотел изобразить, как разбил лампу на Плешах, – замахнулся да и в самом деле разбил… Чего ж удивляться, что меня охотно слушали? Зимними вечерами сидим у печки, скучно всем, вот меня и просят: «Расскажите, отец, как вы дрались на Плешах!..» Это была самая знаменитая моя драка. Мы схватились тогда из-за Тилчки, хотя им я этого не говорил. Янез Грегорчев намекнул, будто она в полночь окно открывает, а мне этого было довольно; вскочил я, схватил стул – и по лампе, чтоб потемней было. Потом поплевал на ладони и начал. Двенадцать парней выкинул в дверь, а других выбросил через запертое окно. Ну, уж было тут воплей да звону. А когда дело к концу подошло и бабы принесли свечи, увидел я, что почти все стекла перебил, сломал стол и расколотил шесть стульев, а о посуде и говорить нечего. Да, знаменитая была драка!..
Му-у… – замычала корова.
– Ох, конечно! – вздохнул Темникар и опустил голову. – Сам-то я хорошо знаю, что никогда в жизни не был в Плешах!.. И никогда в жизни не дрался!.. Что поделаешь! С годами я так привык восторгаться своими драками, что, случалось, сам себе, когда скучно станет, рассказывал о них… Поначалу, конечно, стыдно было врать за здорово живешь, а потом… Как избавиться от собственного вранья? Лучше всего поверить, что так оно и случилось на самом деле. И, уверовав, я иногда мог побожиться, что все именно так и обстояло!.. Да и почему бы не быть этому правдой? Почему бы мне не ударить? Разве я трус? Еще чего! Сильный я был, парень что надо. Только подходящего случая не было… Да. Женился я молодым. И жили мы мирно с Тилчкой. Чего ради мне драться? А когда она умерла, и во мне что-то умерло.
Му-у-у… – грустно замычала корова.
– Не реви! – сказал Темникар, взяв охапку сухого клевера. – На-ка, клеверу пожуй, хоть ты его и не заслуживаешь. Ладно уж, коли день такой выдался! – Он потрепал корову по теплой шее и отошел от яслей. В дверях опять оглянулся. – Знаешь, Пеструха, последний раз тебе говорю, смотри у меня! Прошлый месяц я тебя вывел, а если ты и теперь не понесла, то отдам тебя партизанам. Я уже обещал интенданту Урху. Второй месяц пошел.
Му-у-у… – повернула к нему морду корова.
– Ничего не поделаешь, моя дорогая! Такие теперь времена, никто не имеет права яловую жизнь вести! – сказал Темникар и вышел из хлева.
Му-у-у…
Темникар не оглядывался. Медленно закрыл он за собой двери, радуясь в душе, что его не будет на свете, когда придут за Пеструхой…
Му-у-у… – мычала корова, уже очистившая ветки от листьев.
– Усердная ты, ничего не скажешь! – Петер Майцен почесал ей между рогами. – И большое тебе спасибо, что голос подала. Кто знает, может, я и в самом деле не вспомнил бы о Темникаровой Пеструхе…
Му-у-у…
– «Му-у-у…» Да, да… Что ты знаешь об этих делах? Ничего! Крутишь себе хвостом да мычишь. – Петер Майцен засмеялся и покачал головой. – А что сказали бы эстеты новейшего времени, увидев, как я разговариваю с тобой о своих героях?.. Скорей всего, что это неэстетично… А что мне делать? Разве Темникар не разговаривал со своей коровой? Конечно, разговаривал, только он был крестьянином, а не писателем!.. Ну и что из того? Разве он иначе к жизни относился?.. Чего, собственно, хотят эти новоявленные эстеты? Крутят хвостом да время от времени издают невнятное мычание. А то вдруг бросятся, выставив рога, в какую-нибудь новую дверь, что тоже не причислишь к вершинам эстетики. В конце концов, это даже менее оригинально, чем разговаривать с коровой об искусстве.
Му-у-у… – подала голос корова.
– Вот так! – кивнул Петер Майцен. – А теперь я пошел! Надо спешить. Я уже все обдумал. Увидел все основные эпизоды, кроме схватки в Робах. Но прежде, чем я напишу о ней, мне откроется и самый бой…
Он поспешил по дороге, которая чем дальше, тем больше напоминала грязную канаву. Наконец грязь стала такой глубокой, что Петер Майцен задумался, как бы поскорее выбраться из этой ловушки.
И тут вновь запела труба – так близко и так громко, Словно играли у него над головой. Петер Майцен, успевший уже позабыть о ней, сперва даже растерялся, а потом погрузился в раздумье.
«Раз это так близко, – решил он, – пойдем поглядим, кто трубит!»
Он оперся на свою палку и выскочил из наполненной грязью канавы.
IV
Петер Майцен стоял на правом склоне Тихого дола, над виноградниками. Труба пела, и хотя это по-прежнему была печальная народная мелодия, звучала она теперь как-то торжественно, словно повелевала ему остановиться и вглядеться в тихий уголок, что открывался перед ним. И в самом деле красота долины так захватила его, что он позабыл обо всем на свете.
– Вот тебе снова Тихий дол! – вслух произнес он. – Все как на ладони. И какая красивая, какая мягкая ладонь! И как здесь тихо!
Звуки трубы находили волнами – подобно раскрывающемуся занавесу – и не спеша уплывали в стороны, в покой и тишину.
Петер Майцен выпрямился и так глубоко вздохнул, будто хотел вобрать в себя всю зеленую прелесть земли, всю голубую красоту неба – с их миром и тишиной. Он осязаемо почувствовал, как воздух наполнил легкие и он взмыл ввысь и как затем отдалось в сердце биение драгоценного мига, мига радости, мига счастья, того подлинного счастья, которое делается еще полнее от капли горечи, ибо сердце, особенно сердце зрелого мужчины, отведав сладкого напитка, жаждет большей частью того, что покрепче и чуть отдает полынью.
– Разве не чудесно! – воскликнул он и раскинул руки, словно желая обнять долину. – Где-то здесь, возможно под тем виноградником, и будет тот гостеприимный, уединенный белый дом, что похож на белокурую и черноокую девушку с молочно-белой кожей. Чуть совсем не позабыл! Правда, я пообещал тем развесистым ивам у речушки, что на обратном пути спущусь к нему. И я спущусь, растянусь на мягкой траве! А пока посижу здесь, досыта налюбуюсь. Темникар подождет. В конце концов, будет даже полезно, если этот благодатный Доленьский край вызовет в памяти у меня суровую Толминскую сторону.
Петер Майцен опустился на землю, но, опасаясь, что его одолеет привычная слабость, иными словами, что он незаметно для самого себя опрокинется на спину и предастся бесплодным мечтаниям, торопливо поднялся, сел на дубовый пень, закурил и погрузился в созерцание.
«Так!.. А теперь оглядимся! На дне долины – луг, бескрайняя ровная постель, покрытая пушистым одеялом зеленой травы. По ней петляет река. Мокрая трава тут позеленее, а вода почти черная… Берегом шагают три ивы – три тетки, три косматые бабы. Недалеко же они ушли. Вот спущусь в долину, как следует всем трем дам по заднице палкой. С места даже не сдвинулись. Даже до омута не добрались».
Он склонил голову набок и перевел взгляд на развесистый граб, что рос над омутом.
«И все-таки, неизвестно отчего, люди туда не ходят. Дерево выглядит на диво серьезным, печальным, хмурым. Неподвижно глядит оно прямо перед собой в прозрачную глубину омута. Конечно, омут принадлежит ему. Это его глаз – большой, глубокий, зеленый глаз… Чего только не видел этот глаз!.. И где теперь то, что он видел?.. В кроне?.. Конечно, в кроне! Каждый листок этого граба отражает картину, некогда увиденную им в омуте… О да, да! Когда молодая прачка расстелила выстиранные белые простыни на зеленой траве и разделась, чтобы выкупаться, в тот самый миг, когда она на секунду застыла на краю мостков, прежде чем броситься в воду, граб потихоньку переснял с водной глади ее изображение, свернул его и спрятал в своих жестких листьях… Кто знает, сколько прекрасных картин хранит он в своей густой темной кроне!.. А когда граб остается один, особенно осенью, предвещающей одиночество и зимнюю спячку, может быть последние в его жизни – по скупым, убывающим сокам он уже чувствует, что старые корни изнемогают, – он медленно, один за другим роняет листья в омут, который уже не глаз его, а зеркало памяти, и каждый листочек раскрывается на водной глади, картина оживает еще раз, а потом со слабым трепетом исчезает навсегда, подобно тому как туман перламутром заволакивает в зеркале любое изображение… Так старый граб пересчитывает дни, что приходили и ушли…»
Петер Майцен горько усмехнулся и покачал головой.
«Да, дорогой мой граб, жизнь длинная и серая, лишь мгновения в ней золотые!.. А мы легкомысленно проматываем их, как проматываем золотую монету, когда она попадает нам в руки… Так повелось, что не умеем мы обращаться ни с золотом, ни со счастьем!»
Он бросил окурок и каблуком вдавил его в землю.
«Хватит. Оставим это! Мир, что лежит передо мной, тоже из золота. И я сейчас в нем. Вон там, в тени граба, белые мостки. Они белеют, как белая утка, как белая чайка, как белый лебедь. Далеко они, в самой глубине, а какие они светлые и живые! Ей-богу, живые! Разве не удивительно, что иногда, когда поблизости нет человека или животного, неживые предметы вдруг оживают? И какие между ними гармоничные отношения… Да, все живое! И дорога живая. До чего же хорошо! Вместе с грабом и рекой, с ивами и отавой она прекрасно вписывается в песнь долины… А вон там, на склоне, стоит дуб. Выше – поле цветущей гречихи. Оно ласковое и розовое, как жаркая девичья песня… Когда над ним жужжат тысячи пчел, оно колышется и поет, словно лежит на склоне девушка в белом, глядит в синее небо и поет свою звонкую песню без слов… Но пойдем дальше! Над полем лужайка, а на ней усадьба. Среди старых фруктовых деревьев стоит красивый дом, крытый красной черепицей. Крыша, видно, новая. Конечно, новая, ведь свежеобожженная черепица полыхает на солнце, как пламя…»
Он улыбнулся и громко произнес:
– Красная крыша на солнце пылает, как пламя, среди зеленых деревьев!.. Ничего не скажешь, хорошее сравнение, яркое и…
Он не закончил фразы.
«Да, сейчас это хорошее и яркое сравнение, а не так давно было страшной действительностью. Дом ведь горел! Стены и теперь еще закопченные… Должно быть, во время войны горел. Разумеется, подожгли. Ничего удивительного, сколько домов сожгли! Темник тоже сожгли!»
«Как? Разве Темник сожгли?»
Подумав, он покачал головой.
«Не знаю… Впрочем, мне это не приходило в голову. Естественно! Мой рассказ кончается гибелью Темникара. И вообще я пишу о Темникаре, точнее, о его последнем дне: от зари, когда он проснулся с этой глыбой в желудке, до захода солнца, когда, сраженный пулями, умирал в Робах».
«Верно, но…»
«Никаких „но“! – поспешно возразил Петер Майцен, чувствуя, как в нем просыпается та неведомая сила, которая побуждает его творить. – Если б я начал писать о последствиях его поступка, я разрушил бы все здание новеллы, которое сейчас выглядит незамысловатым, но цельным. Все, что произошло в Темнике после его смерти, выходит за эти рамки!»
Однако все было напрасно. Неведомая сила не слушала формальных доводов разума, напротив – готовилась к взрыву. Он сопротивлялся, инстинктивно опасаясь, что новелла будет расти и потом разлетится на куски, как уже случалось не однажды.
«Нет, нет! Это выходит за рамки новеллы!» – упирался он. Но сердце билось сильнее, знакомое опьянение кружило голову.
И он сдался.
«Верно. Темник тоже могли сжечь».
«Разумеется, сожгли! – прозвучал ответ. И в тот же миг это стало правдой, живой и неопровержимой правдой. – Когда в Робах нашли убитых белогвардейцев и мертвого Темникара…»
«А его нашли?»
«Разумеется! Мартин Лужник с солдатами не вернулись к полуночи из своего вифлеемского похода, да и на рождество их не было, и тогда Венц Заплатар…»
«Эта Проклятая Каланча?»
«Вот-вот! Его и прозвали так потому, что он был длинный, как жердь, и при желании мог бы разглядывать черепицы на крышах. Когда-то он сватался к Юстине Темникаровой, а во время войны стал переводчиком в гарнизоне и проводником, потому что знал все козьи тропы. Он поднял на ноги эту сволочь, и они пошли искать Мартина и четверых его солдат».
«А потом?»
«Потом они нагрянули в Темник. И расправились со всеми. А Темникарица…»
«Нет, нет! – воспротивился Петер Майцен еще не додуманной до конца правде. – Это невозможно!»
«Но ведь невозможно и то, что старая, маленькая и вздорная Марьяна вела себя как мужчина!»
«Да, это непонятно!»
«Непонятно? Разве мало было в этой войне непонятного!.. Просто человек и сам не знает, что в нем таится. Как часто лишь страшное испытание обнаруживает ту кладовую, где под спудом лежат драгоценный опыт и безмерные силы людские. Так произошло и с Темникарицей… О, если бы Темникар увидел ее, он глазам своим не поверил бы, он и представить себе не мог, что такое может таиться в этой высохшей прялке, как много раз он ее называл. Когда ее поставили перед дулами винтовок… нет, нет, еще раньше… едва она увидела…»
Тут их увидел и Петер Майцен.
Они двигались длинной цепочкой по заснеженному полю, словно черная змея медленно извивалась на белом песке. Холодное зимнее солнце неподвижно висело в холодном небе и обливало холодными лучами холодные каски, что мерцали холодным блеском, подобно тому как холодно поблескивают освещенные солнцем холодные пятна на холодной змеиной спине.
Темникарица, держа в руках лоханку с помоями, вышла из кухни на «кафедру» – так окрестил Темникар галерею с южной стороны дома, – она любила стоять здесь и отсюда наставлять и поучать его, что и как нужно сделать. Она подошла к перилам, чтобы выплеснуть воду из лоханки, и окаменела. Вода полилась ей на передник, а она, словно заколдованная, смотрела на черную змею, медленно и беззвучно подползавшую к дому.
– Значит, идут! – произнесла она. И голос ее прозвучал глухо и удивительно спокойно, ибо правда сама по себе была столь страшной, что страха она уже не ощущала. – Значит, идут! – повторила она тем же глухим и спокойным голосом, но с долей непонятного горького удовлетворения, будто поджидала их давно.
Она и впрямь ждала их вчера, ждала всю нескончаемую минувшую ночь. Не раздеваясь, она лежала на печи, готовая ко всему. Стрелки часов упрямо бежали вперед, но в то же время едва двигались, потому что возле стояло окаменевшее недоброе время и удерживало их своей тяжелой рукой. Часы тикали непривычно громко, и с каждым их биением в сердце Темникарицы падала и застывала капля горечи; ей казалось, что с каждым биением вздрагивает весь Темник, что хутор безостановочно отдаляется от деревни и словно куда-то проваливается. Она инстинктивно чувствовала, что судьба покинула ее, что она отрезана от мира. Она лежала на спине и отчетливо видела, как дом прижимается к крутому склону, будто гнездо к скале, а внизу – бескрайнее заснеженное поле, словно песчаная пустыня под лунным светом. И по этой пустыне медленно и беззвучно ползет черная гадина, которая разрушит ее гнездо и прикончит их. Хруст оледеневшей ветки, скрип старой доски на чердаке под тяжестью снега заставляли ее вздрагивать и тревожно вслушиваться.
– Идут!
И впрямь они подходили. Женщина осторожно поставила лоханку, выпрямилась и худой рукой прикрыла глаза от ослепительного блеска снега на белой поляне.
– Человек тридцать будет! – определила она. – Всякой твари по паре, только немцы в шлемах.
Она понимала, что надо скорей идти к сыну и дочери, но не тронулась с места. Неподвижно стояла и смотрела, как змея наконец пропала за поворотом Нижней нивы, словно медленно зарылась в сверкающую белизну. Темникарица перевела взгляд на край Верхней нивы и стала ждать…
– Долго их нету! – сказала она. И на самом деле долго их не было, потому что рядом с нею стояло окаменевшее недоброе время.
Наконец змея вынырнула из снега, повернула влево и поползла по краю Верхней нивы. И тут Темникарица заметила носилки.
«Его несут! – мелькнуло в голове. – Нашли!..»
Она повернулась и быстро вошла в кухню. Кинулась к двери в комнату, но вдруг снова застыла на месте.
– Он мертвый! – сказала она. И в тот же миг поняла, что она тоже мертва. Почувствовала, как с нее спадает бремя плоти, как она становится все более и более легкой – такой легкой, что, боясь упасть, она уперлась коленями в печь. Закрыла было глаза, в ушах так зашумело, будто вот-вот голова лопнет, и она поскорей открыла глаза. Посмотрела на свои худые руки, пошевелила пальцами, руки показались ей чужими – две мертвые культяпки, изработанные орудия. Она стиснула кулаки, потом, вспомнив, что больные перед смертью любят смотреть на свои руки, спрятала их под передник. Вздрогнула, оглянулась вокруг и вернулась к действительности.
«Юстина! Тоне!» И тотчас поняла, что они оба уже мертвы. Она опустила веки и на миг отдалась во власть шума, потом собрала все силы и снова стала такой, какой была с той самой минуты, когда Ерней в сочельник исчез вдали и она поняла, что он больше не вернется, – безмолвной и твердой.
Выпрямившись, она неторопливо вошла в комнату. Сын сидел на лавке. В правой руке он держал зуб от грабель и, прищурив один глаз, разглядывал его, левой рукой почесывал шею. С тоской вспомнила она Ернея и пожалела, что Тоне не похож на отца, что не может он сейчас вскочить и схватиться за топор. Она посмотрела на печь, где сидела Юстина и плела кружево на коклюшках. Пальцы ее быстро перебирали сухо пощелкивающие палочки. Девушка встретила мать покорным вопрошающим взглядом, но та сделала вид, будто не понимает ее. Темникарица подошла к столу и еще раз посмотрела на своих детей. Сперва она решила, что лучше им оставаться на месте – не надо их тревожить, но материнский инстинкт оказался сильнее ее воли, и из самого сердца ее вырвался вопль:
– Бегите! Нет! Ступайте на сеновал! Заройтесь в сено! Быстрей!
Тоне подскочил, как подброшенный пружиной, Юстина медленно выпустила из рук коклюшки.
– Нет! – передумала Темникарица, сообразив, что все напрасно. «Они уже повернули к Старой ниве», – вспомнила она о черной змее.
– Что такое? – спросила Юстина, испуганно хлопая глазами.
– Не бойтесь! – ответила мать. – Ступайте наверх! В светелку!.. И не шумите!
– Немцы?
– Не знаю… Ступайте наверх! Не бойтесь!
– И отца нет! – захныкал Тоне.
– Ступайте! – приказала мать. – Не бойтесь!..
Они пошли к двери, но на пороге остановились.
– Ступайте! Ступайте!.. Не бойтесь! – Она притворила за ними дверь и замерла, закрыв глаза. И опять услышала оглушающий шум, опять ей почудилось, будто она проваливается. – Вот они уже у Скопичника! – произнесла она и мысленно увидела черную змею, ползущую вдоль ручья. Открыв глаза, она огляделась вокруг. Что-то должно завершиться, но что именно – неизвестно. На миг она задумалась, потом, безвольно опустив руки, медленно подошла к печи.
«Здесь я их встречу!» – решила она и присела в запечке. Сложив руки на коленях, она смотрела в пустоту. За ее спиной громко тикали ходики, словно стучали молотом по окаменевшему времени.
«Долго их нет!» – подумала Темникарица. И опять закрыла глаза, отдаваясь во власть странному шуму.
Она сидела так и в сочельник, окаменевшая и немая, удивительно строгая, и ни сын, ни дочь не смели раскрыть рта. В конце концов тишину нарушила Юстина.
– Долго его нет! – сказала она.
– И наверно, уже долго не будет! – невольно вырвалось у Темникарицы.
– Он куда-нибудь ушел? – спросил Тоне.
– В лес! Ты же знаешь! – сурово ответила она. «Если б ты на него походил, ушел бы вместе с ним», – промелькнуло у нее в голове, и она задумалась над тем, что было лучше для сына: уйти с отцом или остаться с нею. Решение было слишком тяжким, и она отодвинула его.
Тоне сидел на скамье и вырезал зубья для грабель. Тщательность, с какой он занимался этим, вызывала отвращение у Темникара. И смотри-ка, сейчас это было противно и Темникарице. Она оглянулась на дочь: та сидела в запечке и плела на коклюшках. Юстина вздохнула и ответила ей покорным овечьим взглядом. Такой ее взгляд сердил Темникара. И смотри-ка, сейчас он разозлил и Темникарицу. Она оглядела комнату, посмотрела на часы. Ходики заскрипели и медленно пробили восемь раз. Темникарица подняла руку, чтоб поднять гирю, задела маятник, и ходики остановились.
– Может, он вообще ушел? – неожиданно спросила Юстина.
Темникарица вздрогнула и пристально поглядела на нее.
– Куда он уйдет? – отозвался Тоне.
– К партизанам, – ответила Юстина.
Темникарица вздохнула и качнула маятник.
– К партизанам?.. – протянул Тоне.
– Куда ж еще? – сурово отрезала Темникарица. – И потому замолчите!
И они молчали весь вечер и весь рождественский день.
Много раз Темникарице казалось, что муж и в самом деле ушел к партизанам, но она прогоняла эту мысль, ибо сердцем чуяла, что его больше нет в живых. Порой она винила себя: надо было заголосить, броситься следом, когда он скрылся за поворотом. Но неведомая неуемная сила без слов убеждала ее: она не виновата, она вела себя правильно, ибо Темникар твердо решил и должен был идти своим путем. И тогда он неизмеримо вырос в ее глазах. Ей вспомнилось, как при прощании она сказала ему: «Какой-то ты чудной… Словно и не ты», вспомнила, как он ответил: «Почти сорок лет не был я самим собой, а сегодня опять стал!» А какой он был? Такой, каким был на самом деле и какого она не знала.
«Ерней!» – мысленно окликала она его, и что-то оттаивало в ее душе, и ее охватывало незнакомое тепло – так близко к нему она еще никогда не бывала…
Эта близость оставалась и сейчас, когда черная змея тащила его мертвое тело к дому. Женщина не сводила глаз с деревянной ложки, что ожидала Ернея на столе, и внезапно увидела своего мужа так отчетливо, что вышла из запечка и тихонько окликнула:
– Ерней!..
За спиной у нее заскрежетали и начали бить часы. Она вспомнила, что хотела что-то сделать, выставив из комнаты сына и дочь. Подождав, пока отзвучали три удара, она подошла к стене и, протянув худую руку, остановила маятник.
– Дай господь ему вечный покой! – произнесла она в наступившей тишине и медленно перекрестилась.
«А ты ему его не давала!» – отвечал из тишины ее собственный голос.
Она заметалась по комнате, сердце ее готово было разорваться. Безмерная печаль охватила ее, печаль, замурованная в нем вместе с бесконечной любовью. И она вдруг поняла, как отравляла ему жизнь, как отравляла ее себе и детям.
– Ведь я же любила его! – всхлипнула она. – А по-другому не могла! Не могла!..
«Не могла! – согласился голос, в котором звучала тоска. – Не могла, хоть и хотела…»
– Хотела!.. – вздохнула женщина.
Она прислонилась спиной к печи и на миг закрыла глаза. Но только на один миг, потому что внезапно в ней вновь всколыхнулась та самая незнакомая неуемная сила, которая уже прежде убедила ее: Ерней должен был уйти. И странно – неизбежность этого стала сейчас ясна и ей. Любой ценой она должна что-то сделать.
– Нет, не стану я их ждать здесь! – решительно произнесла она. – Первая никогда бы не стала его ждать здесь, если б он возвращался с такого пути. Она пошла бы ему навстречу. Я тоже пойду. И буду с ним! Пора…
Она выпрямилась, убрала прядь седых волос под платок и огладила передник. Потом быстро вышла из комнаты, распахнула дверь в сени и встала на пороге. Идти дальше не было сил. Скрестив руки на груди, она устремила взгляд на поворот, за которым два дня назад скрылся Ерней и из-за которого он сейчас возвращался.
– О Ерней!..
И она опять вспомнила, каким «чудным» он был, уходя из дому. Вспомнила его странные слова, его странный голос и пожатие руки, что показалось самым странным – за всю их жизнь он протянул ей руку лишь один раз: когда уходил на войну. Вспомнила, как она кричала и хотела броситься за ним, но передумала – ведь он пошел к Пеструхе – и решила окликнуть, когда он пойдет из хлева. Вспомнила, как долго стояла на дороге и как напоследок с горечью и раздражением сказала: «Корове больше рассказывает, чем мне!» Вспомнила, как он вышел и быстро зашагал вдоль живой изгороди, ни разу не оглянувшись, и как у нее не было сил позвать его, хотя крик разрывал ей грудь; незнакомая сила сжала ей горло и приказала: «Отпусти его! Отпусти, ему надлежит идти своим путем!» Вспомнила, с какой неохотой подчинилась этому приказу, потому что не привыкла к чужим приказаниям, вспомнила, как уменьшалась его плечистая фигура, как постепенно исчезала за белым склоном и наконец вовсе исчезла; лишь голова в меховой шапке, подобно черному шару, некоторое время катилась по краю белизны, а потом и она вдруг исчезла, словно провалилась в пропасть. Вспомнила свои слова в ту минуту: «Вот он повернул к Скопичнику!» Вспомнила, как больно закололо в груди, словно этот черный шар невидимой нитью был привязан к ее сердцу и теперь, проваливаясь в пропасть, увлекал ее за собой. Вспомнила, как взмахнула руками и ухватилась за косяк, чтоб не упасть. Вспомнила, с какой мукой вернулась в кухню и без единой мысли в голове начала искать Ернееву арнику и его трижды очищенную водку, чтобы приготовить ему горькую настойку, чего никогда до сих пор не делала. Вспомнила, как все горело у нее внутри и как она боялась думать о случившемся, как ей показалось, будто кто-то чужой вошел в дом, как она открыла дверь в сени, но там было пусто, и она вернулась в кухню и снова занялась приготовлением горькой настойки. Вспомнила, как еще дважды выглядывала в сени, а потом замерла у печи, хотя ей все время продолжало чудиться, будто кто-то вошел в дом.
Тогда-то и поселился в доме невидимый и неслышный гость – окаменевшее недоброе время. И этот невидимый гость теперь стоял у нее за спиной.
«Долго их нет!» – подумала Темникарица, не сводя глаз с рубежа белого пространства. И тут же качнулась и ухватилась за косяк: из-за белого склона показались холодные каски, сверкавшие холодным блеском, словно глаза змеи.
– Пришли! – выговорила она. Сердце ее тоже окаменело. Но не стало мертвым камнем, ибо окаменело оно не от страха, а от горчайшей на свете обиды и, значит, стало живым камнем, кремнем, таящим огонь в своих жилах и жилках. В душе Темникарицы все было готово к схватке и к концу, хотя она этого и не сознавала. Ведь человек воистину велик только тогда, когда сам не ведает о своем величии.
Змея все росла, приближаясь. На белом фоне во весь рост встали четыре немецких солдата в касках. А потом над касками задергалась маленькая головка в пилотке домобрана[52]52
Домобранами в 1941–1945 гг. назывались в Словении и Хорватии солдаты воинских формирований профашистских правительств.
[Закрыть].
– Проклятая Каланча, – узнала Темникарица. – Опять с ними этот несчастный Заплатар.
Солдаты в касках оторвались от тела змеи и, выставив вперед винтовки, медленно пошли к дому. Заплатар опасливо плелся за ними. Остановились возле хлева.
– Вы одна? – закричал Заплатар.
Темникарица не ответила.
Они подошли ближе и встали в двух шагах от порога.
– Добрый день, мать! – произнес Заплатар. В голосе Проклятой Каланчи вовсе не было твердости, во взгляде – еще меньше.
– И ты смеешь произносить слово «мать», Проклятая Каланча? – спокойно спросила Темникарица. – Как у тебя только язык не отсох!
Заплатар завертел головой, словно получил оплеуху, и язык его на какое-то время будто в самом деле присох к гортани. Но потом он с угрозой протянул:
– Что это вы так сегодня разговариваете?
– Давно бы так следовало заговорить! – невозмутимо ответила Темникарица и снова уперлась взглядом поверх его головы в далекий склон.
– Вы в своем уме?
– Наконец-то в своем!
– А не слишком ли рано? – язвительно спросил Заплатар, но в его словах было больше страха, чем яда.
– Несчастный, тебя-то позже и в помине не будет.
– Замолчите! – зашипел Заплатар.
– Чего орешь, убогий! – Темникарица смотрела пренебрежительно. – Ведь сам знаешь, конец тебе.
– Тихо! – вскипел он. – Отвечайте, вы одна?
Темникарица не ответила, глядя поверх него.
– Отвечайте!
– Нет, мы больше не одни, – спокойно ответила она не моргнув глазом.
– Что? – разинул рот Проклятая Каланча.
– Вон там стоит твоя Немецкая Смерть! – продолжала женщина все так же спокойно, указывая рукой куда-то над его головой.
Заплатар оглянулся. Шагах в десяти от дома посреди снежной целины недвижимо стоял немецкий лейтенант, очень высокий и худой. Каска закрывала почти половину его маленького бледного лица. Виднелись лишь костлявый подбородок, прямая линия тонких губ да большие черные очки, казавшиеся глазными впадинами на голом черепе.
– Он что, боится лишний шаг сделать? – спросила Темникарица.
– Саплятер! – прозвучал в этот момент дребезжащий голос Немецкой Смерти.
– Явольгеррштурмфюрер![53]53
Слушаюсь, господин штурмфюрер! (искаж. нем.).
[Закрыть]– прокаркал Заплатар и задрожал.
– Чего дрожишь? – спросила Темникарица.
– Молчать! – вне себя закричал Заплатар. – Скажите, вы одна?
– Да ведь я тебе уже сказала, что не одна.
– Что?
– Перестань дрожать, Проклятая Каланча. Говорю тебе, теперь мы уже не одни, потому что Ерней вернулся. Или ты его тоже боишься?
– Саплятер! – снова подал голос Немецкая Смерть.
– Явольгеррштурмфюрер! – молнией повернулся на каблуках Заплатар и прежним скрипучим голосом доложил: – Никс бандитен, геррштурмфюрер![54]54
Нет бандитов, господин штурмфюрер! (искаж. нем.).
[Закрыть]
Лейтенант резким жестом вскинул длинную руку. Низенький круглый итальянский офицер, стоявший чуть поодаль, свистнул. Змея зашевелилась, и в тот же миг из-за всех углов высунулись винтовки и головы в разных шапках. Теперь Темникарица воочию смогла убедиться, что возле ее дома собрался настоящий сброд: немцы, итальянцы, бородатые четники[55]55
Четниками назывались солдаты воинских формирований эмигрантского королевского правительства Югославии, в 1941–1945 гг. сражавшиеся в союзе с оккупантами против партизан.
[Закрыть] и несколько местных предателей.
– Ишь, сколько собак набежало! – произнесла она.
– Что? Каких собак? – разъярился Заплатар, озираясь.
– У твоей Немецкой Смерти много собак, – спокойно ответила Темникарица. – Всех пород.
– Мать, вы плохо кончите! – заскрипел Заплатар.
– Ты, Проклятая Каланча, не называй меня больше матерью! – сурово сказала Темникарица. – А вот теперь я у тебя спрошу: ты подумал о том, какой конец тебе уготован? – И не стала дожидаться ответа. Она увидела покрытый кровью топор, торчащий у него из-под мышки. – В палачи тебя возвели? – спросила она, указывал на топор пальцем.
– Замолчите! – захлебнулся тот. – Это ваш топор!
– Наш? – встрепенулась Темникарица, широко открывая глаза. Она узнала топор. И ей стало ясно, куда держал путь Темникар. – Он был в Робах? – простонала она.
– Был! Теперь вы знаете, кто из нас палач! – угрюмо ответил Заплатар и вогнал топор в колоду.
– Знаю! – медленно кивнула женщина. – О, знаю! Каждый волк пастуха палачом называет, когда тот топором защищается.
– Какой волк? – пробормотал Заплатар.
– Крещеный. Лужника вот только не вижу. Неужто вовсе не увижу?
– Нет!
– Убрал он его с дороги?
– Всех пятерых перебил! – хмуро произнес Заплатар.
– Один?
– Один!
– О Ерней! – воскликнула женщина, молитвенно складывая руки и поворачиваясь в сторону холма.
Четыре коротконогих оборванных солдата подтащили носилки к порогу и опустили их в снег. Старая австрийская солдатская шинель покрывала носилки.








