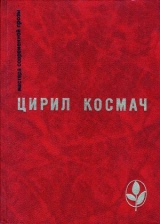
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
– Чего спрашиваете? Небось сами знаете!
Хотеец, правда, был готов к тому, что Лужница подкусит его, и все-таки эти слова обидели его. Он помрачнел и сказал:
– Ты прямо говори, что думаешь!
– И скажу! Сам знаешь, все такие бедолаги носят твое имя. Все Арнейцы!
– Я никогда этого не требовал!
– Требовал ты этого или нет, а я говорю, что вся твоя доброта – сплошная гордость, – ядовито прокаркала Лужница.
– Арнейц, оставь ребенка и пойдем! – подала голос жена, которая, вероятно, из-за своего бесплодия была женщиной робкой и при своем решительном муже очень редко открывала рот.
– Что ты говоришь? Ребенок-то ни в чем ни виноват, – с укором посмотрел на жену Хотеец и взял ребенка. Повернувшись к Лужнице, сказал: – Моя гордость – мое дело, а твое дело – выбрать ребенку имя.
– Я знаю, что это мое дело, а выбирать не буду. Пусть священник заглянет в свои святцы!
В те времена некоторые священники выбирали имена незаконным детям по собственному вкусу, то есть по собственному капризу, чтобы не сказать по собственной злобе. Поэтому, когда священник услышал, что ребенок не будет Ернеем и что дома ему не выбрали имени, он с радостью открыл «свои святцы» и начал листать их, чтобы найти «нечто подходящее» для ребенка, а также для Лужницы, которую с давних пор терпеть не мог. Он долго перелистывал святцы, и при этом на губах у него была такая затаенно-злобная усмешка, что у Хотейца кровь закипела.
– Хватит искать, – твердо сказал он. – Хотя ребенок родился в Луже, да к тому же еще и египтянин, как говорят, вы не дадите ему никакого дурацкого имени! Сегодня святой Матия, пусть он будет Матия.
– И то правда. Что тут особенно выбирать. Пусть будет Матия! – быстро согласился священник, который понимал, что ссора с зажиточным крестьянином может уменьшить сумму пожертвований в пользу церкви.
Итак, ребенка окрестили Матией, а это значило, что называть его будут попросту Матиц. Пепа оставалась с ним всего месяц, потом вернулась в Египет и никогда не прислала ни письма, ни денег. Пока она была дома, женщины не наведывались в Лужу, потому что Пепа по приезде заперлась в доме и решительно заявила, что не хочет видеть ни одной живой души, а баб – особенно. Женщины дождались, когда она уехала, и только потом явились в Лужу – посмотреть «маленького египтянина». Ребенок и впрямь не был черным и, собственно говоря, особенно чернявым – тоже. Если бы женщины не знали, что Пепа вернулась из Египта, они, вероятно, не пришли бы к выводу, что у него более темная кожа, более толстые губы, более приплюснутый нос и более низкий лоб, чем у здешних ребятишек. Глаза у него были голубые и очень большие, поэтому женщины повернулись к Лужнице и во всеуслышание заявили:
– А глаза у него – Лужниковы.
– Не только Лужниковы, но и похожие на лужу, – тявкнула Лужница так многозначительно, что женщины удивленно переглянулись и спросили:
– Как – на лужу?
– Чего вы притворяетесь, бабы! – возмутилась Лужница. – Ведь сами видите, нет у него настоящего света в глазах.
– Нет настоящего света в глазах? – медленно повторили женщины и опять принялись рассматривать ребенка.
– И правда, у него какие-то мутные глаза, – первой признала Вогричка.
– Мне тоже так кажется, – подтвердила Загричарица.
– Вы думаете? – возразила Усадарица. – Вероятно, это кажется из-за его темной кожи.
– Вот дурная баба, в темноте-то свет еще лучше виден! – презрительно возразила Лужница. – Нечистые у него глаза, и все тут, – заключила она. – А вообще-то, – добавила она ядовито-вызывающим тоном, – откуда у него быть чистым глазам, если он – из Лужи.
– Ох, как об этом можно сейчас судить? – не сдавалась Усадарица. – Ведь ребенок еще не видит. Вот увидит, и глаза у него очистятся.
– Как же, очистятся они у него, – снова возразила Лужница, махнула рукой и добавила с прежним ядовитым презрением: – Впрочем, чем глупей он будет, тем легче будет ему жить.
– Ох, это, в конце концов, тоже правда, – со вздохом согласились женщины и принялись наперебой перечислять трудности и горести, которые отравляют жизнь умного человека.
Лужница с этих пор еще реже ходила на поденщину, зато чаще прежнего наведывалась в дома односельчан. И теперь она не только сама кормилась во время этих посещений, но и набирала еды для Матица, «для этого несчастного червяка, готового есть день и ночь». Женщины давали ей не жалея, чтобы она могла заботиться о ребенке. Лужница заботилась о нем, да не слишком. Правда, голодом она его не морила, точно так же правда и то, что она беспрестанно предлагала смерти его забрать, мол, так будет лучше для него, для нее и для «стервы», то есть для Пепы, если та когда-нибудь вернется.
Матиц, однако, не умирал. Жил себе и даже рос. Первые два года он провалялся в доме. Лужница не выносила его на солнце, потому что в глубине души надеялась – в полумраке, без свежего воздуха он все-таки угаснет. Матиц не угас, а в один прекрасный день сам перебрался через порог и оказался на дворе.
– Тут и живи! – обрадовалась Лужница, которая подумала: если смерть не прибрала его в доме, то приберет на улице. Но смерть не прибрала его и на улице, хотя ежедневно проходила рядом: Матиц не скатился под гору и не утонул в луже, к нему не пристала ни одна хвороба. Каждый вечер, возвращаясь из гостей, Лужница находила его на пороге – живого и здорового.
– Не прибирает тебя безносая, не прибирает, – злилась она.
– Неплибилает, неплибилает, – повторял Матиц и испуганно моргал огромными мутными глазами.
– Не прибирает, – заключала Лужница и тащила его в дом кормить.
Матиц ел и спал, жил и рос. Встал на ноги, но говорить – само собой понятно – не научился. Да это и неудивительно, даже не будь он дурачком, он все равно не научился бы говорить, потому что целыми днями оставался один и не слышал человеческого голоса, а вечерами Лужница только ворчала да брюзжала.
Женщины иногда проявляли интерес к бедному ребенку.
– Ну что, умнеет он или нет?
– Да как ему поумнеть в Луже? – презрительно отзывалась Лужница.
– А растет?
– Растет, чего ему не расти. Ведь он живет в Луже, воды ему хватает.
И Матиц рос, как дикая виноградная лоза. Когда Лужница поняла, что смерть и впрямь его не приберет, она стала брать его с собой по домам. Во время этих путешествий Матиц вначале познакомился со смехом, которого раньше не слышал, потом потихоньку выучился говорить. Лужница таскала его из дома в дом и учила, как надо разговаривать с соседями. Бабка она была хитрая, понимала, что в один прекрасный день силы оставят ее, и надеялась, что у Матица все-таки хватит ума для того, чтобы самому ходить по дворам и приносить ей еду.
Степень самостоятельности Матица Лужнице установить не удалось, поскольку она внезапно умерла от воспаления легких. Матицу тогда было пятнадцать лет; у него было тело взрослого человека и ум ребенка. Он в одиночку ходил из дома в дом, только теперь это было нелегко. Пока он сопровождал Лужарицу, сельские ребятишки его не трогали, сейчас они стали нападать на него. Гнались за ним с палками и кричали вслед:
– Лужар!
– Египтянин!
– Арап!
– Африканец!
– Турок из Лужи!
Матиц убегал со всех ног, но однажды оказал сопротивление. Ребятня окружила его возле поилки для скота и стала забрасывать грязью. Матиц метался из стороны в сторону, пытаясь вырваться из окружения. Его прижали к корыту, и он только размахивал длинными руками и скалил зубы; потом лишь испуганно моргал своими огромными мутными глазами. Мальчишки, осмелев, приблизились к нему, задевали кольями, дразнили:
– На, возьми!
– Держи!
– Хватай, если посмеешь!
– Бери и ударь!
– Ударь, если посмеешь!
– Ударь, лужа грязная!
– Ударь!
Матиц отбивался долго, неожиданно он выпрямился, выхватил палку из рук Устинарева Янезка и изо всех сил ударил его по спине, а потом начал яростно молотить палкой вокруг. Ребята с криками разбежались. Устинар, который гнал скотину к корыту, набросился на Матица и стал избивать. Проходивший мимо Хотеец вступился за парня. Он вырвал Матица из рук Устинара и строго сказал:
– Нанде, ты что, спятил?
– Я спятил?! – завопил Устинар. – Это дурак совсем спятил! Ни с того ни с сего одичал, чуть не убил моего парнишку!
Матиц инстинктивно жался к Хотейцу и судорожно вздрагивал. Он был напуган, весь в грязи.
Хотеец подобрал палку, с треском сломал ее о колено, показал оба конца Матицу и строго пригрозил ему:
– Матиц, чтобы ты никогда больше никого не ударил!
– Никогда больше не ударил! – повторил Матиц и тоже поднял палец, повторяя наказ.
Хотеец отшвырнул обломки палки в кусты, повернулся к Устинару:
– Кто закидал его грязью?
– Чего спрашиваешь? – огрызнулся Устинар. – Ребята и есть ребята.
– Это правда, но Матиц – дитя божье.
– Скотина он, а не дитя божье.
– Скотина тоже защищается. Это ты мог бы знать! И еще: кто бьет безумного, тот сам умом не богат.
– Опять ты со своей премудростью! – возмутился Устинар. – И вообще, с какой стати ты за него заступаешься? Разве он – Хотейчев?
Хотеец помолчал, потом серьезно и решительно сказал:
– С сегодняшнего дня считай Хотейчев!
Так и пошло. Хотеец заботился о заброшенном мальчишке, и вскоре все стали называть его «Хотейчев Матиц». Никто его не трогал, и Матиц никогда больше не дрался. Хотеец пытался приучить его к работе, только старания его были напрасными, и не потому, что Матиц был неспособен к труду, но потому, что не сиделось ему на месте – с раннего детства приучен он был бродить по округе. Жители села порешили: пусть Матиц живет, как в те времена жили одинокие неимущие старики, – ходит обедать из одного дома в другой. Поскольку Матиц счета не знал, ему в том доме, где кормили сегодня, говорили, куда идти на следующий день. Матиц шел, наедался, а потом бродил по селу. Больше всего он любил сидеть со старым пастухом Вогричем и мог часами наблюдать, как тот строгает и вырезает из дерева рукоятки для кнутов и всякие разные палки. Глухой пастух не обращал на него внимания: он жевал табак, сплевывал коричневую слюну и громко оценивал результаты своего труда.
Матиц стал буквально одержим. Хотеец однажды наткнулся на него на повороте дороги, ведущей в Лазны. Матиц сидел на высокой стене, болтал длинными ногами, жевал полынь и осколком стекла усердно строгал ореховую палку в добрый метр длиной и в палец толщиной.
– Матиц, ты что делаешь? – удивленно спросил Хотеец, который никогда не видел, чтобы Матиц хоть чем-нибудь занимался.
– Палку! – коротко ответил Матиц.
– Ага! – кивнул Хотеец. – А выйдет?
– Выйдет! – в свою очередь кивнул Матиц и показал палку. – Видишь, с этого конца она еще толстовата.
– Ага! Но ты ее немного обстрогаешь!
– Немного обстрогаешь, – повторил Матиц и принялся строгать. Потом зажмурил левый глаз, осмотрел палку и снова покачал головой:
– Видишь, теперь она с этого конца толстовата.
– Ага, похоже, она всегда толстовата с одного конца.
– Всегда толстовата, – подтвердил Матиц и опять взялся за дело.
– А кто тебя научил? – спросил Хотеец.
– Вогричев дядька.
– Ага, ага! Понятно, – кивнул Хотеец, глядя на Матица, который строгал палку то с одного, то с другого конца, и стружка так и летела. Палка становилась все тоньше и в конце концов сломалась у него в руках. Матиц отшвырнул обломки, подскочил к кусту, срезал новый прут, содрал с него кору и взялся строгать снова.
– Ага, ага, – задумчиво кивал Хотеец. – Матиц, ты строгай, строгай. А как будет готова, принеси ее мне посмотреть.
В тот же вечер Матиц прибежал к Хотейцу, однако не с готовой палкой, а с довольно глубоким порезом на ладони. Он моргал огромными мутными глазами и с ужасом смотрел на густую кровь, капавшую с толстых пальцев.
– Умру! – выдохнул он.
– Это ты ножом?
– Ножом.
Хотеец осмотрел рану и беззлобно рассмеялся.
– Матиц, это чепуха.
– Это чепуха, – с глубоким облегчением повторил Матиц.
– Царапина, – заключил Хотеец, промыл рану водкой и перевязал. – Не беспокойся! Кожа не рубаха!
– Кожа не рубаха, – повторил Матиц.
– Да, не рубаха! Кожа всегда сама зарастает, а рубаха нет!
– А рубаха – нет! – повторил Матиц.
– А рубаха – нет. Никогда. И штаны тоже не зарастают. И башмаки. Вот так-то! Когда они разорвутся или если ты их разорвешь, они уже ни на что не годятся.
– Ни на что не годятся.
– Да, не годятся. Можешь выбросить их на помойку.
– Можешь выбросить их на помойку, – повторил Матиц и заморгал своими огромными мутными глазами.
– Правильно, – подтвердил Хотеец. – А кожа всегда годится. Сама зарастает. Поэтому можешь не беспокоиться. Ты еще построгаешь свою палку.
– Еще построгаешь свою палку, – весело повторил Матиц и пошел прочь. За хлевом он срезал ореховый прут и направился к селу.
На следующее утро Устинар и Вогрич привели Матица, был он без рубахи и без штанов.
– Это что за шутки? – удивился Хотеец.
– Откуда мы знаем, – ответили те. – В таком виде он шел по дороге. Если мы правильно его поняли, он выбросил рубашку и штаны на помойку, поскольку они ни на что не годятся, потому как рваные и сами не зарастут.
– Ага! Ага! – закивал Хотеец.
– А теперь ты его убеди, что штаны нужны, хотя они сами не зарастают, – попросили мужики. – Мы ему ничего не говорили, поэтому не ворчи и не причисляй нас к дуракам. Но тебе мы говорим: Матицу надо крепко вправить мозги! Вправь их палкой или без палки, только голым он по деревне больше ходить не будет! Ведь он уже взрослый мужик!
– Хорошо, хорошо! Я ему растолкую, – пообещал Хотеец и повел Матица в дом.
Он прекрасно понимал, что виноват, поэтому не стал наказывать Матица. Он одел его и стал внушать свою мысль.
– На тебе всегда должны быть штаны и рубашка! – строго говорил Хотеец. – Всегда!
– Всегда! – повторил испуганный Матиц и заморгал огромными мутными глазами.
– Если ты снимешь свое тряпье и выбросишь на помойку, карабинеры тебя схватят и посадят в тюрьму!
– Схватят и посадят! – повторил Матиц и еще более испуганно заморгал.
– Правильно. И к тому же отберут у тебя нож.
– Отберут у тебя нож? – повторил Матиц и сунул руку в карман.
– И ты его никогда больше не получишь. А теперь скажи мне, как ты без него будешь строгать палку, а?
Матиц был так напуган, что даже не повторил слова Хотейца.
– Поэтому на тебе всегда должны быть рубаха и штаны! – закончил Хотеец. – Всегда! Днем и ночью!
– Днем и ночью! – повторил Матиц и поднял палец, чтобы получше запомнить этот наказ.
И он его запомнил: впредь жил в меру своих возможностей – никогда не появлялся в деревне голым, а штаны и рубаху не снимал даже ночью. Сидя на скалах и стенах, он строгал палки, ходил из дома в дом, ел, продолжал расти и вырос великаном. Встретив женщину, останавливался и таращился на нее, скалил зубы и громко дышал. Девушки обходили его стороной, если же их было несколько, они забавлялись беседой с ним.
– Говорят, ты женишься на Катре, – поддразнивали они.
– На Катре? – удивленно открывал рот Матиц.
– Может, она тебе не нравится?
– Нет! – решительно качал головой Матиц.
– А почему?
– Катра некрасивая.
– А ты красивый. Был бы еще красивее, если бы не ходил таким заросшим.
– Таким заросшим? – повторял Матиц и чесал подбородок, покрытый редкими курчавыми волосами.
– Мог бы и пообстругаться!
– Пообстругаться? – удивленно моргал Матиц.
– Конечно. Только не сам, порежешься! Пойди к Лопутнику и попроси, пусть пообстругает!
– К Лопутнику, пусть пообстругает! – повторял Матиц, подняв палец, и отправлялся к Лопутнику, сапожнику, который занимался и ремеслом цирюльника, то есть стриг крестьян и брил инвалидов, больных и покойников.
Девушки подшучивали над большим младенцем, а перекупщица Катра, сорокалетняя тучная баба, у которой голова была тоже не совсем в порядке, по-настоящему боялась Матица. Целыми днями, от зари до зари, ковыляла она с двумя корзинами по проселкам и тропам от одного хутора к другому, где скупала яйца, масло и цыплят. Она сердито переругивалась с сельскими девушками, которые уговаривали Матица жениться на ней, а на пустынной дороге содрогалась от страшной мысли, что Матиц может на нее напасть.
– Когда он меня встречает, он всегда останавливается, он на меня смотрит, смотрит на меня! – плача, жаловалась она Хотейцу, бесконечно повторяя глаголы и местоимения.
– Слышал я, слышал, что он на тебя глаз положил, – говорил Хотеец, который любил подшутить над Катрой.
– А ты слышал ты? – кивала головой толстуха. – Как заколотый вол на меня смотрит, смотрит на меня!..
– Катра, ты трясешься попусту, – усмехнулся Хотеец и махнул рукой, – вол не опасен. А заколотый вол тем более!
– Не опасен, не? – обиженно затянула торговка и вытаращила полные слез глаза. – Тебе хорошо смеяться тебе, потому что ты не женщина ты!.. Если бы ты был ты женщина, ты бы тоже трясся бы!..
– Конечно, – поддакнул Хотеец. – Каждая настоящая женщина всегда немного трясется.
– А я не немножко я трясусь, – застонала Катра. – Я вся я трясусь я!
– А вот это уже чересчур, – усмехнулся Хотеец.
– Ничуть не чересчур не! – обиженно возразила Катра. – До костей я трясусь я!.. И ты бы трясся бы ты, если бы он на тебя напал на тебя!..
– Если бы напал? – удивленно развел руками Хотеец.
– А на меня он напал на меня, – со слезами сказала Катра и обеими руками ухватилась за передник.
– Кто на тебя напал? – посерьезнев, спросил Хотеец.
– Матиц на меня напал на меня, – медленно произнесла Катра и подняла передник.
– Что? – выпрямился Хотеец. – Когда он на тебя напал?
Катра не ответила, только ниже наклонилась и принялась вытирать передником свои вытаращенные слезливые глаза.
– Где он на тебя напал? – строго спросил Хотеец.
Катра молчала, наклонилась еще ниже и громко высморкалась в нижнюю юбку.
– Чего ты носом шмыгаешь! Открой рот и скажи! – загремел Хотеец. – Ты врешь?
– Ничего я не вру я! – обиженно возразила Катра. – В Жлебах он напал на меня он… Шла я мимо Штруклева сеновала я, уже прошла его, я прошла, да оглянулась я, и увидела его я. В дверях стоял и на меня скалил зубы на меня…
– Он что, кинулся за тобой?
– Кинулся… Я бросилась я бежать, слышала только я, как он закричал он «Хо-ооо-ой!» – и за мной… Изо всех сил бежала, да никак не могла никак! Как из свинца были ноги были!.. А он уже у меня за спиной у меня и прямо за ворот мне дышит мне…
– Он тебя поймал?
Катра только покачала головой, вытирая мокрые глаза.
– Ага! – с облегчением вздохнул Хотеец. – Выходит, не поймал?
– Не поймал он меня он, – призналась Катра и тут же добавила. – Да он почти наверняка бы меня поймал меня, если бы я от страха не проснулась я!..
– Что?! – подскочил Хотеец. – Проснулась?.. Что ты мелешь?!
Катра громко высморкалась и медленно произнесла:
– Ведь он не взаправду на меня напал на меня… И я вся мокрая была от страха я, когда проснулась…
Хотеец сжал губы, посмотрел на небо, потом уставился на придурковатую бабу и принялся покусывать свои седые усы, не зная, как отнестись к этому – сердиться или смеяться.
– Чего ты на меня так смотришь так? – плачущим голосом спросила торговка.
– Дура! Разве Матиц виноват, что он тебе снится?!
– А почему не виноват? – Катра обиженно вытаращила слезящиеся глаза. – Если бы не боялась его я, он бы мне не снился мне!
Хотеец помолчал, задумался и подтвердил:
– Хоть ты и глупая баба, а по-своему права.
– Ну теперь ты за него возьмешься за него? – поинтересовалась Катра.
Хотеец все еще раздумывал и поэтому не ответил ей.
– Если ты за него не возьмешься за него, я пойду к карабинерам пойду, – пригрозила Катра.
– Дура! – подскочил Хотеец. – Я и раньше знал, что ты придурковатая, но что такая дура, не представлял.
– Даже если я дурная, все равно я женщина я! – обиделась слезливая торговка и решительно высморкалась. Она подобрала свои корзины и снова пригрозила. – И я пойду я к карабинерам пойду.
– Иди! Иди! – Хотеец устало отмахнулся от нее, решив спокойно обдумать положение. Катра есть Катра, ее пустая болтовня пустой болтовней и останется. Однако с Хотейцем о том же не раз заводили разговор умные женщины, опасавшиеся, что в один прекрасный день у Матица закипит кровь и он озвереет. Они предлагали его хорошенько припугнуть, прежде чем дело дойдет до беды. Хотеец, правда, смеялся над ними и успокаивал их: мол, Матиц еще ребенок и глупо обращать его внимание на такие вещи, хотя понимал, что в положенное время природа потребует своего, и уже задумывался, как бы здесь Матица научить уму-разуму.
Но раньше, чем ему удалось это сделать, случилась беда, по правде говоря, это была не совсем беда, зато для Матица стала хорошим уроком. У Робара гнали водку, парни «шутки ради» напоили Матица и послали его к Катре «в гости». Пьяный великан, пошатываясь, еле прибрел к Катре, а та выскочила на улицу и давай орать во всю глотку:
– О святая Мария, о пречистая дева, Матиц меня меня он…
Сбежались люди, окружили ее, желая узнать, что и как было, оказалось же, что Матиц всего-навсего ввалился в дом, скалил зубы, пыхтел и смотрел на нее, как баран на новые ворота.
– И потому ты вопишь, как будто он с тебя кожу содрал? – возмутился Устинар.
– Ты бы тоже орал бы, если бы был женщиной был! – обиженно протестовала Катра. – А что, если бы я от него не убежала бы от него, а? Теперь могла бы уже быть мученицей уже!..
– Раз убежала, значит, не будешь! – возразил Устинар, острый и ехидный на язык. – Теперь сама видишь, какой дурой была, пропустила такой распрекрасный случай попасть в святые! Глядишь, тебя бы даже в святцах нарисовали: толстая баба с двумя корзинами – «Святая Катра Вртацкая, девица и мученица, покровительница бродячих торговок».
Мужики громко хохотали. Катра таращила свои слезливые глаза и от удивления и злости не находила нужных слов. Женщины между тем всерьез обсуждали, что могло бы случиться, если бы Катра не заорала. Поднялся такой шум, что карабинеры разыскали несчастного Матица, притащили его к казарме, основательно облили холодной водой и посадили в темный подвал.
Хотеец обрадовался: не было бы счастья, да несчастье помогло. И отправился к Робару, где выругал всех как следует, потом два дня обивал пороги, вызволяя Матица из подвала. Большой младенец был настолько напуган и так оголодал, что дрожал как осиновый лист. Хотеец отвел его домой, накормил и только потом устроил ему головомойку.
– Матиц, больше ты никогда не будешь пить водку! – строго сказал он и стукнул костлявым кулаком по столу.
Матиц вздрогнул, но, подняв палец, словно перепуганный ребенок, повторил:
– Никогда не будешь пить водку…
– Даже если чуток попробуешь, карабинеры снова тебя посадят!
– Снова посадят… – повторил Матиц, не переставая дрожать.
– Правильно! – подтвердил Хотеец. – Потому смотри в оба! Водка не для тебя, ты еще ребенок! Пей молоко!
– Пей молоко… – повторил Матиц и поднял палец, чтобы запомнить наставление.
– И не смей никогда ходить к Катре! Никогда! – закричал Хотеец и опять стукнул кулаком по столу.
Матиц даже покачнулся от неожиданности и шире открыл свои мутные глаза.
– Никогда не смей к Катре… – испуганно повторил он. Вряд ли он помнил, что побывал у торговки, и все-таки поднял палец, чтобы запомнить и этот наказ.
– И чтобы вообще не прикасался ни к одной женщине! Даже так! – грозно сказал Хотеец и дотронулся указательным пальцем до руки Матица.
– Никогда даже так… – повторил Матиц, заморгал и поднял палец.
– Даже если ты пальцем ее тронешь, карабинеры тебя изобьют и посадят!
– Изобьют? – задрожал Матиц.
– И не только изобьют! Расстреляют!
– Расстреляют… – ужаснулся Матиц.
– Расстреляют! – подтвердил Хотеец. – Поэтому смотри, будь умницей. Пей молоко и строгай палку.
– Строгай палку, – повторил Матиц. Сунул руку в карман и охнул.
– Что такое? – спросил Хотеец.
– Ножа нет… – в отчаянии выдавил Матиц.
– Вот видишь, я же тебе говорил, что у тебя отберут нож!
Матиц только моргал и казался воплощенным несчастьем.
Хотеец пошел в кухню, вернулся со старым ножом и протянул его Матицу, который схватил его и начал разглядывать с неподдельной детской радостью. А Хотеец в это время задумчиво разглядывал великана: его огромные босые ступни с толстыми большими пальцами, торчавшими вверх будто два обточенных рога, его длинные ноги, крепко сбитое туловище, широкие плечи и крупную голову с мощным затылком.
– Ох, Матиц, Матиц! – вздохнул он и покачал головой. – Такой богатырь, а выбрал себе такую легкую работу! Тебе бы скалы переставлять…
– Скалы переставлять… – по привычке повторил Матиц, не отрываясь от ножа.
Хотеец обеими руками взял его за плечи, встряхнул, посмотрел в его большие мутные глаза и очень медленно и серьезно сказал:
– Знаешь что, Матиц, ты почаще захаживай на Доминов обрыв.
– На Доминов обрыв… – повторил Матиц и заморгал.
– И носи большие камни с отмели на дорогу.
– С отмели на дорогу…
– А вечером все камни сбрасывай в омут.
– Все камни в омут! – кивнул Матиц и с явным удовольствием поднял палец, чтобы запомнить этот наказ.
На следующий день он отправился к Доминову обрыву и сделал так, как велел Хотеец. Весь день он прилежно таскал тяжелые камни с отмели на дорогу, пробитую в скале в каких-то пятидесяти метрах над водой, а вечером с оглушительным криком «Хо-ооо-хой!» побросал все камни в омут.
Так Матиц выдержал последнее испытание, заслуживающее того, чтобы о нем вспомнить. Хотеец верил, что большой младенец будет спокойным и разумным, и тот и в самом деле был спокойным и разумным. К водке он больше не прикасался, зато за молоком охотился, как пьяница за рюмкой. Он неслышно пробирался в дома, и хозяйки частенько обнаруживали в молоке следы его табачной слюны. Вначале некоторые жаловались Хотейцу, но вскоре перестали, поскольку тот каждую поочередно выставлял со словами:
– Знаешь что, баба, если тебе жалко молока, хорошенько закрывай его!
К женщине Матиц никогда не притронулся, а торговку Катру избегал особенно старательно. Девушкам, любившим поболтать с великаном, пришлось долго уговаривать его, пока он вконец успокоился и стал беседовать с ними. Теперь они больше не дразнили его Катрой, а вместе с ним перебирали всех девушек и самую красивую называли его возлюбленной. Матиц ходил на нее смотреть, и, если девушка была неглупой, она дарила ему цветок. Когда она выходила замуж, Матиц не особенно огорчался: девушки тут же выбирали ему новую возлюбленную, и опять самую красивую. Со временем это настолько вошло в привычку, что в селе девушку, выраставшую в красавицу, не тратя лишних слов, называли «будущей возлюбленной Матица».
Итак, Матиц был спокоен и счастлив. Ходил из дома в дом, сидел на скалах и придорожных полянах, строгал свою палку и без устали болтал ногами, словно беспрестанно вдоль и поперек объезжал зеленую долину. Иногда он отправлялся к возлюбленной, и та давала ему цветок, а раз в неделю ходил на Доминов обрыв и перетаскивал тяжелые камни с отмели на дорогу, а потом сбрасывал их в омут.
Так прожил Хотейчев Матиц еще двадцать длинных лет до дня своей смерти.
III
Летнее утро уже разлилось по всей долине, когда Матиц проснулся на сеновале у Пленшкара. Спал он долго и спокойно. С удовольствием извлек из сена свое великанье тело и встал на ноги. Вышел на порог и потянулся, чтобы размять мускулы, которые – хотя и отдохнули – все еще ныли от таскания тяжелых камней. Хорошенько потянувшись, он развел руки, воскликнул: «Хо-ооо-ой!» – и выскочил на траву. Смахнул с носа попавшую каплю росы и полез под рубашку почесать спину, но, не дотянувшись рукой до того места, которое чесалось, подошел к яблоне, уперся пятками в землю и так сильно потер спину о шероховатый ствол яблони, что с дерева щедро посыпались на него капли росы. Это ему понравилось, он засмеялся и с благодарностью посмотрел вверх, на зеленые ветки. Моргая, некоторое время он глядел на них своими огромными влажными мутными глазами, потом еще почесался о ствол, и его опять осыпали капли обильной росы. Довольно усмехнувшись, вытер лицо и бросил взгляд на долину, чтобы определить время. Предрассветный туман рассеялся, небо было ясным. Крн пылал в лучах раннего солнца. Матиц снова довольно усмехнулся. Потом выпрямился и с поднятым пальцем строго повторил наказ Хотейца:
– «И каждое утро приводи себя в порядок! Понимаешь?» Понимаешь… – смиренно кивнул он и направился к реке. Пробрался сквозь густые заросли ольхи, забрел в воду. Остановился в нескольких шагах от берега и посмотрел на волнующуюся гладь воды. В ней он увидел неясное отражение своего лица, которое становилось то уже, то шире, словно слезы сменялись смехом, а смех слезами. Он улыбнулся, потому что никогда не плакал, наклонился и начал пригоршнями бросать воду себе в лицо. Хорошенько умывшись, он распрямился, поднял палец и сосредоточенно повторил свой вчерашний разговор с Темникарицей.
– «Завтра сходи к Лопутнику, пусть он тебя побреет», – строго произнес он слова Темникарицы. – К Лопутнику, пусть он тебя побреет, – повторил он, и чувство удовольствия охватило его при мысли о том, как приятно пощекочет его Лопутник твердой кисточкой для бритья. Но он тут же посерьезнел и строго продолжал:
– «И только потом пойдешь к Тилчке за подсолнухом». Потом к Тилчке за подсолнухом… – повторил он и в замешательстве посмотрел перед собой.
– «Есть будешь в Лазнах!»
– Есть в Лазнах…
– «А строгать на повороте к Лазнам!»
– На повороте к Лазнам…
Он с облегчением вздохнул, потому что представил свой будущий день, который был так же ясен, как небо над головой: там, наверху, ни облачка, здесь, внизу, – ни одной заботы до самого вечернего мрака, который от него еще за тридевять земель.
Матиц опять вытер мокрые усы и весело направился к противоположному берегу. Посреди реки он остановился, чтобы еще раз оглядеть долину, то есть издали взглянуть на мир. Это была давнишняя привычка, поскольку вода по его ощущению не являлась частью мира, который был твердым и неподвижным, вода была вне этого мира и далеко от него, так же, как небо; разница заключалась в том, что Матиц мог легко войти в воду, а в небо, где так беззаботно летали птицы, он подняться не мог. Поэтому он любил остановиться посреди реки, в текущей воде, и оттуда, издали, посмотреть на мир, на свою долину, которая напоминала великанью зеленую колыбель, прикрытую синим сводом прозрачного неба.
Вот и сейчас он неторопливо повернулся, огляделся вокруг и прислушался. Все было зеленым, умытым, спокойным и тихим. Птицы уже перестали петь, для них этот час был поздним, ниоткуда не доносилось ни единого голоса живого существа, только одинокий орел, начавший свой размашистый круг от Вранека и словно невидимой нитью привязанный к вершине скалы, изредка клекотал сердито и пронзительно. В этом конце долины всегда царила тишина, но сегодня она была настолько полной, что Матиц, вытянув шею, потянул носом воздух и прислушался, как животное, почувствовавшее опасность. И вздрогнул, как будто сама смерть прошмыгнула мимо.








