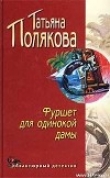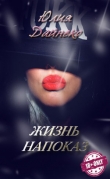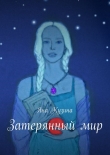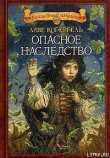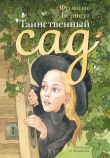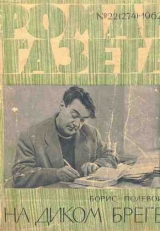
Текст книги "На диком бреге"
Автор книги: Борис Полевой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Она была еще не очень весома, эта выработка. Экипаж Поперечного-старшего еще не дотянул до обычных показателей Поперечного-младшего. Но нормы выполнил. Зато хлопцы Бориса на чужом экскаваторе не выработали даже того, что выбирали «негативы».
– Тупая она у вас какая-то, – сердито говорил Борис, яростно скребя низко остриженный затылок. – Сонная. Выкладываешься весь, и все как в мякину.
– Эх, братан, если бы все в машине было!.. – ответил Олесь. – Это я не тебе, это я себе говорю. Мы обвыклись, а ты свежим глазом подмечай, что в ней худо. Уж мы ее за жабры возьмем. Так, ребята? – Он был возбужден. Глаза запали, лицо обострилось, на лбу углубились морщинки, но морщинки лучистые, веселые, насмешливые.
Вторая половина дня оказалась и еще более удачной. Люди, как говорится, «жали на всю железку». Олесь понимал: нет еще коллектива, чувствовал – каждый тянет свое, не помогает товарищу. Но старались все – это он тоже чувствовал. Из машины вылезали, возбужденные, шумные. Даже усталость была не тягостная, и многоопытный Олесь понимал: вспыхнула, загорелась искра. Теперь не дать ей угаснуть. Раздувать, раздувать…
– …Вот что, орлы, отсюда в павильон, угощаю, – сказал он. – Обе бригады угощаю.
– Зачем обе? – отозвался Борис, вообще-то слывший в семье парнем прижимистым, копивший деньги на «москвича». – Пиво – ваше, закус – мой…
На следующий день Ладо Капанадзе получил в партком письмо некоего анонима, в котором сообщалось, что вчера вечером в новом пивном павильоне на углу проспекта Электрификации и площади Гидростроителей небезызвестный экскаваторщик Олесь Поперечный и его брат Борис пьянствовали вместе со своими экипажами. Выпили, как сообщал аноним, несчетное количество пар пива, съели четыре кило воблы тарань, что вместе взятое заслуживает внимания партийных органов крупнейшего строительства семилетки и соответствующих выводов по линии партийной, а также комсомольской организацией в отношении обоих братьев Поперечных, дабы им в дальнейшем неповадно было втягивать в пьянство слу-жебно-подчиненные им беспартийные массы и публично пить пиво и закусывать воблой на улице нового социалистического города…
И одновременно с этим секретарь парторганизации землеройного участка сообщил Капанадзе, что братья Поперечные, идя навстречу Пленуму ЦК, подписали между собой социалистический договор. Дальше шли показатели, и весьма солидные. Об обстоятельстве и месте подписания этого договора парторг ничего не сообщал.
Капанадзе сравнил эти две бумаги, покачал головой, рассмеялся и положил обе в папку дел, за которыми нужно наблюдать.
Вернувшись на свой экскаватор, люди Поперечного сразу же поняли разницу. Выработка у них мало отличалась от прежней, и, как раньше, каждый, делая свое дело, мало помогал другому. Но духом никто не падал. День, который так порадовал их, не забывался, и никто уже не отказывался прихватить сверх смены часок-другой, чтобы понянчиться с машиной. И была уже вера, что она скоро «раскроется», а главное – с того дня все поверили в своего невысокого, немногословного начальника, поверили в себя. А с верой, как говорят в здешних таежных краях, и зверя задушить голыми руками можно.
Вскоре фамилии обоих Поперечных снова появились в сводках. Опережал то один, то другой. И Дивноярск следил за соревнованием братьев с тем же вниманием, с каким в Москве болельщики знаменитой восточной трибуны следят за матчами «Спартака» и, «Динамо». Юмористы и сатирики Дивноярска сочиняли на эту тему куплеты. Клубный художник изобразил портреты обоих братьев, на которых они, такие разные, одинаково походили на популярного киноартиста Бориса Андреева…
Олесь снова преобразился. Он ходил рассеянный и даже немножечко шалый, часто улыбаясь, заговаривая сам с собой, невпопад отвечая на вопросы. Вот в один из таких дней он и позабыл о собственном новоселье.
Впрочем, он опоздал вместе с Капанадзе, у которого тоже было немало хлопот. И так как оба они вернулись в свои новые квартиры в отличном настроении, жены простили им эту оплошку, и стены нового домика по Березовой, шесть, были омыты так, что и по грузинскому и по украинскому поверью жилью этому стоять сто лет.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Лето в том краю Сибири, где рос новый город Дивноярск, ясное, но короткое. В конце августа пойдут по логам и падям клубящиеся туманы, покрывающие к утру и старые лиственницы и мелкие былинки обильной росой. Днем солнце греет вовсю: лето и лето. Только воздух слишком уж чист, и все вокруг вырисовывается с какой-то неестественной холодной ясностью. Но закаты уже холодные, тихие; ни зверь, ни птица не подают голоса. А в сентябре жди поутру крепкого заморозка с густым инеем. За какие-нибудь два-три дня лиственная поросль разошьет мохнатую зеленую шубу тайги пестрым узором.
Вот в такую пору, когда после утренника хвоя на лиственницах огненно пожелтела и на заиндевевшую, землю потек осенний лист, ночью, задолго до рассвета, Литвинов и Надточиев отправились на охоту. Вез их по старой памяти Петрович, прикативший за ними на вездеходе, повсеместно именуемом «козлом». Ружья, патронташа, сумки с ним не было: ни зверей, ни птиц он не бил, и вообще охотничья страсть была ему чужда. Прелесть таких поездок заключалась для него в веселой суете у костра, в приготовлении походной пищи, в возможности в ожидании охотников всласть подремать на свежем воздухе:
Предполагалось, что по старой памяти поведет их «на поле» Савватей Седых вместе со своим верным Рексом. Старик знал тайгу так, что, казалось, мог ходить по ней с закрытыми глазами: держал в памяти все звериные тропы, места птичьих гнездований. Денег он за егерство не брал: не в обычаях края. Литвинов припас для такого случая подарок – финский охотничий нож. Этот нож он сам получил как сувенир от директора строящегося лесокомбината. Он ездил за опытом в Финляндию. К общему огорчению, гостеприимный старик встретил охотников не то чтобы неприветливо, а как-то вяло. Он трудился под навесом, фугуя доску, и, казалось, даже не услышал приближения машины. Только когда Петрович подвел своего-«козла» чуть ли не вплотную, старик выпрямился, откинул со лба седые взмокшие пряди, и без удивления произнес:
– А, вона кто! А я думаю-та, кто это в эдакую рань в тайге тарахтит. – Он подал приезжим руку; сухая, обычно крепкая рука с заскорузлой, будто подошва, ладонью, была какой-то безжизненной.
– К тебе, Савватей Мокеич, бить челом. По-полюем, – попросил Литвинов, с беспокойством замечая, как за полгода старик осунулся, будто ссохся. Черные глаза запали, утеряли былой блеск. Они равнодушно смотрели из углубившихся темных впадин, а волосы, свалявшиеся в косицы, совсем по-старчески свисали на лоб.
– Отполевал я, – ответил старик и, заметив на лицах гостейчнедоумение, равнодушно пояснил: – Помру скоро. – Еще несколько раз шаркнул по доске фуганком, опять отер рукавом пот, продул жало, бережно отложил инструмент.
Была в этих простых словах такая убежденность, что обычные в таких случаях разуверения и утешения не шли на язык.
– Да, ты что-то неважно выглядишь.
– Известно-от, хворь и поросенка не красит… Пошли в избу, что ли…
Все такая же стояла в домике духовитая полутьма, так же пахло медом, воском, травами, черемшой, те же тикали ходики. Но было и новое – какая-то домовитая чистота. В углу из ризы потемневшего чеканного серебра виднелся длинный прямой носик строгой богородицы, державшей в руках младенца, похожего на куклу-матрешку.
– Глафира-от совсем ко мне перебазировалась, – бледно улыбнулся старик. – Вместе со своим опиумом. Пришлось и богородицу пустить. Да ладно, места не провисит.
– Да что с вами, Савватей Мокеич? – спросил Надточиев, чувствуя, как нарастает в нем тягостная неловкость за этот визит, оказавшийся таким несвоевременным. – Врачи-то что говорят?
– А, врачи! – Старик махнул рукой. – Кеша мой – может, в «Старосибирской правде» читали, да и по радио это говорили – в Ново-Кряжеве целую-то полуклинику отгрохал. Все они тут перебывали. Однако что он, врач, когда даже Глафира от меня отступилась. Мажу вон грудь ее мазью из пчелиного прополиса да медвежьего сала. Маленько помогает, не так першит… Врачи… У смерти в глазах-от все равны, что ты, профессор, что ты, ведун, вроде Глафиры. Смерть причину сыщет. – И, явно желая оборвать этот разговор, сказал: – А чего вам тут торчать? Полевать так полевать. Вон и солнышко из-за деревьев вываливает.
Савватей посоветовал попытать счастья по тетеревам. Растолковал дорогу в рябинник, где в эту пору отъевшиеся за осень птицы клюют тронутую заморозками ягоду. Смахнул со стола пучки трав, вырвал из тетрадки лист и, ориентировавшись по старинному компасу, нетвердой рукой набросал грубую схему пути. Пометил на ней балочку, валун, известкую всем «партизанскую пихту», возле которой когда-то колчаковцы расстреляли его старшего сына, и одинокую сосну, где страшно окончил жизнь человек, предавший партизан. Он вручил охотникам эту самодельную карту. По таким ходили, вероятно, в здешних краях промысловые люди времен Ермака Тимофеевича. Растолковал путь, потрепал Рекса, с тоскливым беспокойством наблюдавшего сборы.
– Ну, ни пуха вам ни пера. А мы с тобой, Рекс, на печку. – И было в этих просто произнесенных словах что-то такое, от чего старый, уже поседевший рыжей собачьей сединой кобель издал короткий, щемящий вой…
– Странно, этот Савватей – умница, не верит ни в бога, ни в черта, ни в сон, ни в чох. Еще в гражданскую был партизаном, и вдруг этот первобытный фатализм, – задумчиво произнес Надточиев, когда охотники отшагали уже немало километров. – Странно, даже дико.
– Кто его знает! – обернулся Литвинов. Скорым шагом опытного пешехода, на редкость проворным при его медвежатой стати, он все время опережал длинноногого инженера. – А может, и есть что-то такое, чего наука еще не открыла. Биотоки какие-нибудь, что ли… Вот мой отец покрепче меня был, на спор с купцом штоф водки единым духом из горлышка высадил. Бывало, на Волге деревня против деревни на масленой на кулачки выйдут, как послышится: «Гришка-лоцман», – так чужая стенка и дрогнет… А однажды, я уже был в Твери на рабфаке, вдруг письмо: «Приезжай прощаться. До вербного воскресенья, дальше не дотяну». Зачеты были; думаю, чушь, мистика… На пять дней задержался – и не застал; похоронили… Может быть, оно что-то и есть, отчего бывают предчувствия.
До «партизанской пихты» путь лежал по таежной дороге. Весной, когда кряжевцы перевозили свои дома, дорогу плотно утрамбовали множеством шин и гусениц. Стебли вдоль колеи и сейчас еще тут и там чернели от автола. Но колхоз переехал, тайга перешла в наступление, трава закрыла колею, тут и там уже выбивались из нее березки, сосенки, пихточки-годовички. Лишь один человек прошел на заре по этой дороге, и в тенистых местах, где еще держался кристаллический иней, были четко оттиснуты его следы. У «партизанской пихты» человек этот тоже свернул вправо и, обогнув помеченную на карте сосну, сбежал в овраг. Он шел тем же маршрутом, какой Савватей начертил для охотников.
– Видишь, видишь, туда же идет, прохвост, – забеспокоился Литвинов. – Сугубо глупо было выезжать ночью, надо бы с вечера. – Он с азартом оглядывался вокруг, и свою замечательную двустволку-тулку, подаренную ему украинскими организациями в день завершения восстановительных работ на Днепрогэсе, нес уже в руках. – Гляди по следу: мальчишка, сопляк. Подстрелить ничего не подстрелит, а всю птицу распугает… Вот не повезло.
Овражек, на дне которого кое-где в бочажках сохранялась вода, вывел охотников к указанной на карте небольшой котловине, со всех сторон поросшей лесом. Посреди котловины они увидели деревянную оградку. За ней возвышался непонятный металлический предмет. Все это издали походило на могилу. Коренастые, широко разросшиеся ивы осеняли ее ярко-зелеными космами. Возле стояла женщина в темном. Держа ружье в руках, она настороженно смотрела в сторону приближавшихся охотников. Те тоже остановились. Разглядев их, женщина бросила ремень ружья на плечо, широким мужским шагом пересекла котловину и ушла в противоположную сторону.
– Ее следы? – Надточиев был поражен этой встречей.
Литвинов, прищурившись, смотрел вслед быстро удалявшейся темной фигуре.
– Глафира.
Они миновали поляну. Под ивами, с которых даже в безветрии тек лист, действительно оказалась могила. На продолговатом холмике лежал судовой якорь. К толстому железному стержню была прикреплена начищенная до блеска медная дощечка. На ней безыскусно выгравированы контуры первого советского герба, буквы «РСФСР» и надпись: «Здесь покоятся славные партизаны тт. Прохоров Терентий, Болоцких Федор и их боевой командир Седых Александр Савватеич, погибшие от озверелой руки колчаковцев 18 ноября 1919 года».
Руки охотников как-то сами потянулись к шапкам. Обнажив головы, они молча стояли у таеж-ной могилы. Самое удивительное было, что тут, в глуши, далеко от жилых мест и проезжих дорог, все сохранялось в отличном состоянии. Якорь был выворонен черной блестящей краской, дощечка сверкала. Холмик был обметен, и на нем лежала ветка калины с сочными рубиновыми ягодами.
– Кто ж тут за всем этим ходит?
– Ну, конечно, Глафира, – задумчиво ответил Литвинов. – Она ж вдова Александра. Мне о нем Седых рассказывал: пароходный механик, он колчаковский транспорт на пороге Буйном стукнул. Всех спустил ко дну, сам выплыл. Партизанил еще, да кто-то их предал. Вот лежат герои…
Позабыв об охоте, они присели на скамеечку, вкопанную возле оградки. Славное прошлое пустынного этого края, где страсти революции бродили не менее круто, чем в больших промышленных городах, подступило к ним. Литвинов вспомнил, как старосибирский археолог со странной фамилией шумел у него в кабинете, выпрашивая водолазный бот, чтобы поискать на пороге Буйном остатки старинных судов. Он тоже рассказывал о гибели транспорта «Император Александр», потопленного партизанами. Говорил он что-то и об этой могиле и сокрушался, что она попадает в зону затопления. Все это теперь связалось одно с другим, и стало еще более понятным, почему Иннокентий Седых так яростно боролся за эти земли, почему Глафира, когда-то радушно привечавшая гидростроителей, теперь молча уходит из избы, стоит Литвинову появиться на пороге, почему она за это лето совершенно извелась, почему не поехала с остальными в Ново-Кряжево, а обитает на пасеке. Может быть, и Савватей, старый чертяка, не зря наметил им путь через эту котловину. Может, он хотел молчаливо напомнить начальнику строительства, какое еще горе готовит он его семье…
– Ну, пошли, пошли, – заторопился вдруг Литвинов. – Глафире не до тетеревов, все нам останутся…
Они шли уже осторожно, останавливаясь и осматриваясь перед каждой прогалиной. Карта говорила: рябинник где-то тут, рядом. Вдруг Литвинов остановился. Пальцем поманил Надточиева. Тот, подойдя на цыпочках, подставил ему ухо, полагая, что Старик заметил дичь.
– …Знаешь, как назовем мы наш город-спутник, что на Птюшкином болоте? – неожиданно спросил начальник строительства. – Партизанск. Да, да. Партизанск, вот в их честь. – И он показал пальцем туда, откуда они только что пришли.
Тут он смолк, и они замерли, услышав странные хрипловатые звуки. Они доносились из недалеких, тускло рдевших кустов. Рябинник? Ну да, вон среди ржавой листвы будто брызги крови. И что-то неясно чернеет в ветвях. Вцепившись в ружья и обо всем позабыв, охотники ловили звуки, доносившиеся из-за кустов. Ага, вон и ветки шевелятся! Кто-то копошится в них. Литвинов сделал руками охватывающий жест: надо разойтись и подходить справа и слева против ветра.
Ветер бросал в лицо Надточиеву горьковатый аромат палого листа. На цыпочках двигался он от куста к кусту, держа ружье наготове, не спуская глаз с шевелящихся веток. Уже отчетливо различались в ржавчине листьев силуэты крупных, тяжелых птиц. Не замечая опасности, они жадно склевывали гроздья тронутой морозом рябины. Тут грянул выстрел, затем другой… Несколько птиц, что сидели повыше, снялись и, свистя крыльями, полетели прямо на Надточиева. Одну из них он подстрелил на взлете, другую подбил из второго ствола, когда она проносилась у него над самой головой. Птицы с шумом упали невдалеке. И тут инженер услышал яростный вскрик и брань.
В кустах, красный от досады, стоял Литвинов. Он явно не видел птиц, которые затаились в чаще ветвей. Приложив палец к губам, Надточиев указал ему на них. Литвинов насторожился. Весь напружинившись, он стал тихо подкрадываться, но наступил на ветку. Раздался треск. Еще одна птица, шумно хлопая крыльями, ломая ветви, стала выбираться из зарослей. Снова раскатились по лесу выстрелы. Дробь секанула по листве где-то над самой головой Надточиева.
– Ух… – послышался густой мат. Литвинов стоял весь красный и, проводив бешеным взглядом улетавших птиц, перевел его на удачливого товарища. – Я тебе их на мушку посадил. Моя птица! – кричал он.
А в это время еще один, самый осторожный и самый хитрый петух, бесшумно выбравшись из листвы, полетел, почти задевая вершины рябин. Оба ружья вскинулись одновременно. Оба охотника нажали курки, но грянул лишь один выстрел. Дым рванулся из ружья Надточиева: в огорчении Литвинов забыл зарядить свою знаменитую двустволку. А его партнеру, как на грех, продолжало везти. Еще одна птица, самая крупная, самая тяжелая, билась на земле. Стараясь не глядеть в искаженное яростью лицо Литвинова, инженер добил ее. Шум, раздавшийся в рябиннике, все-таки погасил бешенство неудачливого охотника. Вскинув ружье, он метнулся навстречу новой птице. Он выстрелил из обоих стволов, посыпались перья, и бесформенный комок стал падать, кувыркаясь в ветвях.
– Ага! Наконец-то! – вскричал Литвинов, ломясь к добыче прямо через кусты.
– С полем! – радостно поздравил его Надточиев, стиравший травою с рук птичью кровь.
И в ответ грянул новый залп ругательств. В ярости Литвинов бросил оземь ружье и топтал его.
– Федор Григорьевич, вы ж ее мастерски срезали…
– К черту, убирайся ты к черту в штаны! – не помня себя, кричал Литвинов. – …И не таскайся за мной! Хватит! Видеть не могу твою рожу!
Приготовившись достойно ответить на обиду, Надточиев случайно взглянул на землю, где лежал трофей его спутника: ком перьев, изрешеченной дробью. Это были пестрые перья сибирской совы. Литвинов, не оглядываясь, уходил в чащу в обратном направлении. Еще слышался треск кустов. Надточиев собрал свои трофеи. Это были две молоденькие курочки и великолепный тяжелый петух. Связав шеи, охотник перекинул их через плечо и пошел обратно, стараясь держаться следов Литвинова. Тот шел так быстро, что догнать его не удалось. Комок совиных перьев, оставшийся лежать на траве, невольно настраивал инженера на веселый лад. И все же мысли вертелись вокруг одинокой могилы в лесной котловине и этой женщины, похожей на монашку. Он думал о ее верности, о ее любви, о женской любви вообще и главным образом о том, почему его, Над-точиева, никто не любил, пусть не так фанатически, а хотя бы нормально, хотя бы немножко…
На пасеку охотники вернулись порознь. Савва-тей, которому не раз приходилось полевать с Литвиновым, сразу сообразил, в чем дело. К приходу Надточиева они уже пили чай и пошучивали над Петровичем, который с юмором повествовал о перипетиях своей семейной жизни. Всю эту картину Надточиев увидел еще в окно. Оставив битую птицу в сенях, он медленно открыл дверь. Он был не из тех, кто молча сносит обиды, и уже приготовился к бою, но Литвинов шел ему навстречу, протянув руку:
– …Ну, прости меня, Сакко, поганый характер. Как говорит Петрович, с пол-оборота завожусь… Не сердишься? Ну и ладно. – И потихоньку попросил: – Про эту окаянную совенку – ни гугу.
– Трофеи пополам, – с облегчением сказал Надточиев. – Ведь это же чистая случайность, что ваша птица летела на меня.
– Ну, какая тут случайность… Меня за такую стрельбу утопить мало. Думаешь, я дурак? – И, вырвав из трубки, лежавшей на лавке, лист ватмана, развернул его. – Нет, ты лучше погляди, Сакко, что тут Иннокентий строит. Вот оно, его Ново-Кряжево, в плане, а вот перспективный эскиз. Гляди, площадь, универмаг, поликлиника, школа, Дом для учителей, а там, возле Ясной, за стадионом, пристань. Морская пристань! А рядом, смотри, склады. Ледяные склады. Рыбу, убоину, овощи оттуда прямо к нам морем возить будут… Морем! Таежное море, черт возьми!.. А Иннокентий-то, Иннокентий-то не успел на новом месте обжиться, и вон уж куда засматривает. И ты смотри, кто ему это все делает! Москва… А между прочим, деду вон не нравится. Так, Мокеич?
– Да-от как сказать? Конешно, ничего, однако ж нашим ли носам да малину клевать. Она ягода нежная… Городское жилье, оно, конешно… Устарел я, может, а жаль мне от приволья отказываться… Тут как-то сижу на завалинке, в субботу, что ли, идут парни с девками. По виду ваши, торбы у них за плечами на ремнях, ведерки, снасть, даже цыганский чугун двое на палке тащат. Идут, значит, тайгой подышать. У одного за плечами приемник, поменьше даже моего. Орет на весь лес… Мне-от-жалко их стало. В тайгу – и с радио… Ее ж саму слушать надо. Сколько у нее голосов, сколько песен! А они… Плохо это, Григорьевич… Иль ты тоже с собой радио по тайге таскаешь?
Старик сидел сутулый, нахохлившийся. Он все еще походил на беркута, но беркута, вымокшего под дождем. Он будто бы и не беседовал, а так думал вслух, разглядывая какие-то свои мысли. Только раз за весь день в погасших глазах засветился прежний блеск. Это когда он спросил, видели ли охотники партизанскую могилу.
– Видели, – ответил Литвинов, тоже оживляясь. – Слыхал я о твоем старшем. Знаешь, что мы тут с Сакко надумали. Вот посоветовать жителям, чтобы просили правительство назвать новый городок Партизанском. И в том городе площади имя дать – площадь Сибирских партизан. А? И в городе этом сыну твоему и товарищам его спать на самом почетном месте.
– Эх-хе-хе! – совсем по-стариковски сказал Савватей. – Ладно надумано, только ведь и праха поди не осталось. Лет-то уж сколько прошло над той могилой…
– Мы Глафиру Потаповну там видели, – сказал Надточиев!
– Видели? – уже снова потухшим голосом переспросил старик. – Это так, она там. Каждое воскресенье там, могилку приберет, сидит, думает… Вот вы перенесете, похороните с честью, а она куда? У нее не только любовь, но и вся жизнь там закопана.
Когда охотники уходили, старик даже не пошел их провожать. Сидя на лавке, он подавал им безжизненную вялую руку.
– Наверно, не свидимся, Григории, так не за-будь про могилку-то.
– Я и о тебе не забуду, Савватей Мокеич. Я тебе такого врача пришлю, плясать еще будешь. Знаешь кого?
– Знаю, знаю я твово врача… Внучка навещает, все ваши секреты знаю. Только и тот врач без пользы. Савватею Седых на тот свет уж путевка выписана. Чую. – Но вдруг что-то тревожное сверкнуло в его глазах. – Ты лучше, Григо-рич, нашего Дюжева не забывай, вот кому врач нужен. Взялся поднять человека, поддерживай. Дело без конца, как кобыла без хвоста.
Помолчал, будто тихо удалялся куда-то, и про себя бормотал:
– Полюбился мне этот Дюжев… Приехал тогда с Кешей. Я, матушки светы, живой мой Александр! До того на старшего моего похож и обликом и характером. Только мой говорун, а этот молчальник. Все молчал… А потом отогрелся, заговорил. Оно известно, в лесу человек лесеет, а на людях людеет… Прям очень, спина-от совсем не гнется, скорее его сломишь, чем согнешь. Ты его береги: большой прок от него людям будет. А пьет, что ж, не для услады, в неволе-то вон и медведь запляшет. Александр, покойник, тот хмельного не принимал, даже чая не пил, даром что ярым большевиком считали, а этот… – И повторил: – В неволе и медведь пляшет.
Когда, простившись со стариком, все вышли на улицу и закрылась дверь, Петрович, оглянувшись на окно и убедившись, что Савватей не смотрит, поманил всех за собой. В сторонке от избы пасечника был врыт в землю погребок-омшаник, куда на зиму прятали улья. Петрович зажег фонарик. Острый белый луч пронзил сыроватую, пропахшую прополисом мглу и высветил ряды полок, уходящих вдаль. У входа белел прислоненный к стене гроб. Возле стояли аккуратно остроганные тесины еще не собранной крышки.
– Себе жилплощадь готовит, – сказал Петрович.
Шутка не вышла. Ответом на нее было неловкое молчание. Почему-то на цыпочках поднялись по ступенькам, погрузились на своего «козла», да так и промолчали, пока дорога не вывела машину на взгорбок, с которого открылся вид на обильные и пестрые огни молодого города Дивно-ярска.