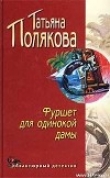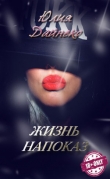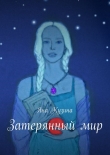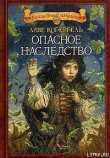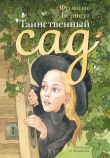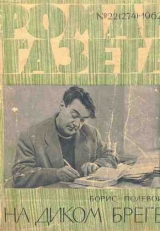
Текст книги "На диком бреге"
Автор книги: Борис Полевой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 42 страниц)
7
Начинался август. Щедрая, изобильная пора, Тайга стояла в могучем зеленом летнем уборе. Отходила в чащобах малина, зато уже чернела в яркой зелени крупная смородина, и брусника, подставляя солнцу румяные щеки. Толстый слой хвои поднимали замшевые шляпки грибов первого урожая, которых здесь называли колосовиками. В полдень воздух в тайге был густо напоен ароматом разогретых хвойных смол, подсыхающей травы. Но по вечерам в закатный час становилось прохладно, по земле ползли слоистые туманы и звезды над ними сверкали уже по-осеннему ярко в бархатной черноте неба.
В такой вот вечер на пасеке «Красного пахаря», в избушке деда Савватея, которую, должно быть, в память о его былых охотничьих заслугах все в колхозе именовали станок, за столом сидели трое: сам хозяин, босой, в рубахе без пояса, в старых, заплатанных штанах, сын его Иннокентий Савватеич и Павел Васильевич Дюжев, имевший сегодня особый, непривычный для окружающих вид.
Он подстригся, округлил бороду, убавил усы. Вместо комбинезона, в котором его привыкли видеть, или дешевой пиджачной пары, какие в будни носили колхозники, на нем были офицерская габардиновая гимнастерка, плотно перехваченная поясом, армейские шаровары, заправленные в хромовые, начищенные до блеска сапоги. Над кармашком была прикреплена пестрая орденская колодка, не слишком большая, но и не маленькая, на которой солдатский глаз сразу отличил бы рядом с орденом Красного Знамени ленточки орденов, какие получали командиры частей за успешное проведение боевых операций. И если раньше трудно было определить на взгляд возраст Дюжева, который одним казался стариком, другим – молодым, сейчас, крепко, затянутый ремнем, он выглядел человеком «в самой поре», как определил дед Савватей, пораженный новым обликом колхозного механика.
Избушку наполнял прохладный полумрак, и так как за окном ходили тучи и вдали погромыхивало, запахи обострялись, и в ней густо пахло медом, хлебом, сухими травами. На столе стояли яичница с ветчиной, блюдо с румяными шанежками, солдатский котелок, полный малины. На тарелке лежал круглый кус домашнего масла, сохранявшего оттиск тряпицы, в которую оно было завернуто. В глиняном блюде виднелся медовый сот с воткнутым в него ножом. Хмельного не было.
Глафира, бесшумно стоя поодаль, у печи, уже несколько раз напоминала, что с закусками надо кончать, ибо пельмени «доходят», но никто не притрагивался к еде.
– …Так помни, Павел Васильевич, дом твой тут, – в который уже раз повторял Иннокентий Седых, любовно глядя на друга. – Как там ни обернись, ты наш. Из правления мы тебя вывели, а из колхоза не отпускаем, и книжка твоя у меня в столе будет.
– Не вовремя, не вовремя ты нас, Васильич, бросаешь, – тоже уже не в первый раз вздыхал Савватей.. – Оно, конечно, коза-то на горушке, говорят, выше коровы в поле, а все-таки мое тебе слово – зря. Дел-то на новом месте для тебя сколько! Город, чистый город вон Иньша строит. Там для твоей башки какой разворот – крути-верти… М-да, неладно, Васильич, неладно… Приютили тебя люди в трудную твою годину как свово, семейного приютили, а ты?..
– Папаша, ни к чему это, – остановил сын.
– А что, не правда? Каким он к нам приехал? Я не сужу, в расплохе и медведь труслив, а все же теперь вон какой сокол. Ох-хо-хо, смотри, Васильич, не смени кукушку на ястреба!
Ничего не ответив, Дюжев встал, подошел к зеркальцу, висевшему на косяке.
– Сколько лет сбрую эту не надевал! Сейчас надел – старик, совсем старик. – И по тому, что в речи своей он упирал на «о» больше обычного, Иннокентий понимал, как волнуется его друг.
– Горе-от, Васильич, разе что рака красит, – отозвался Савватей.
– М-да, времени прошло немало… Все будто осело, устоялось, а тут снова поднялось. Нет у меня на свете людей ближе, чем вы, Седые. На партсобрании не сказал бы, а вам скажу: живет, живет во мне эта боль. Она как вот рана. – Дюжев хлопнул себя по голени. – Давно ее затянуло, а как погоде меняться, замозжит, задергает…
– Отваром редичным надо, а то капустный лист. Напарить в масле и прикладывать. Горячий, как можно только терпеть. Сразу полегчает, – послышался совет из полутемной избы.
– Эх, Глафира Потаповна! Глубока она, моя рана, не пропаришь ее… Другой раз и вовсе забудешь, а вот захотел погоду менять – и… – В словах Дюжева прорвалась тоска.
– У нас вот говаривают: «Долго горе горевать, все равно что хрен жевать!» – с деланной бесшабашностью воскликнул Савватей. – Нет на свете ни радости вечной, ни печали бесконечной… Глафира, пельмени, чую, у тебя доспели. Тащи,
– Так вы ж закуски не тронули.
– А ну их к корявому дьяволу, эти-от закуски… Тут большой разговор идет.
И пока Глафира перекладывала пельмени в блюдо, заливала их отваром, старик не переставал говорить.
– И еще у меня, Павел Васильич, за тебя сомнение. Вот рассказывал ты нам про человека того. Он-от там сила. С ним тебе хороводы-то водить придется. – На остром соколином лице старика, за это лето очень высохшем, отразилась отеческая забота. – Не хочет он тебя, против его воли идешь. Раз он тебе жилы подрезал, и в другой раз подрежет… А?
– Не хотел я с ним встречаться и за проект опасался. Думал – отдам чертеж, скроюсь, пусть люди пользуются… А вот нашли… Ничего, не беспокойтесь, все будет хорошо, диалектика говорит все течет, все изменяется.
– Что она такое, диалектика, мне неизвестно, – настаивал старик. – Однако у нас говорят волк-от каждый год линяет, а нрава не меняет
– …А женка у него славная. Легонькая, будто косуля. Штанишки на ней эти смешные, как у клоуна какого, а руки твердые, уверенные. И крови не боится, будто сестрой медицинской по фронтам прошла, – задумчиво сказал Дюжев.
– Видели мы тут эти самые штанишки… Леса-то, Васильич, по опушке не узнаешь…
Молча ели пельмени. Добавляли, перчили, поливали уксусом, макали в сметану. Каждый думал свое, и когда блюдо опустело, разговор снова начался с того самого места, на котором обо рвался.
– В случае что, Павел Васильич, помни, все мы твой тыл. Вся наша колхозная парторганизация. – Иннокентий отложил вилку. – Да тебе такую характеристику напишем, хоть в ЦК тебя выбирай. А вот насчет этого самого, насчёт жидкого-то, полечиться бы тебе. Говорят, теперь лечат… У нас тут каждый тебя своим одеялом прикроет, а там у всех на виду… Ох, беспокоит меня этот Петин!.. Конечно, по всему надо б тебе на него, а не ему на тебя злиться…
– Ох, не скажи, не скажи – перебил Савватей сына. – В старину говаривали: «Кто кого обидит, тот того и ненавидит…»
Глафира шумно вздохнула. Она слушала весь этот разговор стоя, лицо у нее еще больше похудело, стало совсем похожим на лик раскольничьей иконы старинного письма. Черные глаза блестели из-под низко надвинутого платка, и была в них, в этих глазах, такая тоска, какой ни по одним святцам не знали небожители.
– Уж и угостила же ты меня на прощание, Глафира Потаповна, – сказал Дюжев, решительно вставая. – Умирать буду, пельмени твои вспомню… Ну, спасибо, пора мне…
– Ты нас, Павел Васильевич, совсем-то не кидай. Выставка тут нам чертежи парников и тепличек прислала, без твоей-то головы трудно будет, – сказал Иннокентий и вздохнул. – Без тебя и вообще-то мы на голову ниже станем.
– Да что вы его, как на кладбище! – сердито оборвала Глафира. – На его коне до Ново-Кряжева час скоку.
– Вот, вот, именно час, – поддержал Иннокентий. – Будем тебя на консультацию вызывать, суточные, командировочные – всё чин чином… А потом мечту я имею, Павел Васильевич. – Иннокентий потупился, – Породнимся, может, а? Тут все близкие, секретов от них не держу. Вот как Ново-Кряжево дострою, запущу все на полный ход, мечтаю свадьбу сыграть. Понял? Тольша Субботин – круглый сирота. Так тебя за посаженого позовем. Вот и будем сваты-браты…
Дюжев уже стоял в дверях, искоса поглядывал на старинные ходики с камаринским мужиком, отплясывавшим трепака на циферблате.
– А я-то думаю, зачем это Иннокентий новый дом с двумя крыльцами рубит? – сказал он, усмехаясь. – Обещаю: на луну ушлют, оттуда прилечу на свадьбу.
– Ну, прощай, – сказал Иннокентий, протянув руку. – Забудь, что мы тут наговорили… Правда у нас всегда верх возьмет, такая страна.
– Уж на что щука востра, а не взять ей ерша с хвоста, – с деланной веселостью поддержал Савватей. – Сибирь-матушка на всяк случай пословицы придумала.
Дюжев хотел что-то сказать, но не сказал, сглотнул слюну и, резко повернувшись, скрылся за дверью. По крылечку проскрипели сапоги, резко взревел мотоциклетный мотор. С ходу взяв скорость, машина промчалась мимо окон, но рокот мотора долго еще слышался из тайги, и какой-то уголок надтреснутого зеркала звенел, от-зечая ему. Наконец все стихло.
Старый Савватей встал, пошарил рукой за печкой, извлек оттуда пол-литра, коротким ударом выбил пробку, налил по полстакана.
– Ну, доброго ему пути. Полный большевик, как твой, Глафира, муж, Александр Савватеич покойный…
Выпили не чокаясь, как пьют на похоронах. Тикали ходики, за окном, в сгустившейся тьме сверкала молния. И вот полыхнуло где-то рядом, послышался оглушительный раскат, и крупный дождь забарабанил в стекло. Из глубины избы, где стояла кровать, слышались приглушенные всхлипу. Там плакала Глафира, вцепившись зубами в подушку.
– Эх, отец, отец, дернуло тебя про Александра поминать! Мне легче с Кряжом проститься, чем ей с той могилкой, вся жизнь ее там.
– Промазал, – шёпотом признался старик и еще тише добавил: – Васильич, он ведь, верно, на брата твоего старшего с лица здорово смахивает. У того ж от нас ни кровиночки не было. Весь был в мать, такой же вот ражий да русый.
Вошла Глафира, черный платок совсем закрывал лицо, и только глаза светились из узкой щели.
– Иннокентий, тебе в избе стелить или с отцом на сеновале ляжешь? – будничным голосом спросила она.
8
Ганна Поперечная и Ламара Капанадзе познакомились весной на Птюшкином болоте, когда оно было еще пустошью, лежавшей в низине, отороченной по краям березовым лесом. Городок – спутник будущего Дивноярска, весьма симпатично выглядевший на плане, как окруженный леском поселок одноэтажных, двух – и четырехквар-тирных домиков с центральной площадью, образованной зданиями школы, универмага, кинотеатра, яслей и клуба, был тогда густо напитанным весенней влагой пустырем, по которому, как жуки, ползали, гудя и лязгая, канавокопатели, бульдозеры, скреперы. Они осушали низинные места, профилировали будущие улицы, поднимали проезжую часть, тротуары. Вся эта пустошь была уже разбита на строгие квадраты кварталов. На перекрестках виднелись дощечки, на которых можно было прочесть названия улиц: Березовая, Сосновая, – Лиственничная, Черемуховая, Кедровая…
Говорили, что названия эти придумал Старик. Он с особой любовью наблюдал за этим районом малогабаритных домиков, где каждая семья должна была получить в палисаднике клочок земли.
– Тут мы будем в наше будущее глядеть, – говорил он особо близким людям, довольно потирая волосатые короткопалые руки. – Мы страна просторная, нам не для чего лезть в небо. Ближе к земле – здоровее.
Так вот однажды, весенним днем, на углу таких двух улиц, о существовании которых говорили пока что дощечки, встретились две женщины: маленькая, полненькая, с глазами-вишнями, и высокая, прямая, со строго очерченным лицом.
– Вы мне не скажете, как пройти на улицу Березовую? – спросила та, что была повыше, и в ее правильной русской речи обозначился легкий грузинский акцент.
– А вам какой же дом? – поинтересовалась маленькая.
– Шестой.
– Шестой? Боже ж мой, так мы ж суседи! Вы что же, Ладо Ильичева жинка?
– А вы Ганна Поперечная? Да? Вождь грозных «домовых»? Так познакомимся: Ламара Да-выдовна. Зовите просто Ламара.
– А я Анна, зовите Ганна. Так мне привычней. Ладно?
Они пожали друг другу руки.
– Вот и познакомились, и дюже гарно, ходите до нас в гости, – сказала Ганна, показывая на пустырь, где среди грязных клочьев еще сохранившегося кое-где снега торчали ровные ряды колышков, и обе засмеялись, потому что и дом номер шесть, и Березовая улица, и сам город-спутник – все было в будущем, а пока перед ними в весеннем мареве лежал луг, отороченный березовым лесом. Людей не было видно, лишь машины двигались в разных направлениях.
Женщины вместе отыскали Березовую улицу, колышек с цифрой «6» и другие колышки, обозначавшие границы будущего двухквартирного домика. Возле был крохотный участочек: Но для двух женщин это был не лоскуток луговины, а клочок своей земли, и вот теперь они мысленно уже обставляли свое жилье, прикидывали, где будет палисадник, где лягут грядки, где будут посажены фруктовые деревца. Дул ветер. По небу неслись белые, куда-то очень торопившиеся облака. Промозглая сырость забиралась под одежду, на пустыре было неуютно, но женщины не торопились домой. Иногда они сходились у колышков, обозначавших то или иное крылечко, переговаривались.
– День и ночь мечтаю, когда мы в свою хату переберемся. Аж по ночам грезится.
– И я. Представьте, и я. Ладо все рассказывает, как хорошо и умно вы в землянке устроились, а мы вчетвером с сыном, с няней в одной комнате… Если бы вы знали, какая прекрасная квартира была у нас во Владивостоке: всегда горячая вода, газ, вид на бухту!
– А у нас в Усти! Боже ж мой! Пианино купили, Нинку музыке учить начали. Садок с вишней. Первый раз вишни в том садке созрели, каждому по две штучки досталось. Кислые, но свои.
На миг беседа прервалась, по щекам женщин катились слезы. Потом они взглянули друг на друга, улыбнулись.
– Что там вспоминать! Наш батько говорит: назад оглядываться будешь, споткнешься. Гляди вперед.
– А мой, есть у нас такая грузинская пословица, она и у русских есть: не место украшает человека, а человек – место…
Позже, когда подсохло и березы вдали стелили по ветру уже не розовые голые ветви, а нежную, молодую, желтоватую листву, соседки часто встречались у своих будущих крылечек. Приходили с заступами, тяпками, граблями. Из Старосибирского института прислали наконец долгожданные саженцы стелющихся яблонь и северных вишен. Сестра прислала Ламаре из Кутаиси семена цуц-маты, кинзы, тархуна и других ароматных трав. Соседки поделились друг с другом тем и другим. А однажды в праздничный день Ганна привела с собой хлопцев во главе с Борисом. Дружные дюжие ребята в один день вскопали весь участок Поперечных, а заодно, разойдясь, и соседний. Женщины сварили им на костре хороший обед, ребята сгоняли на мотоцикле в Дивноярск за «горючим» и хорошо угостились среди вскопанных, взбитых, как пуховики, гряд, от которых вкусно пахло землей, влагой, солнцем.
Охмелевший Борис Поперечный, косясь на пригожую грузинку, даже перешел на украинский язык.
– У нас у сели звычай: комсомольци солдаткам зорать и обрабыть помогають. Вы ж, титки, тии ж солдатки. Чоловиков хиба в сни и бачите.
– Молчи, божевильный, цур тоби пек! – смеялась Ганна.
А потом, когда хлопцы ушли, обе женщины опечалились. Солдатки! Как это к ним подходило! И общая эта тягота еще больше сблизила этих двух, таких разных женщин.
– Вы знаете, Ганна, когда мой на флоте в плавание уходил, не виделись по месяцу и больше. Я все мечтала: уйдет в запас, отдохнем, поживем друг для друга. В театр, в кино, на выставки разные будем ходить, Гришей вместе займемся. И вот, это грубо, конечно, сказано, но ведь в самом деле только в кровати и встречаемся. – А я за солдата шла. Так верите ли, Лама-рочка, ясынька вы моя, на фронте в войну больше вместе были. Такая обида, такая обида… А жизнь-то ведь идет. Так всю ее и прозеваешь, сидя на узлах. Я ведь с нашим батько теперь в иной день и словом не перекинусь. Придумал, он этих каких-то «негативов» за уши вытаскивать, до ночи в забое, придет – тронуть страшно…
Возвращались молча, и лишь там, где пути их расходились, Ганна сказала:
– Солдаткой можно молодой быть, а в нашу пору… – И тряхнула головой, будто комара отгоняя. – А что, если вам, Ламарочка, к нам в «домовые»? – И вдруг, совсем оживившись, подмигнула: – У «домовых» тогда в парткоме уж не рука, а кое-что покрепче руки будет. – Ганна подмигнула еще. – То когда-то мы с нашими делами к товарищу Капанадзе пробьемся, а то вы ему под одеялом шепотом скажете: ночная кукушка дневную-то всегда перекукует.
И Ганна бодрой походкой направилась в зеленый городок, а Ламара, провожая ее глазами, удивилась, откуда эта уютная толстенькая женщина-уточка берет энергию…
С пуском первой очереди домостроительного комбината на пустыре, все еще носившем смешное название «Птюшкино болото», дома стали расти поистине со сказочной быстротой. Едва каменщики успевали поднять столбы фундамента, как приезжали машины с готовыми огромными деталями, и монтажники за три-четыре дня собирали дом, подводили его под крышу. Так однажды Олесь Поперечный, придя после долгого отсутствия на Птюшкино болото, увидел, что Березовая, шесть, – уж не колышки с дощечками, а новенький, пахнущий смолой, весело золотящийся на солнце домик, в котором девчата-маляры, напевая, охорашивают стены.
Пустырь превратился в поселок. И пока неторопливые катки ровняли асфальт проездов, по вечерам сами жители, – мужчины, женщины, ребятишки—сажали вдоль тротуара деревья, привезенные из тайги. Ламара и Ганна, работавшие вместе с ними, радовались первым почкам, лопнувшим на маленьких и хилых саженцах, звали друг друга любоваться каждым новым листом, выкинутым на огурцах.
Их мужья нередко заскакивали теперь на Березовую. Но именно заскакивали. Им постоянно было некогда, постоянно они были заняты и на Березовой чувствовали себя не хозяевами, а гостями.
Хозяйственная Ганна, мечтавшая, что муж, в добавление к газовой плите, соорудит ей во дворе, по обычаю родных краев, кирпичную грубку, собрала щепу, стружки. Грубки все не было, и ветер растащил кучи и забрасывал мусор и на соседний участок. Было обидно, очень обидно… В день, когда новым хозяевам домика шесть, по Березовой, были вручены ключи, соседи встретились на собрании партийного актива строительства. Встретились и договорились, что в ближайшее воскресенье обе семьи перевезут пожитки в новое жилье и, по обычаям, существующим и на Украине, и в Грузии, и тут, в сибирском краю России, совместно «омоют» новые стены. Об этом торжественно было объявлено дома. Но случилось так. После известного уже нам тяжелого разговора в управлении Олесь решил провести выходной день в кабине машины, разгадывая причины своих неудач. В тот же день прибыла делегация старых коммунистов Чехословакии. Они прилетели за тысячи километров смотреть рождение сибирского колосса. Капанадзе с утра показывал почетным гостям строительство.
Жены решили перебираться сами. Особых трудностей это не представляло. Хлопцы и Сашко погрузили, перевезли мебель той и другой семьи и под руководством хозяек расставили по комнатам тяжелые вещи. Даже печи истопили. Но радость дня, которого так ждали обе женщины, постепенно меркла. Пока хлопотали с перевозкой, с выгрузкой, с расстановкой, было еще ничего. Но вот подмели пол, с удовольствием пощелкали выключателями, повертели краны, подергали водоспуски в уборной. Установили: все работает.
Пришлось самим составлять на общей террасе столы, самим водружать на них закуски, бутылки. Больше делать было нечего. Нина и Григол убежали играть во двор. Сашко уткнулся в книгу. И опять пришла большая обида: в такой день – одни. Но обе прятали обиду, держались, болтали, пока Ламара случайно не сказала:
– А я все думаю, какие вы с мужем умные, практичные люди. Не успели переехать, и все у вас на месте, все есть, всем можно пользоваться. А у меня, смотрите, лавка комиссионная. Все снова приобретать надо. Даже тахту бросили во Владивостоке, а какое же грузинское семейство без тахты, без мутанов! – Она еще раз прошлась по комнатам Поперечных. – Какая прелесть эта ваша складная мебель!
В ответ на похвалу слезы брызнули из глаз Ганны, и удивленная, испуганная Ламара услышала сквозь рыдания:
– Будь она проклята, эта складная жизнь, будь проклята, будь проклята… – И хотя к этому не было добавлено ни слова, Ламара все поняла. Обняв новую подругу, она тоже разрыдалась.
Когда Олесь Поперечный и Ладо Капанадзе, уже вечером, прибыли домой по своему новому адресу, они нашли праздничный обед безнадежно остывшим, а жен спящими в обнимку на диване.
9
С некоторых пор у начальника Оньстроя появился толковый, деятельный, разбитной помощник, не числящийся в штатах управления и не прошедший сквозь сито отдела кадров. Больше того, ежедневно общаясь с ним, давая ему разные поручения, начальник строительства никогда не видел этого помощника и почти ничего не знал о нем.
Помощник этот вступал на должность постепенно, незаметно врастал в нее, а так как руководство Оньстроем – это масса разнообразных дел, Литвинов и не заметил, как это происходило.
Автоматическая телефонная станция Дивноярска еще только сооружалась. Связь велась с помощью телефонисток. И вот однажды среди знакомых уже голосов из телефонной трубки послышался новый, звонко, напористо, энергично отвечавший: «Седьмой». Началось все в праздничный вечер. Литвинову понадобилось сообщить в Москву, как чувствуют себя чехословацкие гости, но Капанадзе, который сопровождал их весь день, отыскать не удалось. После двух неудачных звонков Литвинов с досадой произнес:
– Вот незадача, – и бросил трубку.
Через некоторое время раздался вызов, и напористый голосок сообщил: «Соединяю с Капанадзе». И сейчас же знакомый голос с грузинским акцентом спросил:
– Вы меня ищете, Федор Григорьевич?
– Ищу, а ты где, откуда говоришь?
– С Птюшкина болота, из милиции.
– Нет больше Птюшкина болота, есть городок-спутник, – поправил Литвинов. А потом, получив сведения о чехословацких гостях, удивился: – Как же ты, Ладо, угодил в милицию?.. С новоселья?.. Ты что меня разыгрываешь?
– Вы же сами за мной посылали участкового.
– Ах, вот оно что. Это Седьмой, его работа… – догадался начальник и довольно прибавил: – Ишь ты какой молодец! – Подумал, решил поблагодарить. Но, подняв трубку, услышал: «Пятый»…
Вся эта маленькая история так, вероятно, и забылась бы, но на следующий день Седьмой опять заявил о себе. Понадобился Надточиев – его не оказалось ни в кабинете, ни в Доме приезжих, ни в вагончике у Бершадского, где Сакко Иванович проводил теперь много времени, наблюдая, как Макароныч и вновь назначенный инженер Дюжев подготавливают строительство моста. Надточиев был найден и приглашен к телефону… в молочном магазине, где он покупал себе кефир. На этот раз Литвинов поблагодарил Седьмого и даже поинтересовался, как это ему удается делать.
– Очень просто, – прозвучал напористый голосок. – Дежурная в Доме приезжих сказала, что пошел за молоком. Молоко в магазине, молочная на Левобережье одна, телефон известен. – Но слушать благодарности Седьмой не стал. Голос исчез из трубки.
Литвинов любил все текущие вопросы решать на месте, на ходу. Кабинетная работа была у него плохо организована. Его секретарь, пожилой, растолстевший человек, переезжал с ним уже на третью стройку. В управлении он всегда был председателем месткома, слыл активистом. Это был аккуратный человек. Что-нибудь ему поручив, можно было не бояться: не забудет, рано или поздно сделает. Но делал он чаще поздно, не было в нем энергии, смекалки, инициативы. Как-то огорченный Литвинов неосторожно сказал: «Ты, брат, как чемодан без ручки – и в дело не годен, и выбросить жалко». Так за ним и пошло: «Чемодан»… Вот почему такое непрошеное вторжение в его дела оказалось Литвинову весьма кстати. Теперь он часто просил:
– Слушай-ка, Семерочка, отыщи-ка ты мне, голубчик, такого-то.
Потом уже с вечера, уходя домой, стал давать проворной девушке поручения:
– Семерочка, не в службу, а в дружбу запиши-ка там у себя: я с утра на домостроительном комбинате, потом на дамбе у Макароныча, потом на Правобережье, там, где Мурка-зубоскалка свирепствует… Потом заеду в карьер на четырехкубовые. Ясно? Ты уж не подкачай. Чуешь, звонок серьезный – поищи. Идет?.. Ну, спасибо. Дай бог тебе жениха хорошего…
И Седьмой, за которым по просьбе начальника закрепили его провод, неукоснительно, с большой точностью выполнял все поручения. Так понемножку таинственный Седьмой занимал в управленческих делах все большее место, и Чемодан, единолично владевший до сих пор персональным проводом начальника, ревнуя, недоумевал, откуда она взялась, эта настырная девка. А та, обладая острой памятью и, видимо, очень организованная, оказывала Литвинову все более существенную помощь. Впрочем, Седьмой был строг, комплиментов и шуток не слушал, и как только разговор сходил со строго деловой колеи, голос гас в трубке, и Седьмой исчезал без предупреждения.
И вот однажды утром вместо Седьмого ответил Пятый.
– Почему Пятый, где Седьмой? – буркнул Литвинов.
– Она заболела, – был ответ.
– Что с нею?
– Ангина и грипп, – ответил девичий голос, показавшийся Литвинову скучным и противным. – Валя оставила мне список тех, кого вам надо утром вызывать. Начать?
– Ну, включай.
Но у Пятого, как он ни старался, ничего, неполучилось. Многих нужных людей не оказалось на месте, найти их Пятый не сумел или не счел нужным. И вся первая, самая любимая часть рабочего дня оказалась у Литвинова смятой. Вот тогда-то Литвинов снова подумал, что нужен настоящий помощник, без которого до сих пор позволяли ему обходиться собственная необыкновенная острая память, энергия и чутье. Новый, небывалый даже для него объем строительства, сложные соотношения производств, разбросанных в разных местах, далеко друг от друга, – все это требовало не ветхозаветной скрупулезности и неторопливой исполнительности Чемодана, а энергии, инициативы, творчества; да, именно творчества.
Об этом вечером усталый Литвинов и рассказывал с досадой Петину. Тот слушал его сетования с понимающей улыбкой.
– …Я вам всегда говорил об этом, Федор Григорьевич, четкий, слаженный аппарат – это все. Эти ваши утренние мотания по объектам, простите, плюсквамперфект – давно прошедшее время. Вы, может быть, помните, как юнцы критиковали меня на партсобрании за то, что я редко бываю на объектах. Зачем? Не ездил и не поеду. Времени мало. К чему терять его на пустые разговоры? Четкая работа аппарата позволяет мне чувствовать пульс всего строительства, в любое мгновение знать, что где происходит. Ленин же говорил: социализм – это учет.
Литвинов любил учиться. Встретив нового человека, причастного к новым теориям, к интересным открытиям, к свежим инженерным веяниям, он зазывал его к себе, потчевал обедом, с ученическим усердием выспрашивал все, что тот знал. Внимательнейше слушал, иногда даже записывал в тетрадку. А вот сейчас, высоко ценя организаторские способности Петина, он все-таки весь внутренне встопорщился: нет же, черт возьми, никакой аппарат, никакое управление, никакие мертвые связи не заменят живого сношения с людьми, такими разными, такими сложными, такими непохожими друг на друга! Ленинская формула, произнесенная Петиным, взволновала его.
– Да, Ильич говорил: социализм – это учет, – тоненьким голосом произнес он. – Но Ильич не говорил, что учет – это социализм… Нет. И он сам, неся на своих плечах государство, все время общался с людьми, бывал на фабриках, в селах, сам принимал делегатов, ходоков…
– У меня тоже, как вы знаете, немало людей бывает на приемах, – ответил Петин. – Если меня что-то интересует, могу с ними побеседовать, но мало кто может сообщить мне что-то новое.
– Это потому, что к тебе ходят те, кому ты нужен, а не те, кто тебе нужен. Тем некогда околачиваться по предбанникам начальства. В крайней нужде позвонят или напишут. И ты об их нуждах не знаешь…
– У вас есть конкретные факты?
– Есть. Утром был на дамбе. Там сейчас этот Дюжев всем ворочает. Замечательный парень! Из-за какого-то подлеца столько зря отсидел… Так он так нас с тобой раскритиковал за то, что благословили отсыпку пионерным способом… Признаюсь, я было шумнул, а он улыбается: подумайте как следует и увидите – я прав… И ведь прав, собака, прав… Ты об этом знаешь? Ну? А, Дюжев такой, что к нам на прием не попросится. Пример? Ага!
Петин спокойно слушал, но Литвинов уже знал, что значит, когда его губы сжимаются так, что почти исчезают с лица, а пальцы худой руки начинают выбивать по стеклу дробь.
– Вы правы в одном – этот человек ко мне не придет. И хорошо сделает. Я уже вам представлял письменное возражение против всей затеи со сборными конструкциями опор… Мы строим не какую-нибудь там межколхозную электростанцию. Мы ведем строительство мирового значения… Это наш козырь в игре с Западом, а тут сомнительные эксперименты. Сомнительные – это вежливое выражение… Я вам уже и устно и даже письменно сигнализировал, что этот заманчивый вздор уже обошелся однажды государству в миллионы рублей плюс несколько человеческих жизней. Это зафиксировано в решении суда, советского суда. Злая воля или преступная глупость – это в чисто инженерном аспекте не так уж важно – единственная причина, заставившая меня письменно предупреждать вас о пагубности затеи этого человека…
– Вы письменно предупредили не только меня, – хрипловато сказал Литвинов, переходя на «вы». И вдруг стал изысканно вежлив. – Вы изволили так написать министру и соблаговолили информировать инстанции…
Литвинов, которому только что было тесно в широком кресле, весь подтянулся, сидел прямо. Резкие морщины на лбу углубились, синие глаза смотрели замкнуто. Петину тоже были хорошо известны эти признаки.
– Федор Григорьевич, я этого не собирался от вас скрывать… Ну что ж, признаюсь, я немного чиновник. У меня нет вашего авторитета, вашей широты, ваших… Ну, прямо скажу, и ваших связей. Я не могу брать на себя то, что можете вы, и, как коммунист, я только счел долгом…
– Коммунист? А я кто? – Литвинов давно уже знал, что в борьбу против проекта Дюжева Петин стремился вовлечь многих людей, знал о его докладных, о телефонных разговорах. Приняв меры, он не собирался мешать Петину доказывать свое. Но тут уж сорвался и удержаться не мог. – Так вот, под столом я карты не тасую. Я приказом назначил этого Дюжева ответственным за проектирование и строительство банкетного моста. Я поручил ему руководить составлением чертежей. Я командирую его в Москву, в институт консультировать проект. Я прекращаю отсыпку дамбы. Я, коммунист Литвинов Ф. Г., член партии с тысяча девятьсот двадцатого года. Можете сообщать об этом кому угодно. Я весь к вашим услугам.
И тяжело, с хрипотцой дыша, Литвинов вышел из кабинета. Когда он проходил через приемную, Чемодан сжался, замер. Он знал эти припадки тихого бешенства, которые были куда опаснее, чем шумный гнев и грубоватая брань, доносившаяся порой из-за двери.