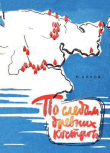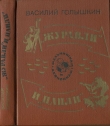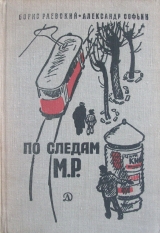
Текст книги "По следам М.Р."
Автор книги: Борис Раевский
Соавторы: Александр Софьин
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Глава X
В ИНСТИТУТЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
В вестибюле института физкультуры было полно студентов.
С верхней площадки, перемахивая сразу через четыре ступеньки, мчался какой-то длинноногий парень.
– Спринтер! Сразу видно! – шепнул Генька Оле.
Сквозь толпу, легко раздвигая людей железным плечом, как ледокол сквозь льдины, продвигался коренастый крепыш.
– Штангист! – шепнул Генька. – Факт. Спорим на десять щелчков.
Но Оля спорить не стала.
В дальнем углу вестибюля, возле белой мраморной доски, щебетала целая группа тоненьких, изящных девушек.
«Гимнастки», – подумала Оля.
Сама она тоже занималась художественной гимнастикой. Ей захотелось разглядеть этих девушек поближе, и она потянула Геньку за собой.
И сразу бросилось в глаза глубоко врезанное в белый мрамор:
«Погибли на фронтах Великой Отечественной войны».
Оля пробежала взглядом незнакомые фамилии и вдруг, во второй колонке!.. Перечитала еще раз, шепнула Геньке:
– Смотри!
Но тот уже и сам увидел:
«Окулов А. И., студент».
Молча пошли ребята на кафедру, где их ждал Олин тренер.
Генька думал, что кафедра фехтования похожа на спортзал и все преподаватели – в тренировочных костюмах со шпагами и рапирами. И с защитными масками на голове. Но Оля привела его в обыкновенную комнату, совсем такую же, как школьная учительская. Такие же облупленные шкафы. И так же тихо тикают часы на стене. По углам сидели, склонясь над бумагами, несколько мужчин и женщин в обычной одежде, а знаменитый тренер Григорий Михайлович из Олиной спортшколы оказался уже немолодым и с большой лысиной.
Оля рассказала тренеру о том, что они узнали в вестибюле.
– Что ж ты мне сразу не сказала, кого ищете? – упрекнул Григорий Михайлович. – Наговорила полный короб: «разведчики», «особое задание», а фамилию и не назвала. Об Окулове я слышал, классный был боксер. Перед самой войной стал чемпионом. Но подробностей не знаю. Если надо, сходим в соседний корпус.
* * *
В главном зале соседнего корпуса был установлен ринг.
До сих пор ребята видели ринг только в кино, и то Оля зажмуривалась, когда боксеры начинали колошматить друг друга кожаными клешнями.
А тут как раз шел бой. Учебный бой – это ребята сразу поняли. На ринге не было судьи, а сутулый, хромой человек за канатами поминутно останавливал боксеров и делал замечания.
Увидев Григория Михайловича, хромой тренер приостановил бой:
– Ко мне?
– К тебе. Пользуйтесь, случаем, ребята: Эрик Сергеевич – наш ветеран. И память у него, как у электронной машины.
– Брось, Григорий, зря треплешься!
– Зря? Ну тогда: на какой минуте Николай Королев нокаутировал чемпиона Финляндии Матсона в сорок седьмом году?
– Это же всем известно. – Эрик Сергеевич начал злиться. – На первой же минуте крюком в челюсть.
– Вот видите! Ну, давай! – и он подтолкнул оробевшую Олю поближе к тренеру.
– Скажите, пожалуйста, – начала Оля, доставая из черного конверта фотографию. Генька поручил ей вести расспросы, но предупредил: не тараторить.
– Узнаете ли вы здесь Окулова? А. И. Окулова, бывшего студента?
Эрик Сергеевич взял снимок, взглянул и, словно не веря глазам, сунулся в карман за очками. Кое-как нацепил их, снова уставился на фотографию, заглянул на обратную сторону и, наконец, выдавил:
– Узнаю. И не только его. Тут и я снят – вон, во втором ряду. С автоматом.

Ребята бросились смотреть. Позади ефрейтора Кубарева торчал тоненький юноша в пилотке, ухарски сбитой набекрень. Да, конечно, – Эрик Сергеевич теперь огрузнел и седина вон. А все-таки видно – он самый!
– Откуда снимок? – спросил Эрик Сергеевич, не выпуская из рук фотографию.
Имя Яна Яновича оказалось ему незнакомо, название «Боевое знамя» – тоже.
– Через столько лет! Вся группа! – взволнованно повторял он. – Ну, а когда это снято? Постойте – сам скажу! Числа двадцатого, нет… восемнадцатого августа… Сорок второй, конечно! Так?
– Значит, помните? – Оля придвинулась еще ближе и раскрыла блокнот.
– Еще бы! Первый раз в деле! Первый – а через пять дней и последний! С тех пор и прыгаю, как воробей, – Эрик Сергеевич попытался поднять больную ногу, и снова на лице его мелькнула гримаса.
– Только вот что, – он взглянул на часы, – через десять минут у меня совещание. А я как раз недавно записывал. Для истории института. А вам для чего? – лишь теперь спохватился тренер.
– Мы красные следопыты, – привычно затараторила Оля. – Мы изучаем славное прошлое…
– Понятно, – сказал Эрик Сергеевич. – Тогда давайте так: завтра я притащу свои записки…
* * *
Ребята сидели в пустой боксерской раздевалке. Из-за тонкой стены доносились тяжелые глухие удары: будто в землю вгоняли сваи.
«Неужели это боксеры так… Друг друга?» – поежилась Оля.
Эрик Сергеевич дал пачку отпечатанных на машинке листков, сказал: «Если будут вопросы, вернусь – отвечу», – и ушел.
«В начале войны мне не повезло, – так начинались записки. – Оставили инструктором по физкультуре в запасных частях. Работа оказалась несерьезной и даже обидной: мотайся из полка в полк, инструктируй командиров, проверяй рапорты и отчеты. Вскоре я понял, что отчеты эти – сплошная липа. Где уж было заниматься физподготовкой, когда новобранцам еле успевали показывать, где у винтовки штык, а где приклад и как спускать курок. Сорок первый год! Каждый день из запасных полков спешили на фронт маршевые роты.
Мыкался я на этой инструкторской работе больше года, пока вдруг не встретил в столовой штабфронта нашего бывшего студента Толю Окулова. И тут моя военная судьба круто повернулась».
– Вот он! Окулов! – воскликнула Оля.
Генька молча кивнул.
Дальше Эрик Сергеевич писал, как Анатолий Окулов, узнав о его должности, ехидно высказался, мол, не к лицу молодцу, да еще боксеру, засиживаться на тепленьком местечке, и туманно пообещал узнать насчет перевода на более веселую службу. К ним в часть. О том, какая это часть и что это за служба, он говорил еще туманней.
Потом Анатолий несколько недель не показывался, но Эрик чувствовал на себе чье-то пристальное внимание: в кабинете начальника с ним беседовали какие-то незнакомые люди и подробно расспрашивали об учебе в институте, о семье и о всех двадцати годах его жизни. Затем знакомый писарь шепнул, что личное дело Эрика затребовали «наверх». И, наконец, Анатолий Окулов, появившийся так же неожиданно, как и исчез, познакомил Эрика с высоким смуглым лейтенантом лет тридцати, и тот предложил ему перейти в особый разведотряд штабфронта.
«Лицо лейтенанта показалось мне знакомым, – писал Эрик Сергеевич. – Да, это был Игорь Юрьев, знаменитый некогда прыгун, чемпион Союза тридцать четвертого года. В тридцать шестом он не вышел на соревнования, о нем стали забывать, но в тридцать девятом снова появился, худой и черный, как головешка: ходили слухи, что он дрался с фашистами под Мадридом…
Перед самой войной Юрьев вернул себе чемпионский титул и стал аспирантом кафедры легкой атлетики. Нам, второкурсникам, он казался уже немолодым, хотя прыгал он по-прежнему, как бог.
На сборы мне дали полдня. Обычно, когда человека переводили в другую часть, волокита затягивалась надолго. Но тут строевая канцелярия и тыловые службы так быстро оформили мои документы и аттестаты, словно их подхлестывала какая-то невидимая, но сильная рука. К вечеру я уже был обладателем свежезастеленной койки в маленьком домике на Каменном острове, новенького трофейного «Вальтера», ненадеванного летнего маскхалата с зеленой травянистой бахромой и широкого кинжала в кожаных ножнах».
Эрик Сергеевич вскоре понял причину такой спешки. Группа Юрьева два дня назад получила особое задание штабфронта, но трое разведчиков недавно выбыли из строя и их надо было срочно заменить. Вот тогда и решено было ускорить перевод Эрика в разведотряд.
Пять дней с утра до поздней ночи шли тренировки: стрельба, силовые приемы, ориентировка на местности, минное дело, рация, способы маскировки. Кроме Юрьева и Окулова, о задании никто ничего не знал. Но, судя по инструктажу в штабфронте, надо было встретиться за линией фронта с каким-то человеком. Для него, видимо, предназначался и тот увесистый пакет, который Окулов перед самым уходом положил к себе в мешок.
И дальше Эрик Сергеевич шаг за шагом описывал действия их группы: благополучный переход линии фронта на болотистом участке возле Финского залива, бесшумное ночное продвижение в немецком тылу и бесконечно длинный день, проведенный в лесном тайнике.
Это была небольшая пещера в склоне холма, наглухо закрытая деревьями. Пещерка – хоть и неглубокая – оказалась очень кстати.
Лишь когда стемнело, снова двинулись в путь. Вскоре на опушке леса Окулов подобрал два розовых бумажных квадратика, потом прямо на тропинке – еще два. А когда вышли на поляну, – она вся была усеяна огромными розовыми лепестками.
Окулов обрадовался: «Точно в цель! Вот и второй канал сработал».
Через полчаса в глубоком и скользком овраге Юрьев приказал группе остановиться и укрыться, а сам с Окуловым пошел дальше.
«Я видел, – писал Эрик Сергеевич, – как они притаились, там, где овраг резко выгибался влево. И стали ждать».
Прошел час… И полтора… И два часа… Никто не появлялся.
«Я уже решил, что встреча сорвалась, – писал Эрик Сергеевич. – Но тут из глубокой боковой щели выдвинулась какая-то фигура».
Смеркалось. На дне оврага скопились густые тени, и Эрик не разглядел незнакомца.
Обратный путь был куда легче. Нейтралку проползли бесшумно, дивизионные разведчики встретили их в намеченном месте и провели в наше расположение. Как раз тогда и подоспел фотограф и снял их всех, веселых и разгоряченных успехом, в траншее, освещенной ранним утренним солнцем.
«Но сделано было лишь полдела, – говорилось далее в записках Эрика Сергеевича. – Через пять дней мы повторили наш рейд. На этот раз в овраге было посветлее, и я смог хоть немного рассмотреть пришедшего. Игорь говорил с ним шепотом, потом пожал ему руку и поднял вровень с плечом сжатый кулак. Рот фронт! С детства знал я этот салют антифашистов. Тот сказал ему «камарад» – как-то странно он выговорил, они обнялись, и сразу мы двинулись обратно.
Я понял, что теперь дело сделано до конца».
План возвращения, как и в тот раз, был детально разработан. Глубинники должны выйти к немецкой передовой в 23.00 и начать переход. Окажутся помехи – залечь и ждать. Лишь в самом крайнем случае – если никак этого не избежать – пробиваться с боем. И тогда придет на помощь дивизионная разведка. По сигналу – две красные ракеты. Игорь дал Эрику тяжелый ракетный пистолет и велел беречь его пуще глаза.
Помехой оказался немецкий патруль. То ли фашисты решили усилить охрану, то ли что-то заподозрили, но едва разведчики выползли в нейтралку, послышался шорох шагов. В ночной тьме плыли осторожные фигуры. Немцы!
Юрьев замер на месте. Пропустить и наблюдать! Немцы почти беззвучно скрылись. Появятся ли снова? Время шло медленно-медленно. Появились! Надо рассчитать темп их движения и в интервале проскочить. Толя Окулов рассказывал – так бывало и раньше.
Шаги приблизились: прошло семь минут. Пропустить еще раз и тогда…
Но вдруг – неожиданный шум. Возле немцев появились люди в советских пилотках. Глухой удар – тяжелое тело упало на землю. Остальные немцы немедленно открыли огонь.
«Почему дивизионные разведчики изменили первоначальный план, – читал вслух Генька, – этого я и до сих пор не понимаю. Над нами засвистели пули, стали рваться гранаты. Взвились в воздух две красные ракеты, и я едва успел подумать, кто же их пустил? Ведь наша ракетница у меня. Игорь крикнул: «Вперед!» – и вскочил с земли. Рядом раздался чей-то громкий стон. Немецкий огонь нарастал.
Когда подмога приблизилась, было уже поздно. Игорь Юрьев, теряя сознание, зажимал ладонью рану в животе. Я еле полз, волоча перебитую ногу и чувствуя нестерпимую боль в боку. Больше никого не осталось в живых.
Пока меня укладывали на носилки, я успел разглядеть в траншее несколько неподвижных тел, покрытых шинелями. Рядом со мной какой-то офицер с ракетницей в руке яростно кричал на солдат. Потом я потерял сознание.
Пришел в себя я только через месяц – на Большой земле, в Вологде, и выяснил, что в разведотряде меня считают погибшим. А потом я случайно встретил хирурга из госпиталя, куда нас в то утро привезли, и узнал, что лейтенант не дожил до полудня. Перед смертью он ненадолго пришел в себя, подозвал врача, едва двигая губами, прошептал: «Передайте в штабфронт… Дон Кихот задание выполнил».
И уже теряя сознание, повторил:
«Дон Кихот… выполнил».
Какое это было задание, я так и не узнал».
* * *
Генька хмуро уставился в пол. У Оли губы подергивались.
Когда вошел Эрик Сергеевич, никто не решился заговорить первым. Хромой тренер подошел поближе, сел на низкую скамеечку рядом с ребятами.
– Фотография с собой?
И показал на снимке высокого худощавого человека с острым кадыком и пристальным взглядом:
– Наш лейтенант.
– Дон Кихот? – горько выдохнула Оля.
– Не знаю. При мне его так не звали. Ни разу.
Генька поднял голову:
– А он вам ничего не говорил о пушке… О «Большой Берте»?
Тренер удивленно пожал плечами.
– Понимаете, очень уж все совпадает! – Генька стал набирать скорость. – Вас когда перевели в разведгруппу?
– Одиннадцатого августа.
– Так! А восьмого или девятого штабфронт дал задание насчет «Берты» – это мы точно знаем. И потом: вас встречали разведчики Рабочей дивизии, а пушка стояла в ее полосе…
– Постой! – перебил Эрик Сергеевич, вскочил со скамейки и, ступив на больную ногу, скривился. – Постой! Ты говоришь – пушка? Теперь я припоминаю – к Игорю перед рейдом зачастили пушкари. И в штабарт он каждый день ходил. Только, – он осекся, – если даже и так – что же дальше?
– А розовые листки? – неожиданно вклинила Оля. – Что это было?
– Это листовки. Наши. Для просвещения немцев. И еще кое для чего! – Эрик Сергеевич усмехнулся. – Бывало, надо что-нибудь передать через фронт, ну и вставляли между строк. Другие прочтут – не поймут, а нужный человек сообразит.
– А если б листовки к нему не попали?
– Должны попасть! Во-первых, забрасывали в назначенный квадрат. А потом, на них адрес был.
– Адрес? – недоверчиво протянула Оля.
– Точнее – обращение. Скажем: «Солдатам такого-то полка!» Конечно, большинство листовок сдавали начальству, но несколько штук всегда шло по рукам. И доходили до кого надо. Так сказать, канал связи.
– «Второй канал!» – вспомнил Генька. – А почему второй?
– Видно, был какой-то первый, понадежнее. А то вдруг ветер не в ту сторону подует? И листовки не попадут в нужный квадрат? Или адресат заболеет? Или его поставят часовым? Как он получит листовку?
Впрочем, я отвлекся. Вы ведь насчет пушки… Может, она в этом деле и замешана, но мы ее не видали. Могу поручиться.
Глава XI
ЛИСТОВКИ
После уроков Филимоныч устроил «пятнадцатиминутку» в пионерской комнате, Оля сразу выложила о разведчиках и взглянула на Геньку: «Все?»
– Нет! – Генька сделал эффектную паузу. – У Олега Лукича есть знакомый. Он в разных штабах материалы для музея собирает. Вот и разыскал.
Генька выложил на стол два куска плотной кальки. Сверху пришпилена бумажка: «Копии с копий разведкарт штаба артиллерии. 1942 г.».
На первой карте дата – «25 июля». Темно-синяя полоса – линия немецкой обороны, а за ней дужки огневых точек, треугольники наблюдательных пунктов, флажки штабов, кружки обнаруженных орудий и батарей. Под обрезом карты – объяснения или, как говорят топографы, «легенда».
Генька показал Филимонычу нужную запись: «Цель № 301. Орудие большой мощности (420 мм), предположительно – типа «Большая Берта». Засечена серия – восемь выстрелов 23.VII».
Кружок с номером 301 прилепился к краю большого лесного массива. Глухое место в нескольких километрах от линии фронта. Ни деревень, ни поселков поблизости.
Вторая карта – от седьмого августа – была точно такой же: так же изгибалась жирная синяя полоса, обходя Пулковские высоты, та же черта разделяла участки двух соседних немецких дивизий: сто семидесятой и двести пятнадцатой. И только кружок № 301 исчез. Вернее, номер этот остался, но относился теперь к целой зоне, охваченной синим пунктиром («Вероятный район расположения», – объяснил Николай Филимонович). «Легенда» сообщала, что цель № 301 перебазирована, предположительно – в данный район.
– Да, все сходится. – Николай Филимонович потер переносицу. – Пленный видел пушку шестого августа, карта – от седьмого, разведчикам дали задание – девятого. Похоже. А эта зона, – учитель показал на синий пунктир, – как раз напротив нашей дивизии. Странно, что генерал об этой разведке ничего не слышал…
– Он в госпитале был, – подсказал Генька.
– Да, верно. А Бортовой? Это же его люди встречали глубинников.
– Уже! – Генька с гордостью ввернул свое любимое словечко:
– Что?
– Уже звонил ему. Только его дома нет. Жена сказала: «Уехал в командировку, в Воронеж». Нервная она – страх! Я ей говорю: вы попросите, когда вернется, позвонить красному следопыту Башмакову. А она как заорет: «Ничего я передавать не буду! Заморочили вы ему голову!» И трубку – швырк!
Все замолчали. Наконец Оля сказала тихонько.
– Какое же все-таки было задание у глубинников? Выходит, спросить не у кого и узнать негде.
– Неверно! – повысил голос Филимоныч. Сидевшие в углу две девочки испуганно подняли головы и прервали разговор. – Неверно! – уже тише повторил учитель. – Спросить нам, действительно, некого. А вот узнать… Вы же сами слышали: связь с немцем держали по двум каналам. Первый нам, к сожалению, неизвестен. А второй – листовки. Значит, они могут навести на след. А раз так – надо их разыскать!
– Ой, – заволновалась Оля. – А как? Ведь их напечатали, отправили к немцам – и все!
Но Филимоныч был другого мнения:
– Образцы должны были остаться. Хотя бы для отчета…
* * *
Оказалось – коллекция листовок хранится в Военно-политическом архиве.
Главный хранитель, моложавый, со следами военной выправки, повел Геньку к себе, усадил в глубокое кожаное кресло и стал расспрашивать о следопытских делах. Сообщил, что у него сын и дочь – Генькины ровесники. Очень интересуются историей и даже собираются летом побродить по древним крепостям и монастырям. А вот отряда следопытов у них в школе нет.
Разговор протекал как нельзя лучше, но вдруг выяснилось, что листовки посмотреть не удастся.
– Вот какая досада, друг Башмаков! – главный хранитель был явно огорчен. – Этот фонд разобран лишь начерно. И описей нет. Руки не дошли. А к таким фондам доступ закрыт.
Генька стал упрашивать. И на всякий случай вставил:
– Мы ведь в архивах уже работали: в Горном институте, и в Областном.
– У Порфирия Ивановича? – обрадовался хранитель. – Значит, он вас знает? Это очень существенно. Надеюсь, он о вас хорошего мнения?!
Генька хмыкнул. Кто его разберет, какого он мнения?! Как это он говорил: «Архив, мальчик, э-э-э – дело серьезное». И анкету заставил заполнить – на четырех страницах. Хотя, с другой стороны, все-таки допустил Геньку в архив («Только э-э-э в виде исключения»). Вообще порядок у него классный, хоть он и зануда. Но почему так важно его мнение?
Видимо, хранитель заметил Генькино недоумение.
– Порфирий Иванович теперь начальник управления, – пояснил он. – Над всеми ленинградскими архивами царь и бог. Раз он тебя знает – обратись к нему. Правда, насчет всяких формальностей он – ого-го!
* * *
…Архивное управление выходило окнами на Неву. По сторонам высокого подъезда уютно улеглись, поджав задние лапы, небольшие гранитные львы. Генька с удовольствием покатался бы на них верхом, но – нельзя! Дело есть дело!
В большом вестибюле сверкал бело-черный мраморный пол. Ввысь уходила широченная лестница с бронзовыми перилами. Совсем не то, что в Областном архиве! Генька вспомнил тамошнюю вахтершу, самолично решавшую, кого пускать к начальству. Здесь для этого имелось специальное «Бюро пропусков» со стеклянным окошечком, а у подножия лестницы сидел усатый охранник в зеленой суконной форме.
Увидев Геньку, он перестал читать толстый темно-синий том, поднялся и загородил проход.
Генька издали поглядел на книгу. Внушительный том показался ему знакомым. Подошел поближе. Так и есть! Энциклопедия! Тот самый том на букву «Б», в котором Генька рылся, когда искал «Большую Берту».
«Неужели так и дует? Всю энциклопедию подряд?» – удивился Генька. Хотел спросить, но вид у усача был больно грозный.
В «Бюро пропусков» с Генькой и разговаривать не стали:
– К начальнику? На этой неделе приема нет.
Окошко захлопнулось. Усач многозначительно перевел взгляд на дверь – ступай, мол, парень. Но Генька, неожиданно для самого себя, шагнул к нему и неестественно писклявым голосом попросил:
– Дяденька, можно я Порфирию Ивановичу позвоню? Он меня знает.
– Не врешь, не шутишь? Ну, звони. Только не станет он тебя слушать.
Но, к изумлению охранника и самого Геньки, начальник управления, узнав, кто его собеседник, сразу же распорядился:
– Пропустите. Пропуск выпишите э-э-э прямо ко мне.

Порфирий Иванович встретил Геньку в дверях кабинета:
– Заходи, мальчик. Я э-э-э очень рад.
Генька не верил своим ушам. С чего бы это? Но Порфирий Иванович, видимо, и впрямь был рад. Его лимонно-желтые щеки даже слегка порозовели.
В общем-то, Порфирий Иванович не изменился за этот год. Лицо у него по-прежнему было худое. И черта, та самая вертикальная черта, которая как бы делила лицо Порфирия Ивановича на две половины, – обозначилась теперь еще резче.
Но сейчас обеими половинами своего лица Порфирий Иванович изображал что-то вроде улыбки.
– Читал я в газетах о вашем э-э-э открытии. Имею в виду Рокотова. Мы были весьма э-э-э удовлетворены, – сказал он Геньке. – В некотором роде э-э-э при нашем участии восстановлен важный эпизод в революционном движении. Мы и в отчете упомянули. Так сказать, пример использования архивных фондов… э-э-э… практическая отдача. В центральном управлении э-э-э обратили внимание.
Решив ковать железо, пока горячо, Генька вежливо дождался паузы и вклинил:
– А у нас опять просьба…
Порфирий Иванович благожелательно кивнул:
– Охотно э-э-э пойдем навстречу. Мы понимаем – следопыты это э-э-э дело серьезное, не бирюльки, – и его щеки порозовели еще больше.
Правда, узнав, что речь идет о неразобранном фонде, Порфирий Иванович перестал улыбаться. Правая половина его лица нахмурилась, а левая – и без того хмурая – стала совсем угрюмой. Но разрешение все же дал. И напоследок предупредил:
– Если будут положительные результаты, прошу упомянуть об их э-э-э источнике. Чтобы видно было, как наши архивы служат э-э-э общественным интересам.
Проходя мимо усатого охранника, который опять уткнулся в энциклопедию, Генька не удержался:
– Ну как? Движется? Всего-то и осталось сорок восемь томов!
* * *
При входе в хранилище ребятам выдали халаты. Геньке пришлось засучить рукава, свисавшие чуть не до колен. А Оля, пошептавшись с молоденькой архивисткой, раздобыла иголку и ушла в соседнюю комнату. Когда она вновь появилась, казенный балахон преобразился в нарядное платье, словно сшитое на заказ.
«Здорово у девчонок это получается!» – покачал головой Генька.
В длинной комнате с узкими, как бойницы, окнами под тяжелым, сводчатым потолком, ряд за рядом стояли стеллажи, заполненные аккуратно связанными пачками.
– Почему же не хотели пускать? – удивилась Оля. – Тут ведь все в порядке.
Хранитель объяснил: листовки разложены только по годам. Для 1942 года отведен целый ряд – четыре стоящих впритык друг к другу металлических стеллажа. Оля попробовала протиснуться меж ними, но проход был слишком узок.
– Погоди! – хранитель повернул большое колесо, вроде штурвала на корабле, и стеллажи бесшумно покатились по рельсам, открывая доступ к полкам. – Теперь можно брать. И давайте еще раз уточним, что вы хотите найти?
– Листовки для солдат сто семидесятой или двести пятнадцатой дивизии, – отчеканил Генька. – За август.
– Розового цвета, – поспешила добавить Оля.
Хранитель рассмеялся!
– Цвет нам не поможет! – он снял с полки тяжелый пакет и развязал веревку. На стол обрушился бумажный поток, сверкавший всеми переливами радуги. – Бумаги тогда было в Ленинграде – кот наплакал. Вот и пошли в ход обрезки и остатки из всех типографий. Один и тот же текст попадал и на меловую бумагу, и на газетную. О цвете я уже не говорю – чуть не каждый листок другого колера. Раскладывайте в хронологическом порядке и по номерам частей.
Он показал ребятам, как определять дату листовки, где обычно печатали адрес, и вдруг спохватился:
– А переводить как вы будете?
– Нам учитель обещал…
Оля спросила:
– А о чем в них писали, в листовках?
Хранитель пожал плечами:
– Сюжеты весьма разнообразные. Вот, смотрите, – он показал листки с черно-красным текстом: «Декабрь 1942 года. В Сталинградском котле». И фотография – бескрайнее снежное поле, трупы замерзших фашистов и рядом несколько солдат, поднявших руки – сдаемся. Подпись: «Эти останутся живыми!»
– Ловко! – сказал Генька.
Оля, перебиравшая листовки, подняла голову:
– А почему здесь так странно напечатано? Восклицательный знак впереди фразы, да еще вверх ногами. И вопросительный тоже.
– Покажи! О, да это по-испански! Для «Голубой дивизии». Вы их кладите отдельно, чтобы не мешали. Вам же только немецкие нужны.
На другой день ребята продолжали работу.
Иногда Генька отрывался и украдкой смотрел на Олю: уж больно интересно у нее лицо меняется. То хмурится – значит, не может разобраться. То улыбается – сообразила! То застынет и упрется глазами в одну точку – мечтает. Сколько раз ее ругали за эту привычку – вдруг все бросить и замечтаться. Но, видно, не отучить.
Красные, синие, зеленые листовки. У Геньки даже в глазах зарябило. И вдруг!.. На верхней строчке – короткое слово. Те самые буквы, что в немецком журнале у Олега Лукича – «Berta». Вот это да! Он схватил Олю за руку – она даже вскрикнула.
Что же здесь написано? Генька собрался бежать за хранителем, но неожиданно тот сам показался в дверях. И рядом с ним… Филимоныч.
– Не ждали? Решил поглядеть, как идут дела. Вдруг моя помощь понадобится.
Николай Филимонович выглядел не таким уверенным и спокойным, как обычно, а словно смущенным. И Генька догадался: вовсе не для того он пришел, а просто невтерпеж стало ждать.
Но Генька сделал вид, что поверил словам учителя.
– Тут о «Берте», верно? – спросил он. – А вот что? Что о ней сказано?
Филимоныч и хранитель склонились над листовкой и дружно расхохотались.
– Осечка, Геннадий! Это не о пушке, а о фрау Берте Тинтенфиш. Ее муж – ефрейтор Клаус Тинтенфиш попал в плен и просит товарищей передать жене, что жив и здоров.
Филимоныч взял августовские листовки, быстро пробежал их взглядом. Нет, все не то! Совсем для других дивизий. Но все же учитель продолжал просматривать листовки. Кучку за кучкой. Некоторые листовки перечитывал, разглядывал со всех сторон.
– Вспомнил старое, – как бы извиняясь, объяснил он. – Сколько этого товара через мои руки прошло!.. Я ведь два года был «антифрицем».
– Что? – Оля вытаращила глаза.
– Нас так дразнили. Тех, кто немцев агитировал. Пропаганда среди войск противника. Чего только не изобретали: радиомашины, радиосамолеты, и просто – с рупором в нейтральную полосу. Если немецких офицеров рядом не было, фрицы слушали хорошо. Ну, а окажется поблизости начальство, такая пойдет стрельба, еле ноги унесешь.
И с листовками хлопот было много. Сперва – закладывали в пустые снаряды, потом один техник с Кировского завода изобрел агитминомет. Взял кусок старой трубы, приварил к чугунной доске, ввинтил боек и – пошло!
Но самое интересное – это змеи, бумажные змеи. Их для нас делали школьники из Дворца пионеров. Как-то я принимал у них заказ, так целый отряд вышел меня инструктировать: как запускать змей, да как к нему листовки привязывать и что сделать, чтобы они разлетались прямо над немецкими траншеями.
Ребята переглянулись: как учитель разговорился! Вот что значит фронтовые воспоминания!
* * *
Оля, видно, позабыла, а у Геньки календарь всегда перед глазами. Сегодняшнее число взято в рамку. Да он и так помнит!
На перемене Генька разыскал Филимоныча и сердито объявил:
– Уже!
– Что – уже?
– Месяц уже прошел.
Учитель поднял брови.
– Сегодня ровно месяц, – пояснил Генька. – Ну, как мы были в РЖО. Так я и чуял – надул Брюхан.
Филимоныч нахмурился.
– Предлагаю, – сказал Генька, – нагрянуть к нему снова. Состав делегации – прежний…
– Не надо, – Филимоныч сдвинул брови. – Я сам. Позвоню. А ты – иди… Иди…
«Без меня хочет, – думал Генька, возвращаясь в класс. – А жаль! Интересно бы послушать, как он этому эржеушнику врежет между глаз!»
Генька уже знал: Филимоныч редко взрывается, но если его довести – ух, какой!..
Похоже, что и сейчас он «готов». Вон желваки – таи и катаются.
* * *
После уроков Генька не удержался и спросил Филимоныча.
– Ну, как?
– Поговорили…
– И что?
– Обещал! Через три недели…
Генька глянул на Филимоныча. Глаза у того были колючие. И желваки по-прежнему перекатывались на скулах.
«Еще не остыл, – подумал Генька. – Наверно, горячий был разговорчик».
И больше не лез с вопросами.