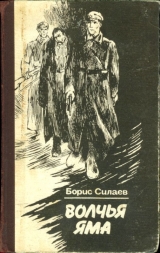
Текст книги "Обязан жить. Волчья яма
Повести"
Автор книги: Борис Силаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Утром, когда солнце уже лежало на земле кровяной горбушкой, вернулся отряд. Замученные кони, все по животы заляпанные грязью, медленно ступали по булыжнику улицы. При каждом шаге они деревянно качали шеями, мокрые челки грив прилипли к запавшим глазницам. На лицах людей лежала печать усталости, плечи опущены под грузом набрякших водой суконных шинелей, на согнутых спинах колыхались тусклые карабины. Некоторые из всадников несли на перевязях забинтованные руки. Один из них, с головой, обмотанной грязной тряпкой, сидел в седле с закрытыми глазами, колеблясь всем телом в разные стороны, готовый вот-вот свалиться на землю. Впереди всех ехал Лазебник – его было трудно узнать, так изменился он за одну ночь. Некогда полные, всегда до румянца выбритые щеки, сейчас ввалились, подбородок заострился, глаза потухли. И даже голос не тот – он поднял руку, оглянулся через плечо и сипло проговорил:
– Слезай…
Сам сполз с лошади, волоча набухшие от влаги сапоги, побрел к воротам, равнодушно исподлобья посмотрел на молчащего Глобу. Опустился на завалинку и начал замерзшими пальцами расстегивать крючки шинели. Из френча достал папиросы, продул одну из них, закурил – затянулся дымом так, что, казалось, его зашершавленные от ветра и щетины темные щеки сомкнулись изнутри. Всадники вводили коней во двор, здесь сбрасывали с них седла, начинали растирать спины животных клоками сена. Кое-кто уже скидывал шинели в кучу на ступени крыльца и шел к колодцу умываться, на ходу стягивая с плечей гимнастерки. Раненым помогали сделать новые перевязки. Последним в воротах показалась лошадь, которую вели под уздцы двое – то были Кныш и Замесов, оба с трудом передвигали ноги, их некогда форсистые костюмы были изодраны и в пятнах мокрой грязи, словно их на животах волочили по вспаханной земле. Ни на кого не глядя, они повели коня к воротам конюшни и начали молча снимать притороченный к седлу длинный тюк, обернутый брезентом, затем положили его на сухое место под навесом крыши.
Глоба подошел к ним и приподнял угол брезента – он увидел обескровленное лицо, залепленное глиной, и руку, бледные пальцы которой судорожно обхватили шею.
– Кто это? – спросил он.
– Сеня Понедельник, – хмуро ответил Замесов. – Пуля в грудь… Какое-то время жил. Измучился парень, пока скончался.
– Как же это вы? – Глоба перевел взгляд на Кныша, и тот вздохнул, рукавом шинели стирая со лба проступившую испарину.
– Подловили они, суки, нас на дороге у села. Видать, знали, когда мы нагрянем.
Глоба только с отчаянием махнул рукой и пошел к Лазебнику. Он не захотел сесть рядом с ним, остановился перед его невидящими глазами и спросил жестким голосом:
– Так что произошло?
И тут увидел, что глаза Лазебника полны невыразимой тоски, а губы подрагивают от волнения.
– Устроили нам засаду… Всю ночь лежали под пулями – голову от земли не оторвать. Хорошо хоть лошадей спасли.
– А Сеню Понедельника?
– Не уберегли… Кинулся на них с наганом. Отчаянной храбрости оказался парень.
– Он же почти мальчик. Вы подумали об этом?
– Война… Внутренний фронт, – пробормотал Лазебник. – Ты мне напрасные жертвы не лепи.
– Жестокий вы человек, – с неприкрытой ненавистью проговорил Глоба.
– Не всегда, – пробормотал растерянно Лазебник. – Сейчас у меня такое состояние… Лучше бы это меня привезли на веревках в седле.
– Через день-забудете. Еще похваляться станете.
– Нет, Глоба, – качнул головой Лазебник. – Сегодня мне урок… Ты был прав. Извини.
И тут, увидев лицо Глобы и легкую презрительную улыбку в углах его губ, почти закричал зазвеневшим от бешенства голосом:
– Я! Я прошу извинить! Это я! И к черту! Немедленно накормить людей и отправить в город… Тело убитого погрузить в машину! И раненых туда же… Я уезжаю! Кныш! Замесов!
Лазебник, торопясь, застегнул на все крючки шинель, твердым шагом направился к воротам, уже не глядя ни на кого. Глоба подошел к людям, пеленающим труп в развернутый брезент. Кныш отвел Тихона в сторону и как бы между прочим сказал равнодушным голосом:
– Опять, наверное, будет дождь. А может, снег… Через село проезжал, так мне мужики про забавное дело сообщили. Говорят, на каком-то далеком хуторе могила появилась…
– Удивишь ли этим теперь, – мрачно бросил Глоба.
– Ту могилу вроде называют могилой атаманши… Много ли у тебя в уезде таких могил?
– Да треп то все, – услышав их разговор, сердито кинул Замесов. – Легенды да сны.
– Ну, как знаешь, – продолжал Кныш, – а я думаю – то дело интересное… Хотя, может, и болтовня. Осенью дни короткие, вечера длинные, чего только не выдумают. Лишь бы пострашнее было. Ну, пока, начальник. Ты на нас не обижайся за то, что мы в твое дело влезли, – приказу не поперечишь.
– Будь здоров, Тихон, – уже мягче проговорил Замесов. – Не завидую твоей работе. И поберегись Лазебника, он из тех, которые своих проигрышей не прощают.
– Пусть он перед ним отмоется, – Глоба кивнул на брезентовый сверток, который двое поднимали на плечи, неловко оступаясь под тяжестью тела.
– Ну, ты тоже, – недовольно покосился Замесов. – Это бой… Всякое случается. Мог быть и другой на его месте.
– Не с огнем к пожару соваться, – жестко отрезал Глоба.
– То ты, может, прав, – вздохнул задумчиво Кныш, – работу не сделали, а человека нет. Прощай, Тихон. Желаем удачи.
Они пошли к воротам за людьми, несущими тело Сени Понедельника. Глоба не мог без горечи смотреть на эту процессию. «В этом не было необходимости! Он должен был жить… Война, конечно. И не до жалости! Этот подвиг мальчишки сегодня государству не нужен, а может быть, даже вреден. В крайнем случае, бесполезен. Еще неизвестно, что наделала ночная пальба на краю мирно спящего села. Бандитам ничего не стоит приписать чекистам любое событие – сгоревшие хаты, убитых людей… С огнем на пожар не ходят. Не идут с огнем». За воротами коротко вякнул автомобильный клаксон.
Глоба решительно повернулся и взбежал по ступеням крыльца в комнату.
– Жена! – закричал он еще с порога, – ставь в печь горшки. Будем кормить людей! Ты что?! Плачешь?!
– Господи, – прошептала она. – Если бы ты знал… Я на него посмотрела… А у него полный рот земли. Никогда в жизни не видела убитых.
– Несчастный случай, – коротко проговорил Глоба. – Такая уж работа, силком не тянут.
– И ты можешь так же?! – продолжала она, не слыша его. – Я бы еще ничего не знала, а тебя уже бы везли ко мне… Как его сейчас к маме… Его смерть летит на машине… С такой бешеной скоростью, через поля, по лесам…
– Перестань! – Глоба с силой ударил по столу, он понял, что еще немного – и с ней произойдет истерический припадок, она вжалась в угол перед окном, кулаками стискивала щеки, а брови дрожали, все выше вскидываясь на лоб.
– Перестань! – закричал Глоба и схватил ведро, с грохотом швырнул его к ногам. – Марш за водой! Быстро!
Он шагнул к ней, поднял закатившееся под лавку ведро, насильно сунул дужку ей в руку и подтолкнул в спину к двери.
– Воды! Быстро!
И она, повинуясь его голосу, пошла из комнаты. В окно он видел, как Маня медленно, еще неуверенными шагами, ступила на крыльцо, оглядела двор, полный людей и расседланных лошадей, подождала секунду и, видно, придя в себя, побежала к колодцу. Там ее сразу обступили со всех сторон, послышался молодой смех, кто-то уже закрутил ворот со звенящей цепью, другой, шутя, попытался, отобрать пустое ведро.
Глоба устало опустился у стола, подперев голову руками, еще немного – и, кажется, у него тоже откажут нервы.
«О чем там говорил сотрудник уголовного розыска Кныш? Могила! Что его в этом деле насторожило? Кныша надо удивить… Он даром не скажет. Могила атаманши. В отдаленном хуторе. Да, что-то Кныша насторожило. Я слыхом не слыхал, а он только приехал… Значит, та легенда, как назвал Замесов, возникла недавно. Ладно, поищем. Не уйдет. А теперь поднимайся, несут воду, надо ставить в печь горшки, кормить людей».
Могилу атаманши найти оказалось, в общем-то, не так трудно. Сначала Глоба собрал самые различные слухи, разъезжая по селам. Конкретно никто ничего не знал – просто шли смутные разговоры. Мол, видели на дальнем хуторе новый крест над могилой, без имени и фамилии. А среди деревьев показался человек – громадный, заросший бородой, руки у него до колен. Безумный взгляд. Весь в тряпье, босиком. Нет, в алом кафтане и папахе белой… Господа, все то брехня! Могила на самой вершине холма, камнями обложена, кто к ним притронется – будет во веки веков проклят, злые люди тайно закопали старую ведьмачку. Хутор-то заброшенный, ни единого человека в нем. Да что вы там говорите несуразное? Ведьмачка?! То атаманшу похоронили – жену батька Корня. Дите она должна была родить…
Первые слова сказаны: атаманша, жена Корня. Где же тот хутор? И что за крест на высоком холме? Хутора, кажется, в уезде все можно пересчитать, даже самые отдаленные. Есть карты, списки… С какого начинать? На какую дорогу выводить телегу, чтобы колеса прикатили к высокому бугру, на котором безымянный крест, обложенный камнями?
В это время из финотдела поступило сообщение – пропал владелец хутора Зазимье. Хозяин хутора по фамилии Запара, одинокий старик шестидесяти лет, жил в небольшой хате с пристройками, держал пасеку, – вот и весь хутор. Старик был нелюдим, в ближайшем селе появлялся редко, жену давно похоронил, сын погиб в гражданскую, дочь в городе работает по найму у состоятельных граждан, об отце давным-давно не вспоминает. Власти о хозяине хутора не волновались бы – знали, что нужды он не испытывает, есть у него что и на стол, и на будущее, да случилась незадача – пришла пора платить налог с пасеки. В этих мало приятных для него делах старик всегда отличался аккуратностью, а тут затаился, на письменное напоминание не отвечает. Послали две повестки. Дорога туда страшенная, болотом и лесом, какой почтарь согласится ноги бить в такую даль? А вдруг с хозяином что-то приключилось?
Имея в кармане удостоверение работника губернской фининспекции, Глоба на телеге, не останавливаясь, миновал нужное ему село и углубился в лес. Он видел людей – те провожали его удивленными взглядами, какой-то мужик долго наблюдал со своего огорода за медленно удаляющейся худой лошаденкой.
– Эй! Эй! Хлопец! – закричал Глоба мальчишке у плетня. – Скажи, пожалуйста… На хутор Зазимье! Я правильно еду?
– Лесом, дяденька! Не свертайте!
Лес начинался сразу за околицей, дорогу прикрывали ухабы, она вся была разбита колесами. Но вскоре путь начал выравниваться, уже виделось, что тут ездили не часто – полотно дороги поросло травой, желтой от заморозков, усыпано еловыми шишками, иногда пропадало совсем, а потом снова появлялось впереди, выскользнув из темноты бора на поляну, освещенную солнцем.
«Далеко же ты забрался, хозяин Запара, – думал Глоба. мерно покачиваясь в телеге. – А название твоему хутору придумали хорошее: Зазимье. Первый снег, ранняя пороша с заморозками. Отличное название. А что же ты сам представляешь? Почему исчез? Зачем за тобой надо ехать, трястись на паршивой подводе вот уже который чае? Неподалече тут сама Волчья Яма. Попадусь в нее, как в западню. Волчья Яма – это и есть ловушка, западня…»
А дорога все вела в глубину леса, медленно углубляясь, – вот уже на ней снова появились рытвины, лужи, черная размытая земля и застарелые, полусмытые следы колес. Наконец деревья расступились, и Глоба увидел одинокую хату, окруженную плетнем. У стволов древних яблонь, там и тут, разбросаны колоды для пчел. Надо всем этим царила необычная тишина. Непривычно было видеть крестьянское жилье без собаки, облаивающей прохожего, с распахнутыми настежь воротами из жердей и побитыми стеклами окон.
Глоба слез с подводы и направился к хутору. Озираясь, он вошел во двор – здесь, у перевернутой будки, валялась дохлая собака, голова ее была прострелена, дверь хаты сорвана с петель. Внутри помещения пахло сыростью и гнилью. Везде раскидано тряпье. Валяются раздавленные картофелины, кучи муки, уже покрытые плесенью. На дощатом столе какие-то объедки.
Глоба прикрыл за собой дверь, осторожно приставив ее к проему, и медленно побрел к яблоням. Несколько ульев были расколоты, побитые морозом пчелы густо усеивали липкие от меда колоды. В густой полегшей траве валялись крошечные плоды, подрумяненные с бочков, обмытые растаявшим инеем, словно выточенные из желтой кости.
«Хозяин так свое жилье не покидает, – подумал Глоба. – Тут что-то произошло. Собака убита… Кто станет разбивать ульи? Сорвана дверь… Не хватает только найти высокий холм с безымянным крестом, обложенный камнями, но, кажется, здесь равнина, поросшая лесом. Холма не будет. А могила?»
Нашел Глоба и могилу. Неподалеку от пасеки между тремя могучими стволами сосен был насыпан холм земли, просевший от дождей. В него был воткнут самодельный крест из рубленых топором деревянных плах. Безымянный крест, со свежими потеками еловой смолы. Могила атаманши?!
Глоба пошел кругами вокруг креста, сапогами раздирая слежавшуюся сухую траву. Ему под ноги попались синие осколки бутыли, сломанные кукурузные початки, источенные муравьями, яичная шелуха…
«Тут мне делать нечего, – Глоба опустился под стволом сосны и задумался. – Выкапывать труп? Сколько лишних разговоров… И что мне это даст? Нет, ничего не тронем…»
Он вернулся к подводе, уселся поудобнее и тронул вожжи, заворачивая лошадь назад. Вернулся в село той же дорогой. Остановился у сельсовета и спросил председателя – молодого парня в красноармейской гимнастерке и лаптях. Узнав, в чем дело, он с каким-то недоумением посмотрел на городского человека с портфелем:
– Да какое нам дело до этого? Запара там не живет. Он где-то в городе. А хутор продает.
– Кому? – поинтересовался Глоба.
– Да есть тут один дядько. Старый Мацько. Он покупает хутор. Грошей у дядьки много, чего ж не купить?
– А кто он такой, если не секрет?
– Обыкновенный дядько, – пожал плечами председатель. – Когда-то у Петлюры служил. Потом от него сбежал. Землю пашет. Налоги сполна платит.
– Ясно, – проговорил задумчиво Глоба. – Для нас весьма важно… Налоги платит аккуратно. Я могу с ним поговорить, раз уж приехал в такую даль?
– Да, будь ласка, – сразу согласился председатель и, толкнув створки окошка, закричал кому-то, стоящему во дворе: – Позови старого Мацько! Одна нога здесь, вторая… Швыдко!
Через некоторое время в комнатушку осторожно вошел пожилой крестьянин в теплом кожушке, повязанном веревкой, с палкой в руках, фуражку со сломанным козырьком он держал у груди.
– Садитесь, – предложил ему табуретку Глоба. – Это я вас вызвал… Извините за беспокойство. Я по финансовым делам из губернии. Приехал на хутор Зазимье. Его хозяину Запаре мы дважды посылали повестки насчет сдачи налогов. И как в мертвую воду… Пришлось вот тащиться самому. И, к моему удивлению, я там никого не застал. Пустой хутор. Как мне все объяснить начальству – ума не приложу.
Старик слушал не моргая, на его морщинистом лице не дрогнула ни одна жилка.
– И вот приехал в сельсовет. Председатель говорит, что Запара, мол, хутор продает. Вы покупаете… Но как быть с налоговой задолженностью? Кто будет платить? Он или вы?
В глазах старика проснулся настороженный интерес. Он грудью уперся в стол и быстро сказал:
– Вин.
– Простите, – развел руками Глоба. – Если он, как вы говорите, то где же он, сам, Запара? Так, простите, казенные дела не делаются.
– Вин у городе.
– В городе сто тысяч человек, простите.
Старик подозрительно засверлил Глобу испытующим взглядом. – Не знаете? Тогда, простите, платить вам.
– Я вам скажу, где он живет, – проговорил старик. – У меня есть его адрес.
– Тогда прекрасно! – с облегчением воскликнул Глоба. – Теперь для формы…
– Чего? – испугался старик.
– Так сказать, для порядка, – уточнил Глоба. – Какие причины толкают вас на покупку хутора? Езды туда много, хозяйство небольшое. Честно говоря, не понимаю.
– Отделиться хочу, – хмуро произнес старик. – Жинки у меня нет. Хозяйство отдам сынам. А сам займусь пасекой. Интересное то дело. Руки к тому хутору приложить… А руки у меня есть.
Он поднял над столом корявые, цвета дубовой коры, расплюснутые работой ладони и вздохнул:
– А то, что я буду там как одинокий волк, меня не волнует. Я привык. У сынов своя жизнь. Всегда один, как перст.
– Видать, в жизни вы лиха хлебнули, – сочувственно проговорил Глоба.
– О так, – старик чиркнул пальцем по горлу. – И от белых, и от зеленых. Спасибо богу, живу еще. Ото за землю ховаюсь. Она – как железный щит. Всем хлеб нужен, все есть хотят.
Слушающий их председатель сельсовета нахмурился и сказал, постукивая по столу торцом ученической ручки:
– Ты, дед, только там на хуторе контрреволюцию не заводи!
– А нашо она мне сдалась? – повеселев, спросил старик. – Она же ж не пашет и не сеет.
– Это вы точно, – одобрительно произнес Глоба, деловито копаясь в необъятных недрах своего портфеля. – Какой адрес того Запары?
– Он живет у своей дочери, а она служит в домовых работниках у хозяина лавки на Московской улице. Угловой дом. Там всякий знает Наталку Запару.
– Отлично, – Глоба громко защелкнул замок портфеля.
– И чего он тот хутор продает?
– Здоровья у него нет, а без волчьего здоровья там делать нечего.
– Такая уж наша селянская жизнь, – усмехнулся председатель, – Оттого и хлеб сладкий.
– В городе не легче, – вздохнул Глоба, поднимаясь из-за стола. – Вы извините, но придется мне найти того Запару. Налоги следует платить. Это долг гражданина. И мы востребуем… И он обязан выполнять свои функции.
– Чего?! – вскинулся старик.
– Свои обязанности гражданина, – четко произнес Глоба. – Благодарю за разговоры… Желаю благ!
Откланявшись, он кинул портфель под мышку и вышел из хаты, плюхнулся в телегу, бодрым голосом закричал:
– Но-о! Родимая-я!
Неумело задергал вожжами, словно не замечая в окошке хаты насмешливых лиц крестьян.
Под бодрый перестук колес выскочил на бугор за околицу села и здесь уже пустил лошадь шагом.
«Господи, откуда это во мне? – подумал он с неожиданным и запоздалым смущением. – Чистый театр. Они с открытой душой… Что скажет хозяин Запара, так неожиданно бросивший свой хутор? Уж не замешан ли он в бандитских делах? Места отдаленные, дороги и тропы мало хоженные. И продает хутор в спешном порядке старому крестьянину Мацько. Который, как он сам говорит, хлебнул лиха…» Сколько всяческих историй выслушал Глоба за свою недолгую жизнь, но каждый раз поражался тому, как по-разному складываются у всех события в горькие страницы. Казалось бы, одни и те же бури несутся над землей-матушкой, сбивая с ног, катят волны глубокие реки, затягивают в пучину, а, глядишь – один устоял на самой стремнине, если и упал, то, обдирая колени и руки, из последних сил добрался до берега, а другой, вроде и покрепче был, и сообразительнее, но замешкался, опоздал, еще на что-то надеясь, и вот уже все дороги назад отрезаны, а впереди – что-то неясное и жуткое…
И еще Глоба подумал: как мало надо для крутого поворота судьбы – всего лишь неосторожное слово, невыполненное обещание, один только бесчестный поступок. Нам только кажется, что наши поступки разбросаны в беспорядке, как упавшее с яблони яблоки, а в действительности они лежат в продуманной последовательности – один к одному… События в человеческой жизни так сцеплены, что нельзя вышелушить ни единого зернышка, не затронув все остальные семена, впрессованные в литую головку созревшего подсолнечника. Да, да, именно так… Сколько раз об этом думал Глоба, разбираясь в исковерканных судьбах людей. Не свершается ничего внезапно, любое действие можно проследить издалека, от самого истока…
Глоба без труда нашел табачную лавку на Московской улице. Хозяин, выслушав Тихона, долго с сомнением оглядывал стоящего перед ним незнакомого человека в коротком пальтишке и кепке с квадратным козырьком. Возможно, он и не верил тому, что говорил этот гражданин, но тяжелый, с никелированными замками портфель явно наводил владельца лавки на какие-то тревожные воспоминания. Он осторожным движением придвинул к Глобе коробку дорогих папирос, раскрыл ее, захрустев серебряной бумагой.
– Угощайтесь, прошу вас… Фининспекция? Запара? Но, простите, какое он имеет ко всему этому отношение? Ах, вы не в отношении моего патента? У Запары хутор? И налоги… Господи, кто бы мог знать! Наталья!
Голос хозяина пророкотал на всю лавку. Из низкой задней двери вышла босая женщина в мокром переднике, волосы спадали на худое лицо.
– Проведи к своему отцу! – приказал хозяин, высокомерно усмехаясь. – Экие дела! Хутора имеют, а налоги Советской власти не платят… Рас-с-спустились! Тоже мне хозяева-а, прости господи.
Запара сидел в комнатушке под деревянной лестницей. Был он хлипкого сложения, невзрачен, с бегающими глазами и дрожащими пальцами, в которых держал блестящую трубочку для набивания папирос. Стол перед ним был весь усыпан табаком. Распечатанные пачки валялись под левой рукой. Справа ровными штабелями высились готовые папиросы. Воздух был пропитан запахом табачной пыли.
Неожиданный приход фининспектора потряс Запару, он никак не мог взять в толк, что от него требуется. Он ничего не понимал, сбивался на ответах, забывал только что сказанное, а руки его в это время словно бы жили отдельно от их владельца – они лихорадочно хватали из пачки волокнистый табак, уминали в раскрытую жестяную трубку, защелкивали обе створки, надевали на нее бумажную гильзу и одним движением деревянного поршня-палочки выталкивали на стол набитую папиросу. Глаза не видели, что делали руки, неуклюжие пальцы старого крестьянина рвали папиросную бумагу, крошили табак – на стол падали уродливые, полупустые, с надорванными краями папиросины.
– Что вам от меня надо?! Ну что?! – то и дело горестно восклицал Запара. – Хутор?! Да нехай вин сгорыть! Остобисило жыты так… Отдаю его за бесценок! Какие еще налоги?!
– Да вы успокойтесь, – пытался наладить разговор Глеба. – Почему вы так волнуетесь? Разве что с вами случилось? Налоги надо платить, тут ничего не поделаешь. А у вас за полгода… Бросили хутор на произвол судьбы. Какой же вы хозяин?
– А вы там были? – вдруг прорезался неожиданный интерес, и Запара даже забыл о папиросах, положил локти на стол, развалив весь аккуратно сложенный штабель белоснежных палочек.
– Конечно! Дверь сорвана с петель, стекол в окнах нет. Собака убита.
– Вбыта, – прошептал Запра. – Какие звери, господи…
– Собаку, значит, вы не убивали? – недоверчиво спросил Глоба.
– Может, и я, – пробормотал Запара.
– Уж это могли бы знать наверняка, – ворчливо проговорил Глоба.
– Запамятовал, – опустил голову Запара. – Голова кругом… Все ж таки, я в том хуторе всю жизнь пробедовал… И покинул на произвол.
Он бормотал жалобным голосом, подшмыгивая насморочным носом, со слезами на глазах, но Глоба видел, как он изредка кидает на него злые взгляды – он чувствовал, что старик говорит неправду. Казалось бы, Тихон о Запаре знал все. Перед тем, как ехать к нему, он собрал все сведения, которые можно было достать в уезде.
Да, Запара на самом деле бедствовал в этом хуторе. Распаханной земли было мало – хватало только на огород: картошка, огурцы… Жил пасекой – качал мед, продавал его. Жена бросила его еще в молодости, осточертела, видно, ей отшельническая жизнь, ушла с каким-то бродяжкой, оставив за руках мужа малолетнюю дочь. Дочь выросла – подалась в город на веселые и легкие хлеба. В гражданскую войну тот хутор горел. Какой-то дезертир, может, прятался в стогу сена, неосторожно бросил цигарку – огонь полыхнул над хатой. Старик поднимал хутор из головешек горбом да руками. Построил хату так-сяк, последние гроши отдал наемным плотникам.
В той хате каждая половица была сделана его руками. И крышу он сам стлал, острым обломком косы равняя соломенный свес над земляной завалинкой… Такой хозяин просто от нечего делать свою хату не бросит, не оставит среди леса гнить под осенними дождями. У такого попробуй ее отнять силой – он вцепится в двери намертво, не оторвешь. А тут кинул – как от потопа бежал… А не связано ли это с появлением в лесу деревянного креста?
– Новый хозяин платить за вас налоги отказывается, – сказал Глоба, для весомости заглядывая в какие-то бумаги. – А без квитанции об уплате вы продавать хутор не имеете права.
– Так что же делать? – в отчаянии спросил Запара. – Мне деньги нужны.
– Придется вам туда поехать, – холодно произнес Глоба. – На месте все уточним.
– Да ни за что! – закричал старик. – Гори оно все пламенем!
– Что за крест там стоит? – вдруг спросил Глоба, не сводя глаз со старика. На его лице отразилось глубокое недоумение, он смотрел на Тихона, приоткрыв рот:
– Хрест?! Ото щось новое… Хрест.
И вдруг, как громом пораженный, опустил голову на ладони. Зашептал точно в беспамятстве:
– Хрест… Значит, убита. Хрест! Прости господи, душу грешную… Робыв, не ведая, що роблю…
Глоба подождал, пока он немного успокоится, и пододвинул ближе к столу свою табуретку. Он достал из кармана удостоверение и положил его перед стариком. Сказал, нахмурив брови:
– Видать, вы не очень привыкли обманывать. Я из милиции… Читайте, гражданин Запара. Вот мой документ. Вы грамотный?
И тут старик заплакал – упал лицом на стол и начал перекатывать голову со щеки на щеку, забивая мокрую кожу рассыпанным табаком. Лысая макушка блестела, как запотевшее стекло. Костлявые плечи вздрагивали от рыданий. Глоба сидел напротив, терпеливо ожидая, когда он затихнет, Тихон уже понимал, сейчас старик расскажет все – в его кашляющих стенаниях было и надрывающее душу отчаяние, и жгучие слезы облегчения, он как бы смирялся с тем, что должно произойти, в последнем судорожном плаче освобождаясь от того, что мучило его не один день.
Наконец Запара замолк, подолом рубахи вытер лицо и посмотрел на Глобу тихими, точно просветленными глазами.
– Значит, нашли таки… Ну спрашивайте, все скажу. Собаку не я убил, то верно…
– Начинайте по порядку, – Глоба забрал удостоверение. – Как там все получилось?
– Только сейчас понимаю, что жил я до той ночи, великих забот не ведая, – вздохнул старик. – Та ночь, как ножом отрезала прежнюю жизнь. Дило так було…
…Запара проснулся среди ночи – лаяла собака. Он торопливо оделся и нащупал у двери старинный дробовик, заряженный патроном с рублеными гвоздями. Еще от деда он получил это древнее ружье с треснувшим ложем, перетянутым медной проволокой, и длинным стволом. Не раз за эти годы кто-то пытался ограбить пасеку, но Запара отгонял их гулкими выстрелами из дробовика – он ухал в ночи, словно пушка. А может, ему просто казалось, что хотят обворовать пасеку, чащоба кругом густая, зверья много, собака чует тяжелый дух – вот и рвется с цепи.
На этот раз было то же – собака бесится, облаивает черную стену леса. Решил пугнуть на всякий случай. Нащупал дробовик и вышел с ним в темноту. Не видно ни зги, темно, хоть глаз выколи. Взял дробовик наизготовку и побрел к пасеке, прислушиваясь к ночным шумам – гудит ветер в кронах деревьев, лает собака, бренча цепью, где-то далеко ухает филин. И показалось, что донесся со стороны легкий говор, вот стукнули топором по колоде, что-то тяжело повалилось в траву.

Запара вошел в самую тьму, остановился где-то возле ульев и неуверенным голосом бросил в темноту:
– Кто тут? Е тут кто?!
И вдруг яркий свет электрического фонаря ударил по нему сбоку. И в этом луче, словно вырезавшем в черноте желтую сияющую воронку, старик увидел прямо перед собой женщину. Она была в кожаной куртке, черные волосы ветер легко нес по воздуху. Чуть повернувшись к Запаре, она глядела на него из свечения какую-то долгую секунду, и старик почувствовал, как по его спине побежали мурашки страха.
Женщина шевельнулась, поднеся к губам ярко вспыхнувший огонек папироски, и сказала с ленивым равнодушием кому-то невидимому за лучом света:
– Шмаляй его. Чего ждать?
Сказала тому, кто сразу же шевельнулся в темноте за спиной Запары. И тогда старик, уже не понимая, что он делает, нажал на спусковой крючок дробовика. Выстрел ахнул, луч света судорожно метнулся к небу, раздался крик, ружье вывалилось из ослабевших рук Запары. Он ринулся в темноту. Бежал, не разбирая и не видя дороги, через кусты, падая и поднимаясь, наскакивая на стволы деревьев, оставляя на жестких ветках клочья одежды. В бессилии упал лицом в землю…
– Ну, а потом? – спросил Глоба. – Вы не вернулись?
– Утром я прибрел к хате, – вспоминая, Запара прикрыл ладонью глаза.
…Утром он побрел к хутору, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь к лесу. Иней оттаивал, роса блестела на пожухлой траве. Хата показалась среди деревьев – двор ее был безлюден, у будки валялась застреленная собака. Ступая по земле, словно по тонкому стволу, прикрывающем болото, испуганно озираясь, старик вошел в распахнутые жердяные ворота. Хата была ограблена, дверь сорвана с петель. На пасеке Запара увидел несколько расколотых ульев-колод, облепленных застывшим медом и побитыми заморозками мертвыми пчелами. Соты были вырезаны ножом – раздавленные в темноте сапогами, валялись возле ульев.
У ствола старой яблони Запара увидел следы крови. Он долго глядел на эти бурые мазки, которыми была испачкана трава, еще не понимая того, что здесь случилось ночью. Словно оглушило тем выстрелом – отшибло память и соображение, оставалось лишь воспоминание об ужасе. Это чувство, взорвавшееся внутри, до сих пор гнездилось в каждой его клетке, вытеснив все остальное.
Движимый паникой, Запара быстро вошел в хату, торопливо собрал в узел то, что осталось из вещей, закинул за спину и, согнувшись под тяжестью, не прикрыв за собой сорванную с петель дверь, побежал по дороге от хутора…
– Чего вы боялись? – спросил Глоба.
– Я догадывался, что убил человека…
– А кто они были, как вы думаете?
– То бандиты батька Корня, кто же еще…
– А женщина?
– Жинка батька Корня… Слухи по селам шли, что они вместе лютуют. Они мне никогда б не простили. Я и сейчас все в окно гляжу. Не идут ли по мою душу? Такие, как батько Корень, из-под земли достанут. Корень был зверь лютый, но жинку свою любил.
– Крест видели?
– Тогда его еще не было. Значит, он стоит? На моей земле батько Корень поховав свою жинку…
– Хутор у вас покупает старый Мацько. Он что, разве не боится Корня?
– Он же не убивал. Мацько такой человек – он им хлеба дает, воды попить, но сам винтовку не возьмет ни за что, награбленного ему не нужно. Он все заробыть своими руками.
– Старый одинокий человек. Я его видел.
– То не гляди, – впервые слабо улыбнулся Запара, – в нем силы, как у бугая. Я тоже был когда-то – ого-го! та жыття трошкы пидтоптало.
– Он может иметь связь с бандитами? – перебил Глоба.
– Нет-нет! – воскликнул Запара. – То такой человек… Никому зла не желает. Вы только его не трогайте. И он будет с утра до вечера на земле горбатить.








