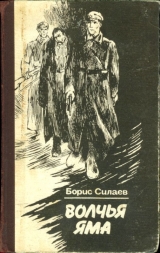
Текст книги "Обязан жить. Волчья яма
Повести"
Автор книги: Борис Силаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– Идите, – махнул рукой батько, и мужики скрылись за дверью. Глоба рухнул в угол, загремев жестью и всеми своими сковородками.
– Тю, – проговорил кто-то из сидящих за столом, – да вин, як чугунный.
– Сдавай, – перебил его батько, уже не обращая на Глобу внимания. Они начали играть, молча, с азартом шлепая картами по столу. Наконец батько сказал, покосившись на Глобу:
– А ну, хлопцы, распотрошите его… Что за гусь к нам пожаловал?
Глоба уже чуть отошел, он начал с трудом подниматься на ноги, держась за стену и шатаясь. Мужик снял с него мешок и вывалил посреди комнаты сковородки, утюг, гвозди.
– Мама ридная, – засмеялся батько. – Ну, давай, рассказывай, парень. Кто такой, откудова притопал? Да не вздумай мухлять. Мы народ строгий. Сначала дай ему, Федор.
Мужик отложил в сторону пустой мешок, наотмашь ударил кулаком Глобу. Тихон отлетел в угол.
– Для задатка, – с удовлетворением сказал батько.
– На менку пришел, – отплевываясь кровью, пробормотал Глоба. – Хлеб нужен, пшено… Голодаем страшно. В городе жрать нечего. Помогите чем можете, Христа ради прошу…
– Оскудел рабочий класс, – довольным голосом провозгласил батько. – Крестьянство ограбил, опустошил села, теперь сам по миру пошел с протянутой рукой. Да мы нищим не подаем! Заслужить трэба!
– И не надо! – с отчаянием воскликнул Глоба, лихорадочно расстегивая пуговицы на шубейке. Он встал на колени и начал торопливо засовывать в мешок гремящие сковородки, утюг, скобы. Тихон почти плакал, собирая с пола свои вещи. – Катитесь вы подальше! Тоже, паразиты малахольные…
– Да он пьян, батько, – засмеялся кто-то. – Врезать ему еще?
– Нэ трэба, – батько с интересом глядел на Глобу, весело щурил глаза, кончиками пальцев трогая мягкие усы. – А что ты умеешь робыть?
– Я за жратву любое дело осилю, – ответил Глоба.
– Нам пидручный коваля нужен, – проговорил батько, задумчиво разглядывая стоящего перед ним парня. – Пойдешь? А по весне отпустим, куль зерна дадим.
– Что сам награбишь – то твое, – вставил стоящий рядом мужик.
Глоба сел на скамейку, стащил с головы шапчонку, долю вертел в руках, и вдруг с силой хлопнул ею об пол:
– А, где наше не пропадало! Погляжу хоть – что это за бандитская свобода. Иль она медом помазана, что за нее башку под пули подставляют?
– Ну вот и лады, – усмехнулся батько, – одной заботой меньше. Ты, как я погляжу, хлопец сообразительный. Быстро скумекал где что! Давай знакомиться – я батько Корень! Слышал о таком?
Глоба с испуганным недоверием поглядел на сидящего перед ним громадного мужчину с красивым розовым лицом и только пробормотал чуть слышно:
– А чего ж… Царь и бог…
– Вот то-то же, – жестко проговорил Корень. – Иди, там тебя покормят, а утром в лес, до ридной усадьбы.
Весь вьюжный январь пробыл Глоба в банде Корня. Отряд бездействовал, отсиживался в самой чащобе Волчьей Ямы, боясь вылазками навести на свой след. Жратва уже кончилась – доедали убитого из обреза дикого кабана, хлеб пекли пополам с сушеной кислицей и молотыми желудями. От вынужденного безделья нудились – ссорились по пустякам, жестоко, до крови, дрались. Корень виноватых бил сам – его удар сваливал с ног. Иногда из сел приходили знакомые мужики – измочаленные тяжелой дорогой, с мешками харчей за плечами. Но желаннее съестного были новости о житье-бытье под оставленными домашними крышами. Слушая их, бандиты исходили тоской. Корень зверел, гнал мужиков назад, потом ходил по лагерю, как туча, хлопая хворостинкой по голенищу сапога.
А у Глобы работы хватало – с утра он уже был в кузне. Под навесом из веток стоял самодельный горн с кожаными мехами и лежал на колоде кусок рельса вместо наковальни. Кузнецом работал молчаливый, заросший седым волосом дед. Сына его убили в перестрелке бойцы истребительного отряда, и старик люто ненавидел Советскую власть. Это была ненависть, которая поглощала деда целиком, и она, казалось, вытеснила все остальные чувства, он все время думал одну и ту же тяжкую думу о жестоком отмщении. Но кузнецом он был отменным. С помощью Глобы они клепали колесные ободья, отковывали тележные оси, стремена. Вдобавок еще занимались жестью – сворачивали печные трубы, выколачивали миски и котелки. За это им всегда перепадал лишний кусок хлеба.
Как только день начинался, люди поодиночке тянулись к кузне на неторопливый перестук молотков. По очереди качали веревку меха, раздувая угли до белого каления. Садились под стеной на корточки и часами молча глядели, как раскаленное железо мягко гнется, медленно темнея, становясь сначала светло-фиолетовым, потом вишневым. Брошенное в кадку с водой, оно фыркало паром. О чем думали мужики, слушая это домовитое потюкивание металла? Какие мысли приходили им в голову, когда они видели, как угли наливаются жаром, складываясь в фантастические замки, и рушатся на глазах, превращаясь в горячие каменья?
А еще ковали в кузне лезвия ножей. Для них заготовки вырубывали из вагонных рессор. Старательно равняли обушок, острили стальное жало, пробивали вдоль легкую канавку. Не давая остынуть, кидали в горшок с машинным маслом для закалки.
В одной холщовой рубашке, поигрывая мускулами, Глоба наотмашь рубил железо зубилом, высекая из рессоры пластину, затем брал молоток и пускал по лагерю звонкую рассыпную дробь. Весь мокрый от пота, жарко дыша, он вытирался подолом и ждал, когда лезвие остынет. Старик доставал его из горшка и с наслаждением взвешивал на ладони – нож был тяжелым, увесисто оттягивал руку, с его острия медленно стекали темные капли.
– Делов-то, – смеялся Глоба. – Нож… Я так помню… Мы на своем Паровозостроительном плуги ковали…
– На своем, – хмыкал кто-нибудь из мужиков.
– А что? – не понимал Глоба. – Мы буржуев турнули, это уж точно. Директора на грязной тачке за проходную вывезли, сам видел.
– Ты брось тут свою пропаганду, – угрюмо перебивал другой мужик. – Мы наслуханы.
– А я чего? – пожимал плечами Глоба. – Что видел, то видел. Нового директора сами выбирали.
– Как это? Из простых?
– Собирались во дворе, фамилию кликнули. Кто – за? Поднимай руки! И назначили.
– Небось, интеллигента какого?
– Из кузнечного. Двадцать четыре года горб гнул. А зарплату ему положили, как всем. И чтоб брал ее последним.
– А это уж зачем?
– Вдруг кому не хватит? Пусть ждет. Сначала – рабочий класс.
– Ну и брехун же ты, – задумчиво говорил мужик и насмешливо качал головой. А сидящий рядом молчал, тосклива глядя куда-то вдаль.
Эти лезвия Корень отдавал лагерному шорнику, и тот, набив на черенок деревянную ручку, обтягивал ее темной кожей. Такие ножи батько вручал самым надежным как личный подарок. Если его взять за острие и швырнуть с силой, отводя руку за голову, он вонзится в ствол дерева на два пальца и долго будет дрожать, сталисто вибрируя, словно от не израсходованной до конца ярости.
Через месяц у Глобы в банде были помощники – мужика из отдаленного села готовили побег домой. Тихон разгадал их, припер к стенке, и они сознались. В одну из ночей, когда все пьянствовали, самогоном заливая тоску и смертные грехи, Глоба, на выкраденной лошади, унесся в пуржащую темень. Под утро лошадь пала, не в силах больше скакать по снежной целине. Тихон с большим трудом добрался до сельсовета. По телефону связался с Чека. Выслушав его, Рагоза коротко бросил:
– Молодец. Век не забудем. Теперь наше дело. Жди.
В ближайших селах по тревоге поднялись сельские отряды самообороны, они легли в засадах на всех дорогах, ведущих в лес. Из уезда выступила сотня истребителей. С первым солнечным лучом грохнули винтовочные выстрелы – бандитский дозор обнаружил облаву. Завязался скоротечный бой. Только несколько человек во главе с батьком Корнем вырвалось из окружения. Они ускакали в чащобу, грудью могучих лошадей проламывая слежавшийся на сугробах снежный наст. Это была последняя большая банда в уезде. С тех пор Корень исчез, лишь изредка в город какими-то окольными путями приходили путаные слухи о том, что он укатил в Среднюю Азию, говорят, женился там на местной красавице, разбой бросил, но от властей скрывается до сих пор – под амнистию не попал, уж больно много крови на руках.
Долго думал Глоба: на завод ему возвращаться, или же так и остаться в органах? В городе безработица – не дымят трубы, молчат цеха, кому нужен еще один голодный рот без специальности? Что он может делать? Бандитов ловить? Ну и давай, продолжай свое дело, на твой век хватит ворья, жуликов и налетчиков. Кто-то должен заниматься и этим. Надо бы учиться, грамоты поднабрать, засесть за книги… Что у него за образование? Четыре класса. С ними в большие начальники не выйдешь, да и не тянет, по правде, Глобу в кабинетные двери. Как ни говори, а время даром не прошло – всем сердцем прирос к тамошним лесам да пажитям, к селам и хуторам, и людям, которые не раз и не два выручали его в самые трудные часы его жизни. Так получилось, что теперь, куда он ни поедет, везде знакомые, всегда накормят, спать уложат.
Вот уже год, как создано Главное управление рабоче-крестьянской милиции, или короче – Главмилиция. Пошел Глоба к своему начальнику, попросил перевода в то Управление, с тем чтобы служить в своем уезде. Просьбу его удовлетворили – дали уголовный розыск. Работы выше горла, а сотрудник один, он сам, да еще линейка и две лошади. Нужна помощь – обращайся к уездному начальнику милиции, у того полный штат – два надзирателя, три конных милиционера, делопроизводитель и еще милиционер с постоянным дежурством при камере. А если что – всегда можно надеяться на поддержку уездного комитета партии, у него состав: секретарь, его заместитель, технический секретарь и машинистка. За три года службы на новом месте старое начало подзабываться – казалось бы, нет ему места в сегодняшней жизни, но вот неожиданно выплыл из глубины времени тот самый нож, кованный вручную, закаленный в масле, с ручкой, обтянутой кожей. Где-то его хранили, прятали от человеческих глаз. Чья-то рука метнула лезвие из-за плетня в узкую девичью спину учительницы. Оно пробило плеть косы, пальто и глубоко вошло под лопатку. Умелый бросок. Глоба помнит – иногда бандиты от безделья собирались возле векового дуба, целились в круг на коре, выцарапанный острием. Редко кому удавалось всадить холодное оружие жалом – штыки и финки отскакивали в сторону. И только вот эти – самодельные дедовские клинки летели в круг с неукротимой силой. У кого они были? Глоба может перечислить всех владельцев именных ножей. Как сложились их судьбы? Почти все убиты или отсиживают свои сроки. И все-таки, в селе Смирновка, в спину учительницы…
Лошадь с разгона взяла подъем и вывезла линейку из лощины. В редколесье паслось стадо коров. Пастух брел по траве к дороге, и Глоба, приглядевшись к нему, потянул вожжи на себя. Пожилой крестьянин в мокром мешке, углом натянутом на голову, с посохом в руке хриплым от долгого молчания голосом громко проговорил:
– День добрый, товарищ Глоба. Видел вчера, як вы у город ехали.
– Здоров будь, дядько Иван, – отозвался Тихон, слезая с пролетки. Он достал из кармана шинели кисет и сложенную газету. – Покурим?
– А чего ж не подымить на дармовщину? – охотно согласился тот и кончиками темных пальцев набрал из кисета добрую щепоть табака. Глоба высек искру из кремня, они прикурили от дымящегося трута. Долго молчали, смакуя вкус цигарок, поплевывая под ноги. Наконец Глоба сказал;
– Как живем, дядько Иван?
– А-а, – протянул равнодушно крестьянин, но глаза его из-под мешка глядели с веселой хитрецой. – Живем – хлиб жуем…
– Значит, нынче с хлебом? А помнишь время, когда мы с тобой повстречались?
– Не приведи господи больше, – с огорчением проговорил он. – И дети чтоб наши такого не видели. Сеяли – зерна тарелка. Убирали – серпом за полдня. Продотряд придет – где твои излишки? А ну открывай камору, раскрывай в огороде яму.
– Яма-то, значит, была? – усмехнулся Глоба. – Чего уж сейчас темнить?
– Да была, – нехотя согласился селянин. – А як ей не быть? Деток годувать трэба. Мешка три заховаешь…
– А в городах республики повальный голод, – вздохнул Глоба.
– Чего теперь искать виноватых? – отводя взгляд, пробормотал дядько Иван. – Каждый хватил своего лиха. Главное, что живы остались, хлиб есть, соль на столе. Спасибочки Советской владе, поверила глупому мужику.
– Слыхал, что случилось в Смирновке?
– Боже ж мий! – горестно воскликнул селянин. – Кому ж дквчинка мешала? Што за злодий на нее руку поднял? Кат проклятый.
– Не думаешь на кого, дядько Иван?
– Нет, товарищ Глоба, ума не приложу. Только было начали жить по-людски. Теперь начнут трусить старые грехи.
– Тебе не надо бояться, дядько Иван, – успокоил его Глоба. – Если что услышишь… Сам понимаешь, сделал это враг лютый.
– Да уж, товарищ Глоба, если что… Мигом до вас.
– Передавай привет знакомым. Будь здоров, дядько Иван.
Глоба сел на линейку, разобрал вожжи. Крестьянин махнул посохом, прокричал вослед:
– Хай щастит тебе, Тихонэ… Не забувай!
Глоба обернулся. Он все стоял у дороги – дядько Иван, один из бывшей банды кровавого беспощадного отряда батька Корня, который боговал в трех уездах, наводя на людей ужас. После разгрома банды, дядька Ивана, как и некоторых других, тут уж Глоба постарался, отпустили по хатам – грехи за ними были не так уж велики, сами они из неимущих, затурканных богатеями крестьян. Во многих селах жили вот такие дядьки, честно трудились – пахали, сеяли хлеб, растили детей.
Во второй половине дня линейка въехала в уездный городишко – был он неказист, лежал на пологом склоне холма беспорядочной россыпью кирпичных домов, перемешанных с простыми хатами, крытыми соломой. На главной улице стояли купеческие лабазы и лавки с железными ставнями. У приземистого старинного собора лежала неровная булыжная площадь, вся в лужах и клочьях сена. Большие тополя качались над мозаикой крыш, едва не задевая темными вершинами кучевые облака в небе. На башне пожарной части мерцал ярко надраенный колокол. В садах ветки пригибались к земле от тяжелых яблок. Сквозь трещины каменных плит на тротуарах рос подорожник.
Милиция находилась в доме бежавшего владельца мельницы – первый, полуподвальный, этаж его вгруз в землю по окна, а на втором торчал балкон, окруженный кованой решеткой с железными вазами для цветов.
Глоба жил во флигеле. Он торопливо спрыгнул с линейки и бросился во двор, пробежал по хлипким доскам, проложенным через раскисшие от дождей лужи, толкнул дверь.
– Маняша? Где ты? – обеспокоенно спросил он, неторопливо отбрасывая ситцевую занавеску, отгораживающую кухню. Оставляя следы на чистом полу, шагнул в комнату.
– Да тут я, тут! – успокаивающе прокричал женский голос из подвала. В открытом люке показалось по-девичьи молодое лицо.
– Вернулся, чертушко. Помоги.
Тихон увидел протянутые к нему узкие ладошки и, осторожно утопив их в своих, широких, как лопаты, легко выхватил жену из погреба. Зажмурив глаза, она прижалась щекой к его груди, пальцы ее затеребили шинельные крючки.
– Вернулся, Тиша… Я тут истосковалась по тебе…
– Вот тебе на! – весело удивился Глоба. – Уехал на одну ночь…
– Это для тебя одна, – пробормотала Маня, – а я их все, какие только были, складываю вместе. Ужас что получается…
Он закинул руки за спину и, найдя ее пальцы, медленно развел объятия, полами расстегнутой шинели укутал легкое женское тело, мягко прильнувшее к нему, и закачал, убаюкивая.
– Ты, как птичонок, – тихонько прошептал, смущенно улыбаясь. – Уж я тебя знаю… Что-то случилось?
– Да, – почти безмолвно прошептала она, кивнула головой.
– Я слушаю, Маняша.
– У нас будет ребенок… Может быть, сын. Ты так хотел – и вот…
– Господи, – потрясенно выговорил Глоба. – Лучшего ты ничего не могла придумать…
Он вдруг закричал на нее сердитым голосом, но глаза его сверкали восторгом:
– И ты лезешь в погреб? Там лестница… Ты представляешь, что может получиться, если хоть одна перекладина?! Запрещаю! Я теперь все сам… Сам!
Тихон поспешно сбросил на лавку шинель, в распоясанной гимнастерке махнул в погреб, не становясь на лестницу, взметнул оттуда эмалированную кастрюлю со вчерашним борщом, таз с нечищеной картошкой, крынку молока.
– Хватит, довольно! – замахала руками жена. – Иди мой руки. Садись за стол.
Тихон гибко выпрыгнул из подвала, шагнул к умывальнику, нетерпеливо забрякал медным соском, плеская в лицо воду пригоршнями. Затем сильно растерся суровым полотенцем, так, что кожа заиграла пожаром.
– Я готов!
Он сел за стол, широко расставив колени и упершись кулаками в бока, голодным взглядом повел по расставленным тарелкам.
– Ну, Маняша, ты у меня мировая хозяйка.
– Скоро будем ставить третью тарелку, – смущаясь, сказала она.
– Эх, Маняша, да я готов хоть весь стол ими заставить! – воскликнул Тихон. – Коммуна имени Глобы! Звучит!
Он заработал деревянной ложкой, весело поглядывая на жену, которая ела медленно, кончиками пальцев отламывая крошечные кусочки от хлебного ломтя. Не выдержал, сокрушенно качнул головой:
– Ну, чертова интеллигенция… Едят, как молятся. Тебе надо за двоих!
– Почему ты все время считаешь, что я интеллигенция? – спросила она. – Я же тебе говорила… Отец у меня рабочий. А я курсы стенографии закончила. А в управление случайно попала. На заводе порекомендовали. Хотя быть интеллигенцией… Ничего зазорного не вижу.
– Когда я мог о тебе досконально все узнать? – беззаботно спросил Тихон. – Я же тебя знаю без года неделю. Три месяца тому назад… В понедельник – тяжелый день. Ты помнишь? В приемной сидит симпатичная машинисточка. Пальчики белые – тук, тук… Ей слово скажут – она краснеет, словно девочка.
– Потому что вы все до одного говорили мне только глупости, – отрезала Маня.
– То, что ты самая красивая?! – ужаснулся Глоба. – Ты считаешь это глупостью?
– Да, – кивнула она головой. – Самый красивый – это ты. Тихон, секунду подумав, согласился:
– Может быть… но только среди мужчин.
– Ну, хлопец, ты же и зазнался, – растерянно протянула жена. – Больше я тебя одного в город не пущу.
– Да я и сам бы туда не ездил, – с охотой откликнулся Тихон, – чего я там не видел? Сердитые лица начальства. Ведь самое главное я совершил: ограбил Управление. Они там сейчас точно осиротели. Никто мне этого не простит.
– Не очень-то и сопротивлялись, – отмахнулась Маня. – Я не знала, что ты такой трепач. А все говорят: молчаливый, слова лишнего не вытянешь… типичный служака.
– Вот это они точно, – понимающе вздохнул Тихон. – Я, между прочим, за эту службу деньги получаю. А кроме того, – он неловко усмехнулся, – олицетворяю здесь, так сказать, все законы Советской власти.
– Не много ли берешь на себя? – недоверчиво воскликнула жена.
Маня кивнула на окно – там, во дворе, сидел на крыльце пожилой человек в милицейской форме и дымил трубкой.
– Ждет начальник… Весь извелся.
Тихон подхватил ремень, на ходу перепоясываясь, выскочил из флигеля. Прыгая через лужи, подошел к Соколову и опустился рядом.
– Прибыл, Николай Прокопьевич.
– Какие новости, Тихон?
– Лазебник стружку снимал. Крыл почем зря. Обвиняет в том, что сами мужиками заделались. Потакаем, мол, им. Затупился наш карающий меч.
– Да уж вин того мужика не любит – не приведи господи, – криво усмехнулся начальник милиции.
Соколов был местным жителем. До революции он здесь вел большевистскую агитацию среди рабочих кожевенного завода. Его арестовали, выслали в Сибирь, жил он на поселении, но как царя сбросили – сразу вернулся назад. В девятнадцатом году ушел с пролетарским полком на фронт, там его ранили – казак вонзил под ребро тонкое жало штыка французской винтовки. Не повезло в той атаке – беляк бежал на него низко пригнувшись к земле, с перекошенным от безумия меловым лицом и слепыми вытаращенными глазами. Соколов сделал выпад – деревянно стукнули винтовки, схлестнувшись в ударе. У французских винтовок штыки – как длинные четырехгранные шпаги… После выздоровления отправили Николая Прокопьевича из госпиталя домой – на внутренний фронт. Командовал отрядом Чека по борьбе с бандитизмом. Получил в награду маузер с серебряной накладкой – «За героизм и мужество». А сам-то Соколов казался на первый взгляд мирным человеком – роста небольшого, с морщинистым лицом пожилого рабочего, ходил опустив голову и закинув руки за спину. Дымил вонючим табачищем день и ночь, выбивая пепел из трубки в ладонь.
– Сегодня ранком, по пути с базара, заглянул к нам один дядько из Смирновки, – проговорил Соколов. – Ты, можэ, знаешь… Пылып Скаба. Ну так он историю рассказал: пацаны сельские за пожаркой играли – ножики в цель кидали.
– Ножи? – сразу насторожился Глоба.
– Какие у них ножики? – пожал плечами Соколов. – Саморобки… Из косы или обломка штыка. Углем круг нарисовали и с пяти шагов – кто в середку… Люди ходили – никто не обращал внимания. И вот тилько Павлюк… Сидор Кириллович Павлюк. Як увидел он там своего сына, а тому хлопчику восьмой год, несмышленыш. Понимаешь, кинулся Павлюк на шкета… чуть не убил. С трудом оторвали. Что бы то могло значить, Тихонэ?
– Ладно, – подумав, хмуро проговорил Глоба. – Я поехал… Там на месте уточним обстоятельства дела.
Маня чуть не расплакалась, когда увидела, что он ведет лошадь к линейке, осаживает ее в оглобли.
– Тихон, ты куда? Только приехал…
– Тащи, жинка, зброю, – усмехнулся Глоба. – Служба зовет… Ночевать домой приеду.
Она вынесла ему кобуру с маузером, шинель и фуражку. Он оделся и повалился в линейку, взметнув над головой вожжи:
– Эге-егей!
Колеса прогрохотали по двору, разбрызгивая лужи.
Линейку Глоба увел в кусты, под крону деревьев, а сам пошел к селу берегом речки. Нашел хату Пылыпа Скабы и, постучав, шагнул в комнату.
– Здравствуйте, люди.
– Добрыдень, – отозвался Скаба, он сидел на чурбане под окошком и подшивал дратвой подошву валенка. Вокруг него разбросаны обрезки войлока. Скабиха поднялась с кровати, охая, держась за бока, потащилась к печи, приговаривая:
– Да, гость дорогый, ридкый гость… Чем угощать… А я росхворалась… Мабуть, завтра дощ будэ – косточки ноют…
– Не беспокойтесь, – попросил Глоба и присел на табуретку. – Что скажете, дядько Пылып?
– Да був я у вас, – как бы нехотя проговорил Скаба. – Ото что знаю, то и росповив…
– Сын-то Павлюка здоров?
– Павлючиха увезла его на хутор. Повернулась одна.
– А кто такой этот Сидор Павлюк?
– Мужик пакостливый… У петлюровском курени служил. Як красные их побили, то он снова в село, до ридной хаты.
– В бандах гулял?
– Ни, – сказал Скаба, но, подумав, уже тише добавил засомневавшимся голосом: – А кто его знает… Чоловик он злый. Гроши е.
– Как ты думаешь, дядько Скаба, за что могли убить учительницу?
– Да все балакают, шо ни за що ее вбываты. Гарна дивчынка.
– А вот не пощадили.
Скаба, насупившись, ткнул шилом в подошву, свиную щетину с просмоленной варом дратвой продернул сквозь войлок и туго затянул.
– А москалей вбывалы ще и раниш, – хмуро сказал он. – Ее таки люды, им каждый москаль поперек горла, як рыбья кость.
– В селе знают, как учительницу убили?
– А вжеж… Подошли сзади и кинули ножом в спину. – Скаба не поднимал глаз от колен. – А дурни хлопьята с ножами балуют – то просто так.
Глоба вышел к усадьбе Павлюка огородами, перешагнул плетень и ступил в чисто выметенный двор. В закутке хрюкал поросенок, хлев был пуст – из него дышало теплым навозом и разбросанным сеном. Прямо у ворот стояла лошадь, запряженная в бричку, на которой лежали какие-то узлы. Смекнув, в чем дело, Тихон торопливо шагнул в хату и увидел женщину, склонившуюся над раскрытым сундуком. Она медленно выпрямилась, держа в руках меховую шубу, глаза ее растерянно смотрели на вошедшего.
– День добрый, – сказал Тихон, быстрым взглядом окидывая комнату. – Где ваш сынок, гражданка Павлюк?
– Да боже ж ты мой… Какими судьбами, товарищ Глоба? – залепетала женщина и вдруг завопила на всю хату: – Сыдорэ-э! Рятуйся-я!
– Перестаньте, – укоризненно сказал Глоба, а сам быстро шагнул в другую комнатушку, резким движением откидывая крышку деревянной кобуры. Он отдернул в сторону вышитую крестиком занавеску и ступил через порог, но еще раньше услышал звон стекла и выстрел – Глоба мгновенно спрятался за перегородку. Коротко выглянул – на полу валялись разбросанные вещи, оконная рама была высажена табуреткой. Он не стал преследовать отсюда – он будет представлять собой отличную мишень, если уж в него выпалили, то, значит, тому человеку ничего не стоит нажать на спусковой крючок и второй раз.
Выбежал во двор и поверх плетня увидел две удаляющиеся от хаты фигуры – они торопились через луг к лесу.
– Сто-о-ой! – закричал Глоба и предупреждающе выстрелил в воздух. Люди даже не обернулись, казалось, даже припустили еще быстрее. Тихон торопливо сбросил шинель, уже на ходу откинул в сторону поясной ремень и кобуру. В распоясанной гимнастерке, с маузером в руке, он кинулся по узкой тропе. Глоба знал, что на лугу сейчас трава большая, бежать по ней трудно, она путает и захлестывает ноги. Тропинкой к лесу дальше, но она выведет к первым деревьям быстрее.
Новый выстрел кинул его на землю – пуля чирконула где-то рядом. Да, те, что удирали, в таких делах были опытными. Они отступали по всем законам – один, лежа, отстреливался, другой делал в это время перебежку, потом падал за луговую кочку и палил из обреза, давая возможность отойти своему другу.
«Я их обоих не возьму, – запоздало подумал Глоба, – надо было захватить с собой милиционера… Одного из них следует обезвредить… Иного выхода нет… Попасть бы в ногу… Второй, кажется, мужик потяжелее, я его догоню…»
Глоба ожидал, пока один из них отстреливается, – лежал, уткнувшись подбородком в мокрую землю, чувствуя, как одежда напитывается холодной водой, воняющей болотом. Маузер держал двумя руками – черный столбик мушки делил надвое бугорок луговой кочки. Лопнул последний выстрел, пуля пошла верхом, из обреза прицельный бой затруднен – большое рассеивание.
И как только прогремел выстрел – бандит вскочил на ноги. Глоба ударил из маузера. Руку подбросило вверх, пустая гильза дзынькнула из откинувшегося затвора, пахнув горелым порохом. Бандит словно налетел на стеклянную стенку – его швырнуло с силой, и он рухнул, точно подкошенный. Второй, увидев, что произошло с его напарником, обернулся и, встав на колено, в отчаянии выпалил из обреза пять раз, затем отшвырнул ненужное оружие и, петляя, кинулся к лесу. Ноги его путались в траве, он спотыкался, на ходу разорвал ворот рубахи – горлу уже не хватало воздуха. Наконец упал, задыхаясь, хрипя, пополз по земле, цепляясь пальцами за кочки, и затих. Глоба пошел к нему, не сел, а свалился рядом, бросив руки на колени, вытирая мокрое от пота лицо о плечо гимнастерки. Боковым взглядом он зло глядел на мелко дрожащую спину лежащего человека, в намертво стиснутых пальцах которого торчали травинки и сочилась влагой сжатая черная земля.
– Ну повернись, гнида, – с ненавистью проговорил Глоба. – Покажи себя, какой ты есть.
От хат по лугу с вилами и кольями бежали сельские мужики. Глоба обеспокоенно поднялся им навстречу, сказал с неприкрытой угрозой лежащему бандиту:
– Народ… Разорвут в клочья. Если хочешь жить – вставай.
Человек шевельнулся, подтянул ноги, медленно сел. Лицо у него было серое, с запавшими глазами, губы тряслись, по небритым щекам текли слезы.
– Ты Павлюк? – спросил Глоба.
– Та я, – пролепетал бандит, цокая зубами. Он сидел на земле, скорчившись, непослушными пальцами размазывая по морщинистой шее слезы и слюни. Глоба с отвращением отвернулся – у него не было сил смотреть на эту мразь.
– А второй?
– То мий брат.
– Вставай! И сопли вытри, глядеть противно. Учительницу ты убил?
Павлюк рухнул на колени, подвывая тонким голосом.
Второй был убит пулей в голову. Тело его принесли во двор и положили на бричку. Люди сказали, что до этого дня брата Павлюка видели здесь не часто – жил он в отдаленном селе, владел ветряной мельницей. Чем больше Глоба всматривался в неподвижные черты мертвого, тем больше ему казалось, что он видел его где-то раньше. Жидкие усы, срезанный подбородок, извилистые морщины через низкий лоб – этого человека он помнил по банде батька Корня. Теперь понятно, откуда появился нож. Брат передал брату… Свою заслуженную у атамана награду.
Глоба тщательно обыскал двор и хату. Со стороны огорода на бревенчатой стене хлева увидел множество следов от ножевых тычков.
«Вот здесь он кидал нож… А сын, наверно, приметил… На пацана это произвело неизгладимое впечатление. Он показал в школе, как это делать…»
Под обшарпанной клеенкой на столе Глоба нашел самодельный конверт с листом бумаги. Уже темнело, и Тихон подошел к окошку. Письмо было коротким, коряво выписанные буквы складывались в строки: «Друже! Мабуть, скоро побачымося знову. Поклычэмо старых товарышив. Грюкнэмо щэ двэрыма! Жинка моя вжэ у матэри. Собыраю и я свои манаткы. Надоели мне тутошные Магометы хуже горькой редьки. Скучыв по ридний Украини, аж дыхаты тяжко. До зустричи. Твий Мышко».
Обратный адрес отсутствовал.
Как ни отговаривали Глобу переночевать в селе, он все-таки решил ехать. Даже если бандиты уже знают об аресте Павлюка, им не придет в голову, что его повезут среди ночи.
Тихон навалил в линейку свежего сена, связал Павлюка веревкой и усадил его с помощью мужиков. Павлючиха попрощалась с мужем – выла во весь голос, как по покойнику. Бабы с трудом оторвали ее от тронувшейся линейки, за которую она вцепилась обеими руками. До сих пор молчавший Павлюк вдруг дернулся и, повернувшись всем телом назад, закричал срывающимся от тоски голосом:
– А ублюдку скажи… Повернусь – убью, як скажену собаку!
Ночь обступила со всех сторон. Видна была лишь дорога – словно серое русло высохшей реки с крошечной, точно прокол в темном картоне, одинокой звездой. Колеса глухо постукивали по неровностям, ухал в чаще филин, невидимое комарье звенело в воздухе, пронизывая все вокруг своим занудливым жужжаньем.
Павлюк шевельнулся на соломе и прохрипел:
– Комахи крови насосались… Вдарь по морде – терпеть мочи больше нет.
Глоба поднял руку, не останавливая линейки, на ходу сорвал ветку и легонько хлестнул листьями по лицу Павлюка. Тот со стоном вздохнул:
– Дякую…
– Ишь… вежливый, – усмехнулся Глоба. – И чего я тебя везу… Поставить бы у дерева – и пулю в лоб. Одним гадом на земле меньше.
– Ты скажешь! – обеспокоенно пробормотал Павлюк. – А допыт? Я, может, знаю такэ…
– Чье письмо?
– Тут не скажу… Вези до милиции.
– Нож где взял?
– Якый?
– Которым учительницу убил.
– То брехня.
– И не жалко было тебе ее?
– За москальку не ответчик. Чего ей треба на украинской земле? Я ее сюда нэ клыкав.
– Она детишек твоих учила уму-разуму.
– Вот повернусь из-за решетки – прибью своего ублюдка. Научили батька продавать.








