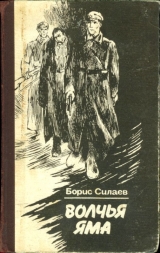
Текст книги "Обязан жить. Волчья яма
Повести"
Автор книги: Борис Силаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Я так и сказал Соколову, – согласно кивнул головой Глоба.
– Ты это скажи Лазебнику.
– Скажу, – хмыкнул Тихон и, помолчав, добавил, – если спросит.
– А сам не можешь? – съехидничала Маня. – Язык не повернется, – вздохнул Тихон.
– Напрасно, – разочарованно протянула Маня и, положив голову ему на грудь, прикрыла ладонью глаза, чтобы не видел слепящие вспышки молний. – Конечно, нам и тут неплохо правда, Тиша? Но надо смотреть вперед. Не на всю же жизни мы здесь? Господи, грохочет, как из пушек…
Гром раскололся прямо над крышей, флигель содрогнулся от гулкого удара. За окном полыхнуло так, что, казалось пламя расплавило стекло. И в наступившей черной тьме дожди забарабанил по крыше с удвоенной силой.
Разбудили Глобу громкие удары в дверь. Он поднялся на постели, с трудом разлепливая веки – было часов шесть утра, в окошке стояло выметенное до голубизны сияющее небо.
– Товарищ Глоба! Глоба! – метался за дверью чей-то тревожный голос. – Да проснитесь!
Тихон торопливо натянул галифе, сунул ноги в сапоги и открыл форточку.
– Что случилось?
Молодой милиционер закричал:
– Беда, товарищ Глоба! Идите до камеры!
– А, черт, – выругался Глоба, сунул голову в гимнастерку, уже на ходу подхватил ремень и маузер. Через двор пробежала по щиколотки утопая в лужах. В пустом коридоре на втором этаже Тихон увидел распахнутую дверь камеры. От неожиданности у него перехватило дыхание. Он ускорил шаги. В камере на нарах, понурясь, сидел Соколов, без фуражки, угол белой портянки торчал из голенища сапога.
Глоба быстро огляделся – темные отштукатуренные стены, дверь, оббитая белым железом, параша – ведро с крышкой, стол… Окно! Мерцают пеньки перепиленных металлических прутьев. Решетка выгнута наружу, и солнце льет свет в непривычно свободный проем.
– Вот так… Бежали, – пробормотал удрученно Соколов. Глоба шагнул к нарам и приподнял одеяло – под ним лежала солома, вытащенная из матраца.
– Я каждый час поглядывал, – потерянно говорил дежурный милиционер, с убитым видом стоя посреди камеры. – Прозорку открываю… Лежат. Ну як ридни браты – плечом к плечу… Гроза, гром… да, господи, колы б я знав…
Глоба выглянул из окошка – двор расплывался лужами, поверх бурого, давно не крашенного забора, тянулись гирлянды ржавой колючей проволоки, покосившиеся ворота приоткрыты. По улице лошадь тащила телегу, глубоко проседавшую колесами в топкую грязь дороги. Ослепительно, словно надраенный мелом, сиял золотой купол собора.
– Пойдем вниз, – сказал Глоба, выходя из камеры.
Во дворе, прямо под стеной, они нашли ножовку для пилки железа, привязанную к длинной веревке. Тихон намотал на ладонь мокрый шпагат, снял с пальцев и, размахнувшись, швырнул ножовку в окно камеры. Она не попала, отлетела от кирпичей, булькнув в лужу. Глоба нашарил ее в воде, снова аккуратно смотал веревку. Прицелился и метнул ножовку опять – на этот раз она беззвучно исчезла в проеме окна.
– Вот так, – пробормотал Глоба, – остальное понятно…
– Но кто? – с отчаянием проговорил Соколов.
– Давайте проверим Корневу, – сказал Глоба. Соколов крикнул милиционеру:
– Лошадей!
Они проскакали через весь город, редкие встречные оглядывались вслед двум военным, низко пригнувшимся к лошадиным гривам. Из-под конских копыт летели ошметья грязи. На Конюшенной всадники спешились, один из них ловко кинул свое тело через забор, отбросил засов, открывая калитку, и уже оба взбежали на крыльцо.
Старуха открыла дверь не торопясь, что-то ворча сердито. Глоба молча обминул ее и торопливо пошел в комнаты. В одной из них увидел раскрытый сундук, вокруг валялись разбросанные одежды.
– Поздно, – проговорил Соколов, поднимая с пола меховую рукавицу. – Ох, и лопухи мы с тобой…
Глоба поворошил руками вещи в сундуке, заглянул в прихожую и, вернувшись, встал у окна. Отсюда четко были видны следы колес, тянувшиеся к воротам.
– Забрали теплые вещи. Ушли в лес…
– А где-то уже скачет Лазебник. С надежной охраной из конного резерва, – горестно усмехнувшись, сказал Соколов.
– Еще рано, – бормотнул Глоба, – спит, наверное… И во сне такого не видит.
– Может, позвонить? – предложил с надеждой Соколов. – По телефону оно легче… Поругает – и трошкы станет спокойней.
– Один черт, – сказал Глоба, тревожно барабаня кончиками пальцев по стеклу. – Куда они могли бежать? С Корнем Павлюк… Павлюк отправил сына к родственникам в отдаленный хутор… Могли туда скрыться?
– Кто знает, – вздохнул Соколов. – Бери двух милиционеров и гони в тот хутор.
Вернулись из погони уже к закату солнца. Лошади переступали копытами, качая в седлах усталых, залепленных грязью с ног до головы всадников. Карабины болтались за их спинами, на гимнастерках расплывались темные пятна пота.
Еще издали Глоба увидел легковой «форд» у ворот милиции и стайку мальчишек, облепивших его со всех сторон. Конники въехали во двор, спешились и, неуклюже ступая онемевшими ногами, повели лошадей к конюшне.
В открытом окне флигеля стояла Маня, не решаясь окликнуть мужа. Глоба сделал вид, что ее не заметил, молча передал повод одному из своих людей и направился к дверям.
На завалинке покуривали сотрудники уголовного розыска губмилиции – Замесов, Кныш и Сеня Понедельник. Возле них стояли конюхи и свободные от дежурства милиционеры, почтительно внимая городскому трепу.
– Ба-а! – оживленно воскликнул Замесов, вынимая со рта свою английскую трубку. – Вот и гроза бандитов! Целый день ждем…
– Что ж ты это, Тихон? – вместо приветствия закричал Кныш, иронично изгибая бровь. – А мы газуем на первой скорости. Дорогой бензин палим!
– Ну, братцы, – подхватил Сеня Понедельник, картинно тряхнув пшеничным чубом и сияя голубыми глазами. – Лихачи! Простого дела не сляпали!
– Катись! – коротко сказал Глоба обомлевшему Сене.
– Не обижайся, все понимаем, – сочувствующе бросил Тихону в спину Кныш.
Глоба поднялся на второй этаж. В длинном коридоре, как укор его совести, увидел распахнутую дверь камеры, в которой двое мужиков вмазывали в оконный проем новую железную решетку.
Тихон, постучав, шагнул в кабинет. Лазебник сидел за столом Соколова, а тот примостился боком на подоконнике.
– Явился?! – зарокотал грозным басом Лазебник. – Садись! Что скажешь в свое оправдание?
– Чего оправдываться, – хмуро проговорил Глоба, не отводя взгляда от полного лица замначальника губмилиции. – Прозевали.
– Какое разгильдяйство! – всплеснул руками Лазебник. – Бандиты, можно сказать, с неба упали, как подарок… И прошляпить позорнейшим образом! Уму непостижимо, о чем вы здесь думаете?!
Соколов с невозмутимым видом смотрел в окно, край его уха зарделся. Лазебник сердитым движением расстегнул крючки ворота суконной гимнастерки. Под его глазами, на отечных мешочках, проступали капельки пота. Он смахнул их кончиками пальцев, словно массировал лицо, и с ожесточением откинулся на спинку стула.
– Что я могу доложить Рагозе?! В какое вы меня ставите положение?! Еще позавчера я докладывал о поимке Павлюка… Вчера о явке Корня. Великолепно! А сегодня?! Все, мол, товарищ начальник, полетело коту под хвост! Неужели так трудно было выставить во дворе охрану?
– Не сообразили, – тихо ответил Глоба. – Думали, достаточно дежурного у камеры.
– Это же вам не два пьяных мужика, арестованных за драку в кабаке новоиспеченного нэпмана! Отъявленные бандиты! Они с чугунной цепи сорвутся!
– Виноват, – опустил голову Глоба.
– Это преступление! – зло бросил Лазебник. – И мы в этом еще разберемся! Что показало преследование?
– Следы бандитов на хуторе не обнаружены.
– Как и следовало ожидать! – перебил Лазебник, кинув на Тихона взгляд, полный пренебрежения. – И все ваша затея… Арест жены Корня за изготовление самогона, ее освобождение из камеры. Знаете, все это пахнет голым авантюризмом!
– Однако, он появился, – поколебавшись, сказал Соколов.
– А вы уж молчите, Николай Прокопьевич. С вас особый спрос! Будете объясняться с руководством губмилиции. Я вам скажу, дорогие товарищи, – Лазебник начал каждое слово припечатывать к столу ударом ладони. – Благодушествуете! Это раз! Второе – потеряли классовый нерв. Свернули с острия удара! Только надо представить – принимаете бандитские условия. И третье: видя, что государство пошло навстречу крестьянству… Отменило продразверстку… Разрешило вольную торговлю излишками… Снизило цены на промышленные товары… Глядя на вес эти мероприятия государства, вы тоже, может быть, невольно пошли на компромисс.
– Ну, это уж позвольте, – сердито возразил Соколов. – Государство не заигрывает с селом, а проводит твердую политику укрепления сельского хозяйства!
– За счет интересов рабочих! – бросил Лазебник.
– Какая глупость! – вспыхнул Соколов. – Вам же известны срочные меры восстановления железнодорожных путей сообщения. Чего стоит план электрификации России…
– Вот именно! – воскликнул Лазебник. – Грандиозные планы электрификации! С одной стороны. Со стороны промышленного пролетариата – создание гидростанций! Мощных паровозов! Новых станков. Все это за счет трудового героизма рабочих! Голодные, разутые, лишенные дров, – они поднимают революционную страну из нищеты. Но другая – большая! – сторона России: крестьянство… Оно в это время жадно обогащается. А есть и такие, что устраивают бунты, срывают посевные кампании, создают банды и уходят в леса; А вы, – голос Лазебника заиграл металлом, – в таком для нас суровом положении ведете с одним из самых жестоких главарей личные переговоры, идете на его условия и оказываетесь в дураках, на смех и издевательство всего губернского крестьянства. Вот так представители закона!
Соколов слез с подоконника и медленно прошелся по кабинету, сунув пальцы за поясной ремень. Искоса посмотрел на Лазебника, который сидел на стуле, откинувшись к стене, устало прикрыв глаза.
– Не понимаю вас, – начал он и поморщился, увидев каменно неподвижное лицо Глобы. – Скажите, Семен Богданович, не пытаетесь ли вы таким образом пустить черную кошку между городом и селом? Извините, пожалуйста, за такое сравнение.
– Нет, меньше всего я желаю ссорить рабочих с крестьянством. Но разная классовая зрелость налицо…
– Крестьянство – не одна идиллическая семья под общей крышей, – пожал плечами Соколов.
– Потом разберемся. Цель партии – всемирное братство. Сначала все старое разломаем. Пройдем через голод, жертвы и кровавые ошибки…
– Таким путем мы бандитизм не изживем, – усмехнулся Глоба.
Лазебник замер на полуслове, неприятно пораженный тем, что его перебили, с недоумением посмотрел на Тихона:
– Как понимать?
– А вот снова раздуть пожар можно, – продолжал Глоба – Бедный крестьянин только на ноги становится. Ему бы помочь мануфактурой, солью. Он за это город накормит вдосталь.
– Это не позиция революционера, – холодно проговорил Лазебник.
– Надо смотреть выше живота.
– Да живот-то чей? – с горечью сказал Соколов. – Наших стариков и детишек, мужиков да баб…
– Ваш нэп развратит их! – вырвалось у Лазебника, и он даже побледнел.
– В чем же спасение?
– Только в жестком военном коммунизме! Единый вооруженный лагерь!
– А если иначе? – бросил Соколов на Лазебника пронзительный взгляд. – Мирное строительство социализма.
– Тысячи километров сплошной границы с империализмом… Растерзают! – резко сказал Лазебник.
– Живем… Какой уж год.
– Или поглотит нас мелкобуржуазная стихия! Сколько поблажек сделано крестьянству. Попробуй теперь их вырвать у него.
– А зачем! – удивился Соколов. – В наших планах сделать его жизнь лучше.
– Хотел бы и я так думать, – хмуро вздохнул Лазебник и поднял глаза на Глобу. – В свете обрисованного положения ваш поступок выглядит служебным преступлением. У меня нет прав уволить вас с работы из органов. А то, что вам нельзя доверить уездный уголовный розыск, – это я прекрасно понимаю. Я поехал. Николай Прокопьевич.
– Не поужинаете? – спросил Соколов.
– Кусок в горло не полезет, – усмехнулся Лазебник. Глоба, уже не слушая их разговора, вышел из кабинета. Он спустился во двор, присел на завалинку, невидяще вытащил папиросу из пачки, протянутой Кнышом.
– Э, дружок, – сказал Замесов, поддергивая на коленях стрелки тщательно выглаженных твидовых брюк. – На тебе лица нет.
– Дыши носом, – подмигнул Кныш. – Подумаешь, горе – бандит смылся, да их на нашу долю хватит, вот до сих пор, – он чиркнул пальцем по горлу.
– На то мы и сыщики, чтобы их ловить, – ободряюще проговорил Сеня Понедельник.
– Вам ловить, – усмехнулся Глоба серыми губами, – а я это дело завязываю.
– Весьма опрометчивое решение, – неодобрительно буркнул Замесов, попыхивая английской трубкой.
Лазебник показался в дверях, посмотрел на темнеющее небо и бодрым голосом прокричал:
– По коням, молодцы! Заводи американца!
Шофер, весь в кожаном, пошел за ворота и оттуда донесся рокот фордовского мотора. Сотрудники попрощались за руку с Глобой, кивнули всем остающимся, гуськом зашагали к машине.
– Вот так и действуйте, – подводя итог разговору в кабинете, сказал Лазебник Соколову уверенным тоном. – И все будет отлично. Надейтесь на мою помощь. Звоните, не стесняясь. Общие радости, одни для всех огорчения. Желаю успехов.
Он направился к воротам, огибая лужи.
– Проводим? – спросил Глобу Соколов. Тот лишь отрицательно мотнул головой и направился к флигелю, у крыльца которого уже давно, еще из окна кабинета видел, горестно стояла Маняша, непривычно для Тихона, совсем по-бабьи, подперев щеку ладонью.
Она платком вытерла его потное лицо, покрытое разводами мокрой пыли, сняла фуражку и, встав на цыпочки, пальцами расчесала слежавшиеся волосы. За воротами резко просигналила сирена, и звук мотора начал удаляться. Соколов вернулся во двор и сказал Глобе:
– Я ожидал чего угодно – только не этого.
– Надоело, устал, – пробормотал Тихон.
– Не разводи антимоний! – сердито оборвал Соколов и, взяв его за ремень маузера, притянул к себе. Глядя снизу вверх по стариковски запавшими глазами, торопливо заговорил – А ты тоже не будь гонористым. Ведь упустили Корня? А Павлюка?! Начальство у нас отходчивое. Полае, полае и успокоится. Ему влетит не меньше, чем нам с тобой.
– О чем вы говорите, Николай Прокопьевич? – сказала Маня, которая до этого словно бы и не прислушивалась, а только со страданием глядела на посеревшее лицо мужа.
– Я сам поеду в город, – перебил ее Соколов. – Поговорю с самим товарищем Рагозой!
– Налей воды… Грязный с ног до головы, – вяло проговорил Глоба и начал расстегивать крючки гимнастерки. Нехорошая – с обидой – усмешка тронула его потрескавшиеся губы. – Не надо никуда ходить. Только вот что – я и рядовым милиционером того Корня возьму. Никуда он от меня не уйдет. В лесу он. Вот зима начнется… Там посмотрим кто кого…
Глоба опустился на крыльцо, грузно просевшее под тяжестью его тела, начал снимать сапоги, покрытые заскорузлой землей проселочных дорог, – зацепит шпорой за край ступени и выдернет из голенища ногу, обернутую пропотевшей портянкой. Осторожно, словно бинт на ране, развернул портянку – ступни были красными, разопревшими, с белыми надавлинами, похожими на шрамы.
– Отмахали километров семьдесят. И верхами и пехом, – пробормотал Глоба. – У Черного леса обстреляли нас из обрезов. Чистое поле… Куда денешься?
– Да, теперь его голыми руками не возьмешь, – вздохнул Соколов. – Погуляет по селам… Но ведь нам с тобой их ловить?
Глоба не ответил, он смотрел, как, молодо прогибаясь, женщина поднимает ведро из колодца – вот поставила деревянную циберку на деревянный сруб, вода плеснула ей под ноги, она чуть вскрикнула, отступила на шаг, затем, подхватив дужку, наклонила бадейку, и литой поток ухнул в жестяное ведро, взорвавшись бесшумными каплями. А поверх забора, между темными купами деревьев, небо пылало алым закатом, предвещая завтрашний ветер.
– Мне чем с начальством ссориться, – продолжал Соколов, с беспомощным видом стоя перед крыльцом, – лучше еще раз в штыковую атаку сходить. Налетит, поднимет трамтарарам… Голова кругом! А чего проще: прикажи, коль ты такой руководящий, поймать бандюгу – и кровь из носу!
– Ловы витра в поли, – нехотя ответил Глоба.
– А все ж таки какая-то надежда есть, – задумчиво проговорил Соколов, он присел на ступеньку и начал медленно набивать коротенькую трубку крупно нарезанным табаком, просыпая его сквозь пальцы. – Интересно, зачем Корень явился к нам собственной персоной?
– Жену выручать, – Глоба снял через голову гимнастерку, стал заворачивать рукава бязевой рубашки.
– Во! – обрадовался Соколов. – Значит, любит свою жинку. Видать, что-то в нем человеческое сохранилось.
– Знал, что выкрутится, собака, – выругался Глоба, подставляя ладони под край наклоненного ведра.
– Э-э, – протянул Соколов, – не говори, парень. Ты еще молод, не знаешь, як жизнь человека меняет. Ради жинки Корень пошел на смерть. Ведь ему, по правде, пощады не ждать – грехов больше чем предостаточно. А он говорит: «Ее освободите, а меня берите с потрохами!» И тебе на слово поверил… По-человечески. На прежнего Корня непохоже.
– Любовь чего не сделает, – пробормотала Маня, забыв плеснуть воды в подставленные ладони мужа.
Глоба вскинул на нее глаза:
– И ты о том же?! Какая у него может быть любовь? Он столько людей лишил жизни! Детей! Женщин!
– И все-таки, – перебил Соколов, – ты с ним вел переговоры. Значит, с ним можно разговаривать по-человечески!
– Но зачем?! – Глоба гневно фыркнул, схватил чистое полотенце и начал яростно растирать лицо.
– Может, он добровольно сдастся властям? – неуверенно, сказал Соколов. – Хватит, погулял – и край. Пора сдаваться на милость победителя.
– А мы его… – недобро усмехнулся Глоба.
– Кто знает, – качнул головой Соколов. – Суд покажет Смягчающие обстоятельства… А то вдруг амнистия… Все есть какая надежда. А не выйдет без оружия – верная смерть. От должен соображать, не такой дурень. Вот и предложить бы ему эти два решения.
– Ну ты даешь, Николай Прокопьевич! – Глоба так и замер с гимнастеркой, полунатянутой на плечи. – Такое придумать…
– А что, краще пусть он по лесам гуляет?! Людей безвинных губит?! Корень если начнет… Ему в зверстве удержу не будет! – Соколов взволнованно зачертил по воздуху мундштуком трубки. – Но кто это сделает? Как это сделать? Корень хитер, не всякому поверит.
– У меня с ним может быть только один разговор, – Глоба, кивнул на маузер, висящий на гвозде. Он одернул гимнастерку, взял сапоги за холстяные ушки и вытер ноги о простеленную на крыльце мокрую тряпку. – Мне такой разговор, Никола Прокопьевич, не по душе. Давайте о чем-нибудь другом.
– Заходите борща моего попробовать, – предложила Маня, но Соколов отмахнулся трубкой.
– Не буду мешать… Вечеряйте сами. Сегодня очень устал. Спокойной ночи.
И пошел через двор, на ту сторону дороги, где жил вместе с женой в хатенке, покрытой соломой.
Ночью Маня долго не засыпала, прижавшись к Тихону, она все шептала ему на ухо чуть слышным голосом:
– Ты не расстраивайся, пожалуйста. У кого не бывает неприятностей? Пусть поищут таких, как ты… Вернемся в город, будешь работать на заводе. Мы своего пацаненка вырастим и отдадим в заводскую школу. Каменное здание, большие окна. Никто на тебя не имеет права повышать тон. Подумаешь, начальник! Лазебника все знают – любит покричать. Уедем – и у меня на сердце станет легче.
Глоба уже засыпал, плыл куда-то в этом убаюкивающем голосе, когда вдруг услышал легкий стук в окно. Он открыл глаза – руки Мани сжались на его шее. Стук повторился, и Тихон, медленно разведя ее сцепленные пальцы, поднялся с кровати и подошел к двери. Осторожно приоткрыл.
– Кто там?
– Цэ я, – раздался голос Соколова.
Глоба в одном белье вышел в ночь на крыльцо. В темноте с трудом различил оседланную лошадь и одетого в длиннополую шинель начальника милиции.
– Слухай меня внимательно, – проговорил Соколов, – времени нет! Ты знаешь Сидоренко, що у яра живет?
– Да, – коротко ответил Глоба. – Есть за ним кое-какие грехи. Но поймать не можем.
– Еще поймаешь, – усмехнулся Соколов. – Я его добрэ знаю щэ по старым дилам. Он с Корнем дружил. Теперь он согласен свести меня с атаманом.
– Да что вы, ей богу, придумали! – не выдержал Глоба. – Кому верите?!
– Молчи и слушай, – перебил Соколов. – Корень приходил к Сидоренко. Звал его к себе. Указал место, где они могут повстречаться снова. Пароль дал к своим людям в селе.
– Я протестую против вашей поездки, – решительно сказал Глоба.
– То ты по молодости, – тихо засмеялся Соколов. – Если мы Корня склоним к добровольной сдаче… Скольким людям життя сохраним!
– Тогда я еду с вами!
– Не надо, он побоится ловушки. А нам надо спешить, пока он грехов не натворил, тогда будет поздно.
– О чем можно с ним говорить?! – с отчаянием вырвалось у Глобы.
– Предложу ему два варианта. В первом у него все-таки какой-то шанс на жизнь.
– Он вас живым назад не отпустит.
– Сидоренко оставляет в городе жену с двумя детьми.
– За что ж он так вас любит, этот Сидоренко? – ядовито спросил Глоба.
– Тоже ищет прощения, – проговорил Соколов. – Старый уже, осознал.
– И куда вы сейчас?
– К Волчьей Яме… Через село Водяное.
– Когда ожидать обратно?
– Завтра к вечеру. Дорога не близкая. До свидания, Тихон. Не нервничай. Все будет хорошо.
Соколов вывел оседланную лошадь со двора, прикрыл за собой ворота. Долго в гулкой тишине не затухали шлепающие звуки сильных лошадиных ног о лужи. Глоба неподвижно стоял на крыльце, лицом прислонившись к холодному столбу. Усадьба дышала сырой глиной и гнилой соломой. Босые ноги совсем закоченели на ледяных досках крыльца. Тихон не уходил, век слушал, как затихают звуки конских копыт.
Наконец отшатнулся от столба и осторожно вошел в комнату. Стараясь не шуметь, опустился на кровать. Сонный голос жены спросил:
– Кто? Так поздно…
Глоба только и мог ответить, ладонью прикрыв глаза;
– Дела, Маняша, дела. Ты спи…
Она положила руку ему на грудь, и он постарался успокоить дыхание, чтобы ей даже во сне не передалось его волнение, возникшее при расставании с Соколовым. Многое она не знала о своем муже и знать ей не надо было, особенно теперь, когда в ней таинственно зреет новая жизнь.
Он осторожно поднялся и снова вышел на крыльцо. Долго курил, глядя на небо, которое никак не хотело менять свои антрацитовую черноту, лишь где-то, на страшной высоте, туманно роилась мельчайшая звездная пыль.
…Тогда, несколько лет назад, под Глобой пала загнанная лошадь. Он шел, утопая в сугробах, мокрый от пота, с заледенелымы волосами – ветер унес в темноту ушанку из собачьего меха. Силы оставляли его, – падая, долго лежал, ничего не видя, дышал как та загнанная кобыла, которую покинул в лесу с вытянутой мордой на снегу, – ее засыпало быстро, когда уходил, над белой дымящейся дюной только полоса хребта чернела.
Позади остался бандитский лагерь – затерявшиеся в лесу вгрузшие в землю шалаши и землянки. В эту ночь ветер рвал из труб снопы искр, а когда распахивались дощатые двери – в мелькании мутного света можно было увидеть движение теней, услышать песни, хохот, крики…
Тихона встретили конники отряда по борьбе с бандитизмом, они привели его к своему командиру – Соколову Николаю Прокопьевичу. Сидя на лавке перед керосиновой лампой, Глоба пытался найти нужные слова, чтобы объясниться с этим человеком в кавалерийской шинели, но мысли путались.
– Да он зовсим хворый, – сказал командир, глядя на горящее лицо паренька. – А ну ложись спать… Утром все расскажешь…
И все же Тихон нашел в себе силы снять с правой ноги заледенелый сапог, из-под стельки достал удостоверение Чека – клочок шелковой тряпки с фиолетовым оттиском печати и полустертыми буквами – пропотевшая, грязная тряпица легла на ладонь командира. Соколов все понял, встал из-за стола, шагнул к телефону, долго крутил с ожесточением гнутую ручку, потом сунул трубку Глобе, приказал:
– Говори!
Возле уха, в холодном кругляше телефона забился далекий, но такой знакомый голос Рагозы:
– Молодец! Век не забудем… Теперь все расскажи командиру. И отдыхай. Ты болен? Завтра мы тебя положим в больницу. Спасибо, Тихон.
Утром Глобу на санях в сопровождении двух кавалеристов отправили в город. Только потом, после выздоровления, он узнал о полном разгроме банды Корня. Несколько верст гнал красном Соколов атамана по снежной целине среди деревьев. Они стреляли друг в друга, несколько раз казалось, что кони отряда настигнут бандитов, но те слишком хорошо знали свои тайные тропы – ушли в бурелом Волчьей Ямы, затаились в непроходимой чаще, а как только потеплело, разбрелись по селам. Шайка перестала существовать. Однако где-то в чужедальней стороне жил эти годы спасшийся батько, а в селе Смирновка затаился тот, кто кормил и укрывал бандитов, – Павлюк… А сколько их еще прячется по хуторам, ожидая появления нового Корня? У скольких еще закопаны под яблонями хорошо смазанные и обернутые в мешковины «куцаки», а под соломенной стрехой хаты на всякий случай висит котомка с добрым шматом сала в ладонь толщиной, парой луковиц и сухой лепешкой?
Думал ли тогда Тихон, что судьба опять сведет его с тем командиром, который станет его начальником, и он, Глоба, будет глубокой ночью сидеть на холодном крыльце в одном белье, дымить самокруткой и тревожно вслушиваться в мертвую тишину спящего городишка?
Как медленно встает рассвет… Вот на востоке кто-то, словно нехотя, принялся смывать с купола неба закопченный слой – помутнели края, тускло забрезжили, потом все небо стало наливаться силой, окрепло и пролилось за горизонт алой полосой.
Уже одетый, подпоясанный, в туго надвинутой на лоб милицейской фуражке, Глоба вскочил в седло и, разбирая поводья, скомандовал двум подчиненным:
– По коням, ребята…
Они некрупным шагом миновали ворота и легкой рысья поскакали по пустынной дороге. У водоразборных колонок и колодцев уже гремели ведрами рано поднимающиеся хозяйки, по обочинам там и тут гнали на прибрежный луг скотину заспанные мальчишки. Устоявшиеся за ночь лужи были прозрачны, на них лежали намокшие листья.
На окраине города всадники свернули к оврагу и остановились около небольшой хаты. Перегнувшись через забор, Глоба негромко позвал хозяйку. На крыльцо вышла старая женщина. В подслеповатом окошке показались лица детей.
– Где Сидоренко? – спросил Глоба, поздоровавшись.
– Поехал в ночь, – с беспокойством проговорила женщина, пристально вглядываясь в милиционера. – Может, с ним случилось что? Вы скажите, ради бога… Поехал с вашим начальником…
– Нет, все в порядке, – ответил Глоба, разворачивая лошадь. – Я просто хотел узнать… До свидания.
Итак, бывший бандит, помилованный по амнистии, сегодня ночью отбыл вместе с начальником уездной милиции в сторону Волчьей Ямы. Со стороны Сидоренко ловушки быть не может – семья осталась в городе. Дорога к лесу одна – Глобе ли не знать ее? По ней он шел в банду, возвращался назад…
Долго качались они в седлах, устало опустив головы на грудь, пряча глаза от слепящего солнца. Узкая дорога петляла между косогорами, выводила на голые бугры. Под копытами лошадей мягко чавкала раскисшая глина, комьями отваливался подсохший чернозем, шуршал слежавшийся песок…
К полудню всадники увидели село Пятихатки, было оно убогое, с криво поставленными дворами. На лай собак начали выходить люди, вездесущие мальчишки заскакали перед лошадиными мордами, цеплялись за отполированные подошвами стремена.
– Здоров, дядько Иван, – весело проговорил Глоба, узнавая среди кучкой стоящих мужиков своего знакомого.
– Здоров, – ответил пожилой крестьянин, помогая милиционеру слезть с лошади.
– А что такой грустный, дядько Иван? – засмеялся Глоба. – Дети здоровы? Жена не хворает?
– Да все в порядке, – вздохнул крестьянин.
– Чего ж ты такой хмурый?
– А вести такие, – отмахнулся он горестно.
– Что-то я тебя не возьму в толк…
– А сегодня поутру на соседние Дворики банда напала, – ответил крестьянин. – Председателя сельрады и еще двух постреляли прямо в хатах. Все дочиста забрали и с лошадьми – гайда в лес.
– И что же то были за люди? – тихо спросил Глоба.
– Та, мабуть, банда Корня, – с неохотой проговорил кто-то из крестьян. – Видели его. Их пятеро, все с куцаками.
– И когда это было? – с затаенной надеждой спросил Глоба.
– Та еще солнце только начало подниматься…
Глоба торопливо распрощался, и всадники свернули на тропу, ведущую сквозь березовую рощу. Большие, в обхват, стволы, забронированные потрескавшейся корой, светились под осенним солнцем.
Они спешили, Глоба то и дело оглядывался на отстающих – у них были кони похуже, подгонял их призывными взмахами руки с болтавшейся на запястье ременной плетью.
Он уже понимал, что они опоздали, но чувство отчаяния толкало его вперед, он не хотел думать, что для встречи с бандой их не так много и, если не устроят засаду, то трех карабинов и одного маузера будет недостаточно, чтобы отбиться… А если с ходу налетят на пули… И все-таки гнал и гнал лошадь, подстегивая на подъемах – не видел пены на железных удилах, не слышал её усталого храпа. Он надеялся на чудо, на неимоверный счастливый случай, в конце концов, на удачу.
Кони вымахали из березняка на проселочную дорогу, земля ее была непримята, без следов от подвод. Поскакали вперед, почти касаясь коленями друг друга, приподнимаясь в седлах, пристально глядели в даль уходящей дороги. Темный лес – Волчья Яма – уже виднелся на горизонте острыми зазубринами.
– Слева… Под корявой сосной, – проговорил один из всадников.
И Глоба тоже увидел под тенью раскидистой сосны телегу и лошадь.
Они ударили шпорами по жарким бокам, в нетерпении поддернули поводья.
– Ги-и! Ги-и! – по-казачьи гикнул милиционер, вырываясь наперед и на скаку ловко сбрасывая из-за плечей короткий карабин.
Худая кобыла равнодушно щипала редкую траву, с хрустом выдергивая ее из песчаной почвы, усеянной сухими иголками и расклеванными шишками. В телеге, связанные спинами, полуобвиснув на веревках, сидели двое. Оба были залиты кровью, с выколотыми глазами. В обезображенном болью лице Соколова трудно было признать знакомые черты – оно стало, меньше, словно муки иссушили его, зубы намертво прикусили нижнюю губу.
Глоба в молчании разрезал ножом веревку, выпутал из нее; тело своего начальника и осторожно положил на дно телеги! Из судорожно сжатых пальцев вынул втиснутый в кулак клочок бумаги. На нем корявым почерком были выведены слова: «З комуністами розмовляю тільки так!! Батько Корінь».
Вторым убитым оказался Сидоренко – пожилой человек, обросший седыми волосами. Из его рта, раскрытого в безмолвном крике, торчала смятая бумага. Глоба взял ее в руки и разгладил на ладони. Теми же неуклюжими буквами было написано: «Зрадникам i відступникам – перший ніж».
Глоба привязал повод своей лошади к задку телеги, поднял вожжи и вывел кобылу на дорогу. Сам зашагал по обочине, цепляясь шпорами за жесткую траву. Колеса попадали в рытвины, с бряканьем переезжали толстенные корни, торчащие из почвы. При каждом таком ударе головы убитых стучали о доски.








