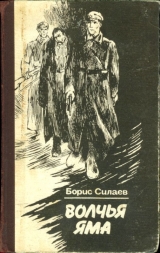
Текст книги "Обязан жить. Волчья яма
Повести"
Автор книги: Борис Силаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Глава 20
Раскрыв над головой летний зонтик, Наташа медленно шла по солнцепеку пустынной улицей.
– Мадемуазель Натали! – закричал поручик и, перебежав дорогу, зашагал рядом. – Какая неожиданная встреча, не правда ли? Разрешите мне вас немного проводить?
– Пожалуйста, поручик, если вам будет не скучно.
– Я достаточно веселый человек, да и новости, кажется, у меня не из плохих. Папа уже дома?
– Представьте, открывается утром дверь, и он входит, – счастливо проговорила Наташа, – живой, здоровый…
– Целый и невредимый, – засмеялся Фиолетов. – Я выполняю свои обещания. Кстати, освободить его было очень нелегко. Мне грозили неприятности…
– Но вы пренебрегли ими, – мило улыбнулась Наташа, – и показали себя с рыцарской стороны… Я очень вам благодарна.
– Пустяки, – беззаботно махнул рукой поручик. – У вас прекрасный папа. Я с ним беседовал. Он так беспокоился о дочке…
– Необоснованные волнения, – бросила Наташа. – Что делать? Старый человек…
– Не говорите так, – поручик мягко взял ее за локоть. – Разрешите? Ваши странные знакомства с подозрительными людьми. Человек, который у вас живет… Это все его беспокоит!
– Какой человек? – округлила глаза Наташа. – Боже, о чем вы, поручик?
– Ну, ну, полноте, – успокоил ее Фиолетов. – Просто человек… Как говорит ваш папа, имеющий на вас влияние… Возможно, большевик!
– Не пугайте, поручик, – она весело посмотрела на него.
– Даже если он большевик, то я умываю руки, – поклонился Фиолетов. – У нас их много. Их фотографии могли бы составить целый альбом. Но это пустяки. На одного большевика больше или меньше – какая разница? Просто этому повезло. Есть кому о нем беспокоиться. В принципе – они такие же люди, как мы… Что их ожидает? Пуля в лоб – и в канаву.
– А разве нет возможности спасти? – спросила Наташа.
– Я думаю, у каждого из них есть родственники, близкие люди, – проговорил поручик. – Могли бы им помочь.
– Вот как? – помедлив, сказала Наташа. – Это ужасно, что люди в таком положении. В конце концов, долг каждого христианина – в милосердии. Может быть, надо найти этих родственников?
– Боюсь, – грустно сказал Фиолетов, – что им будет не под силу выкуп арестованных. Сейчас все покупается, к сожалению…
– Очень дорого? – обернулась к нему Наташа.
– Да, – кивнул он головой. – Весьма… По восемь тысяч за снимок… И то не деньгами, а валютой в металле.
– Золотом?
– Да, – поручик развел руками. – Что поделаешь? Фронт приближается. Через неделю красные будут здесь. Возможно, кому-нибудь из наших придется уехать. Ну, к примеру, в Париж. Бумажками они не возьмут. Мне почему-то кажется, что от вас зависит жизнь многих людей. Можете обратиться к своему квартиранту. Мне безразлично, кто он. Я беру на себя посредничество только из чувства сострадания. Слово офицера.
Поручик положил свою руку на ее ладонь, затянутую в перчатку.
– Советую сделать это сегодня… ночью. Часов в двенадцать. Пусть ваш квартирант зайдет ко мне и скажет, допустим, одно только слово: «Париж»…
– Париж, – грустно повторила Наташа.
– Предупредите, пожалуйста, родственников. Мне безразлично, кого вы пошлете ко мне, – Фиолетов шутливо наморщил лоб, – но моя квартира будет охраняться. Я сам буду увешан оружием с ног до головы, как черкес. До свидания, мадемуазель Натали. Целую ручки.
Он козырнул и пошел дальше, а Наташа, постояв, вернулась домой.
– Вот как? – сказал Андрей, выслушав ее. – Что ж, значит, припекло. Это не похоже на смелость. Отчаяние…
– Но где достать столько денег?
– Что напрасно волноваться? У нас их нет.
– Он ждет сегодня!
– Ну что ж. Я приду, – усмехнулся Андрей. Наташа без слов обняла его.
Он вышел на улицу и остановил извозчика.
– Гостиница «Палас»! Живо.
Миновав дежурного офицера, Андрей поднялся на второй этаж. Он решительным шагом направился в приемную полковника.
– Мне срочно нужен господин Пясецкий, – сказал Андрей адъютанту.
Тот пожал плечами.
– Полковник занят.
– Дело касается его жизни, – твердо сказал Андрей.
Через минуту адъютант вернулся из кабинета и небрежно бросил:
– Войдите!
Полковник на чистом носовом платке разбирал наган, протирая его части фланелевой тряпочкой. Делал он это тщательно. Прищурившись, глядел в сверкающее нарезное дуло, направив его на солнце в окно.
– В чем дело? – неприветливо спросил он.
– Господин полковник, – отчеканил Андрей, стоя перед столом навытяжку. – Есть доказательства: вас хотят обдурить.
Пясецкий метнул на Андрея быстрый взгляд и показал на стул:
– Садитесь. Что вы имеете в виду?
Глава 21
Поручик сидел за столом у себя дома, положив руки на переплет альбома. Справа под бумагами он спрятал наган. Все было готово к встрече – опущены тяжелые шторы на окнах, в вестибюле расставлены часовые. Двое из них сидели на ступенях крыльца – их можно было заметить, если, заслонившись ладонями от света, прижаться к стеклу. И все-таки он волновался – еще и еще раз мысленно проверял поступок, который хотел совершить. У него было время передумать. Мог арестовать гостя, как только тот переступит порог. Стоит поднять трубку и сообщить полковнику об альбоме, и обеспечена благодарность по службе и следующий офицерский чин… Но он знал, что так не поступит. Теперь уже деньги ему нужны не для того, чтобы откупиться от воров-интендантов.
Он слишком долго был соучастником этого безнадежного предприятия – попытки реставрации прошлого в безумном настоящем. Теперь будущее приобретало интерес, поскольку появилась возможность играть в нем роль хотя бы простого свидетеля. Живого, с плотью и теплой кровью… Теперь он глубоко презирал все фетиши, придуманные людьми для оправдания своего рабского повиновения авторитетам. Чины, благодарности, ордена, истинная цена которым равна стоимости железки, не могли возместить напрасно прожитые годы, брошенные под ноги нелепым, безнадежным идеям.
Пройдет еще десять, пятнадцать дней, и тугая линия фронта лопнет, как перетянутая тетива лука. Полки покатятся вспять, растаптывая свои обозы, теряя генералов и забывая хоронить умерших от ран. Сорванные золотые погоны будут валяться на пыльных обочинах дорог… И лишь самые сильные выживут – в ржавых корытах океанских кораблей они поплывут к обетованным берегам. В Париж, как сказал он Натали. Назад пути нет! До развязки осталось несколько минут…
Поручик услышал шаги на лестнице. Он посмотрел на дверь немигающими глазами. Рука его легла на пистолет.
Дверь открылась, и в проеме выросла фигура полковника.
– Господин поручик, – тихо произнес он. – Вы арестованы!
Фиолетов медленно поднялся из-за стола.
– Я не понимаю, полковник! Здесь какое-то недоразумение.
– Вы арестованы, как изменник родины… Как жалкий предатель интересов России.
– Я требую объяснения! – воскликнул гневно поручик.
– Я обвиняю вас в том, что вы вошли в гнусный сговор с врагами отечества…
– Доказательства, полковник!
– …Скрыли от разведки агентуру противника! За спиной высшего начальства вступили в переговоры, которые подрывают силу и мощь армии, и тем самым нарушили военную присягу офицера!
– Прекратите, полковник, этот театр! Мне нужны доказательства!
– Они будут, поручик, – Пясецкий поворачивается к двери. – Войдите!
В комнату, испуганно сжавшись, вошел Неудачник.
– Черт! – вырвалось у Фиолетова. – Каким манером?
– Я задержал исполнение приговора. – Пясецкий вытянул руку в сторону поручика. – Альбом у него?
– Да, – прошептал Неудачник.
– Вы сами ему отдали?
– Да.
– Нет! – взорвался Фиолетов. – Ложь!! Он арестован как опасный уголовник!
– Вы хотели избавиться от свидетеля, поручик. Альбом у вас. Он лежит на столе.
– Альбом? Да… Он здесь, – Фиолетов попытался взять себя в руки. – Полковник, согласитесь, его находка стоила этой сложной интриги… Теперь мы можем объясниться, и вы поймете. Я торжественно передаю вам сей неоценимый клад!
– Цена известна, поручик, – презрительно бросил Пясецкий. – Вы назвали ее, пытаясь продать альбом большевикам! Россия еще не оскудела верноподданными героями…
– Врете! – с ненавистью закричал Фиолетов. – Врете, как бессовестный, грязный пес!!
Полковник распахнул двери.
– Войдите!
Андрей переступил порог комнаты.
– Сегодня утром поручик Фиолетов предлагал альбом моей невесте. – спокойно сказал Андрей и замолчал.
– Даром? Просто так?
– За золото, господин полковник.
– Так это заговор? – ужаснулся поручик и отступил на шаг от стола. – Сплошной обман…
– Господин поручик… – тяжело проговорил полковник. – У вас в столе лежат золотые часы Лещинского. Как они к вам попали?
– Клянусь… Первый раз слышу, – зашептал поручик и провел ладонью по лицу.
– Часы на стол! – приказал Пясецкий. – Ну?!
Фиолетов послушно сунул руку в карман и достал часы. Они со стуком выпали из его вялых пальцев.
Полковник смерил поручика с ног до головы холодным взглядом и повернулся к дверям.
– Охрана! – позвал он.
– Будьте же вы прокляты все! – хрипло сказал Фиолетов и, поднеся наган к виску, нажал курок. Раздался негромкий, лопающийся звук. Фиолетов упал на подогнувшихся коленях, лицом в ковер.
– Презренная смерть… – сухо произнес полковник и, подойдя к столу, взял альбом. – Едем! Нам тут больше делать нечего!
Они спустились с лестницы, и на крыльце полковник бросил охране:
– Благодарю за службу!
Он сошел по ступеням и сел в открытую легковую машину рядом с шофером. На заднем сиденье устроились Неудачник и Андрей.
– Трогай, в «Палас», – устало сказал Пясецкий и обернулся: – Вы ловко все это обставили, Блондин. Я в душе не верил. Особенно хорошо с часами… Относительно невесты… Почему поручик обратился именно к ней?
– Не могу знать, господин полковник, – ответил Андрей. – Наверно, ресторанное знакомство…
– Ничего… Мы разберемся, – пообещал Пясецкий.
Машина мягко покачивалась на булыжниках. Одинокие фонари проплывали стороной, почти не давая света, и улицы лежали темные и пустынные.
Кажется, здесь… Да, здесь… Еще поворот и… Андрей сунул руку в карман пиджака, медленно достал наган. Он приставил его к спине полковника и тихо произнес, вдавив тонкое дуло между худыми лопатками:
– Не двигаться, полковник.

– Что?! – взревел тот и рванулся вбок. Шофер крутнул руль, и машина, ударившись об угол дома, накренилась, застыла. Завопив, Неудачник прыгнул через дверцу. Андрей упал на сиденье. Полковник выстрелил в него через плечо. Раз. Другой. Отшвырнув потерявшего сознание шофера, у которого кровь заливала лицо, он выбрался из покореженного железа и побежал по улице, оборачиваясь, то и дело вскидывая наган, чтобы выстрелить. Другой рукой Пясецкий прижимал альбом. Вдруг он метнулся к парадному входу, забарабнил в дверь кулаками.
– Откройте-е!!
Собрав все силы, не пригибаясь, Андрей бросился к нему. В домах кое-где вспыхнули огни. На балконах послышались испуганные голоса.
Пясецкий увидел Андрея и поднял наган. Гулко выхлестнуло пламя. Ударило в плечо. Андрей споткнулся и, падая, нажал на курок. Полковник рухнул с крыльца. Андрей поднялся на ноги и, чувствуя, как они дрожат и подгибаются, побежал к дому. В остановившихся глазах полковника было мучение. Он умирал.
Андрей поднял альбом. На соседней улице вспыхнули выстрелы.
– Назад! – закричал кто-то.
Дружеские руки подхватили Андрея и потащили в глубину проходного двора. Теряя сознание, Андрей узнал лицо Тучи.
В переулке осталась искореженная машина. Языки огня уже лизали помятое железо. Вот вспыхнула мягкая обивка. Грохнул, вскинув в темноту снопы искр, взорвавшийся бензобак. Светящиеся обломки разлетались по мостовой. Остов «форда» горел жарко, с треском и шипением. Пламя металось, и в каждом окне черных домов горел отсвет пожара.
Через несколько дней, 25 сентября 1919 года, в городе вспыхнуло вооруженное восстание. Рабочие отряды заняли вокзал, почту, осадили «Палас». Колонны шли с заводских окраин к центру, завалами баррикад отсекая белым войскам дороги к отступлению. Ветер с севера уже доносил артиллерийскую канонаду и дым горящих лесов…
Шел второй год гражданской войны.
ВОЛЧЬЯ ЯМА

I часть
Глоба въехал в ворота губмилиции, медленно слез с линейки, замотал вожжи за обгрызанное зубами лошадей бревно коновязи. Затем, ставя поочередно ноги на ступень каменного крыльца, щепкой начал тщательно срезать налипшую грязь с добротной, пропитанной дегтем кожи яловых сапог. Подтянул высокие, по колени, голенища, выпрямился, откинув привычным движением болтающуюся у бедра деревянную кобуру маузера, и повел глазами по двору – из конюшни конного резерва слышались сердитые окрики и перестук копыт, под навесом гонтовой крыши сидело несколько милиционеров и дымило самокрутками, поплевывая в лужу, пузырящуюся от дождя. Землю вокруг словно перекопали – ее размесили колеса подвод и автомашин. Здание двухэтажного особняка, когда-то покрашенное в желтый цвет, сейчас было изъязвлено ранами от отпавшей штукатурки, красный старинный кирпич, хорошего обжига, кровянел в этих неровных пятнах. Часовой брел вдоль стены, закинув винтовку за спину и подняв воротник серой шинели, его раскисшие ботинки скользили по тропке. На балконах, обнесенных коваными решетками, мокли поломанные шкафы и кресла без спинок.
Тихон Глоба не отметил ничего нового – месяц его тут не было, а все осталось без изменения. Дождь смыл дворовые запахи лошадиной мочи и натрушенного у коновязи сена, свежести травы, растущей под забором, и сейчас воздух пах гнилым деревом и дымом – где-то тлел костер.
Глоба чуть насупился и потянул на себя тяжеленную дверь в медных головках гвоздей. Он простучал подошвами сапог по широкой лестнице и повернул в коридор, наполненный людьми, кто-то с ним здоровался, кого-то он узнавал сам и кивал головой или встряхивал руку, коротко стискивая железными пальцами. В отделе уголовного розыска стоял чадный дым табака. Свободные от дежурства сотрудники травили анекдоты, вспоминали что-то смешное, громко хохотали. Комната была уставлена неодинаковыми столами, старыми стульями, табуретками. Глоба снял фуражку, вытер подкладкой мокрое от дождя лицо и начал пробираться к двери кабинета заместителя начальника губмилиции. Но его уже заметили, шум попритих, послышались веселые возгласы, Тихон немного смутился, и лицо его, крупное, со слегка притуплёнными чертами, потемнело от скрытой напряженности.
– А-а! – весело закричал один из сотрудников, картинным жестом вынимая из зубов прямую английскую трубку. Он сидел на краю стола, заложив ногу за ногу, – в клетчатом костюме, с белоснежным кончиком платка, торчащего из нагрудного кармана широкого в плечах пиджака. – Привет грозе бандитов! Давненько не виделись!
– Да вот, – скупо усмехнулся Глоба, кивнув в сторону кабинета зама. – Вызвал…
– Нет, браток, тут уж я первым, – отозвался стоящий под дверью. – Мне пора на дежурство, а все не вызывает. Ты садись. Дойдет и до тебя очередь.
Он говорил беспечно, в его нагловатых глазах светилась удаль никогда не унывающего человека. Откинул бритую голову затылком к стене, бровь черную изогнул, неясная усмешка затаилась в уголках сухих губ.
– Здравствуй, Кныш, – сказал Глоба и присел на табуретку. – Как жизнь?
– Будь здоров, – хохотнул сотрудник. – Ловлю уркаганов. Вот сейчас мне Лазебник задаст взбучку.
– За что же, если не секрет? – осторожно спросил Глоба.
– А то ты его не знаешь! Ты много в этом месяце бандитов поймал?
– Ни одного, – буркнул Глоба.
– А сколько их у тебя в уезде?
– Не считал.
– Городской бандит – это особь статья, – подхватил Замесов, пыхая дымом из трубки. – Не чета селянскому. Крестьяне – народ темной стихии. Заорали, колья похватали, активистов побили – и по хатам. Там и бери их тепленькими. Ну, самые перепуганные – на коней и в лес. Лето в банде пожируют, а зима придет и зачешется мужик: холодно, жрать нечего. Опять-таки вернется домой.
– Это точно, – согласился Глоба. – Зимой их только и брать.
– А бандит городской, – продолжал Замесов, вкусно посасывая мундштук трубки, – личность примечательная. У него свой язык. Традиции. Отработанные законы. Они нашего брата с одного взгляда видят. Нюх! Глаз! и жестокость показательная – все, как говорится, для дела. Таких на пушку не возьмешь.
– То вы, ребята, правы, – качнул головой Глоба. – Наш бандит разных там тюремных слов не понимает. Или же – как сейф ковырнуть. Глупый в таком ремесле. Совсем необученный. Ему бы, сельскому, всех коммунистов перерезать да свою власть поставить.
– Ты хитрец, Глоба, – погрозил Замесов трубкой. – Вот скажи – на дворе сентябрь месяц, а вполне осенние дожди. Увидим ли мы теплые денечки? Что говорят твои мудрые старики?
– А балакают – все еще будет. И бабье лето, и дождь, и снег.
– Добро этим, из уездов, – с насмешкой сказал молоденький паренек в сатиновой косоворотке и начесанным на правую бровь пшеничным чубом. – У них, понимаешь, природа! Свежий воздух круглый год. Бандитов ловят – палят из наганов, на конях скачут. А тут из-за угла подглядываешь, под забором лежишь ночь – и ради чего? Какая-то шпана во дворе с бельевой веревки портки стянула.
– Это Сеня Понедельник, – понимающе усмехнулся Замесов. – Новенький. Пинкертоном хочет стать. Все мы были такими, а потом розыск из нас людей сделал. Как ты там живешь, в своей Тмутаракани?
– Как и все, – пожал плечами Глоба. Он равнодушно отвернулся от Замесова и потянулся к пачке папирос «Пальмира», которую открыл Кныш, ловко подрезав крышку прокуренным ногтем большого пальца. Закурил, замкнувшись в себе – молчал, глядел под ноги, глубоко затягиваясь табаком. Ему было двадцать два года, но он выглядел старше: лицо, дубленное солнцем и ветрами, и привычка смотреть пристально, без выражения, даже с какой-то холодной льдинкой в зрачках, сдвигая на лбу поперечную морщину.
Каждый раз, попадая в отдел уголовного розыска губмилиции, Глоба испытывал чувство неловкости – он приезжал сюда без особого удовольствия. Его раздражала пестрота, непохожесть этих людей друг на друга и подчеркнутая независимость, какая-то гонористость, желание выделиться жестом, словом, показать свою принадлежность к избранным, тем немногим, которых объединяло общее дело – опасное и жестокое. И разговоры их, деланно беспечные, с легкой иронией к смертельному риску, казались Глобе неестественными, словно они говорили не о своей повседневной жизни, а каждый раз что-то придумывали на ходу. Да, за этими столами с пятнами чернил и ободранным сукном сидели люди особой судьбы. Стреляные и колотые, не раз битые до полусмерти, они чуть ли не каждые сутки ходили по острию ножа, но в жизни, той, что шла за стенами особняка губмилиции, были для многих лицами мало известными. И вот только собираясь вместе, в такие редкие для них минуты отдыха, они как бы сбрасывали свои будничные одежды и представали друг перед другом в полной своей необычности.
– Как там наша Маняша? – спросил с интересом Кныш о жене Тихона, работавшей еще до недавнего времени в губмилиции секретарем.
– Нормально, – коротко ответил Глоба. Ему не хотелось сейчас говорить о ней. Они поженились недавно, и он был счастлив. – Все в порядке.
– Сегодня поутру Кольку Черта привезли, – небрежно сказал Кныш.
– А кто его взял? – спросил Глоба.
О городском бандите Черте слух шел по всей губернии. Это он, переодев свою банду в кожаные куртки, под видом чекистов, устроил в парке облаву. Те, у кого деньги, драгоценности и оружие, – влево, остальные – стоять смирно, не двигаясь. Забрали все подчистую и скрылись. На его счету грабежи и убийства.
– Ты знаешь, – продолжал Кныш, – я по его следу какой месяц шел…
Дверь кабинета открылась, и в проеме встал замначальника губмилиции Лазебник – дородный мужчина в отглаженной гимнастерке и хромовых сапогах. Увидев поднявшегося с табуретки Глобу, коротко сказал:
– Приехал? Заходи. С остальными потом, товарищи. Гостю первый почет.
Они сели за стол друг против друга, и Лазебник, достав из кармашка крошечную расческу, несколькими движениями тщательно расчесал волосы, умело забросив их на желтую лысину. Голубые глаза его изучающе посмотрели на Глобу.
«Беда с этими уездами. Бандитизм, грабежи… Мальчишки на постах начальников. Чего от них требовать? Мужицкая жизнь ступает медленно – полдня туда, полдня сюда. Вот и Глоба… Пожил с ними, взматерел. С неба звезд не хватает, но обязанности свои знает. В общем-то, кажется, немного туповатый, мало думающий, но честный малый. Культуры ему не хватает, да, но для села… В тех краях друг друга с пеленок знают. Кто ограбил, убил, ушел в банду – известно не в одной хате под соломенной стрехой. Культура ли нужна, чтобы нащупать преступника? Жесткая рука! Не одного бандита привез он сюда на своей линейке. Говорят, в уезде его побаиваются. Смелый хлопец. Душа у него холодная. О чем он думает, когда вот так пристально смотрит на тебя, первым не отводит взгляд в сторону? Мог бы перед начальством и опустить взор до долу, не велик чин…».
– Как живешь, Глоба? – раздраженный своими мыслями, спросил Лазебник и потянул к себе за угол папку, раскрыл ее на нужной странице, повел по строкам кончиком карандаша. – Руководство анализировало положение в твоем уезде. В целом, по всей губернии проходит резкий спад бандитизма. Еще три года тому назад мы видели его вспышки почти повсеместно. Кулацкие мятежи в Поволжье и Сибири, Кронштадте… У нас на Украине… Банды Махно доходили до самого Харькова. А сейчас нам дышится легче, не так ли, Глоба?
– Да, – кивнул Тихон. – После замены разверстки натуральным налогом в селах стало тише.
– Еще бы! – воскликнул Лазебник. – Теперь им жизнь! Свободный обмен хлеба, торговля излишками. Один только выпуск червонцев чего стоит – каждая десятка обеспечена чистым золотом! Того и гляди, всех крестьян до уровня кулака дотянем, – хохотнул он. – Там вышел с лукошком, побросал в землю зерна, господь бог дождичек ниспослал… И нате вам – выходи с косилкой, обмолачивай, сыпь в мешки спелое зерно, тащи его в город… Что, не так? А рабочему что делать? Завод – это тебе не поле. Заводы не работают – нет сырья! Машины старые! Заказов нет! Безработица! Кадровые рабочие по мобилизации в армии, а то и погибли в боях, расстреляны немцами, деникинцами да бандитами. В нашей губернии власть менялась четырнадцать раз! А теперь для крестьянства все – отменена трудовая повинность, даются банковские субсидии…
– Да, село нынче выправляется, – кивнул головой Тихон, – а то было совсем плохо.
– Ну, Глоба, – возмутился Лазебник, – ты меня удивил. Не единым хлебом жив человек. До мировой революции один шаг оставался. Да увеличить бы налоги на крестьян, мобилизовать их в армию от мала до стара… И светлое будущее человечества – вот, в наших руках!
– А бунты? – хмуро напомнил Глоба. – Не забыли? Что ни село, то ночами пальба… Активистов режут.
– Мягкотелы были, – оборвал Лазебник.
– Ну нет, – посуровел Глоба, – того не скажу.
– Тебе тогда было сколько? – вспыхнул Лазебник. – Восемнадцать лет. Пацан. Я помню, можно было еще поприжать. Последнее усилие – и все, сломили бы мировую контру начисто. А вместо этого мы – продналог! Да еще обещаем в ближайшее время заменить его денежным. Ты соображаешь? Деньгами! А где он, крестьянин, их возьмет? Он их наменяет за хлеб и картошку целыми кулями. Значит, опять у него денег будет больше, чем у рабочего! Вот тебе так называемый нэп!
– Рабочие везут в село ситец, гвозди, крестьянин в город – хлеб. Жить стало легче, а кто еще из бандитов остался, – тех помаленьку вылавливаем. Дайте время… Мужик недоверчив, все приглядывается к новому. Ему бандиты тоже помеха. Когда пальба да пожары – много хлеба не посеешь. Бандитов кормить надо, а жрать они любят сладко.
– Считаешь, что время само на нас сработает? – желчно спросил Лазебник. – А мы будем сидеть сложа руки? Нет, шалишь, Глоба. Мы такие дела на самотек не пустим. Расслабились на данном этапе. Расслюнявились. Видно, срослись вы с тамошними, уже смотрите на все их глазами.
– Ну, это вы бросьте, – хмуро проговорил Глоба.
– Тогда, значит, работаете спустя рукава. Не хочу быть бездоказательным. – Лазебник торопливо вынул из папки листок бумаги. – Вот твоя сводка. «Ограбление кооперативного продовольственного ларька… Преступники не найдены». Не найдены, Глоба! Читаем дальше. «Убийство селянина Курилко Ивана Федотовича, год рождения 1906… Село Пятихатки. Убийца не найден». Читать еще? Молчишь. А ведь факт вопиющий. Но этого мало. «Ударом в спину ножом убита молодая учительница Марина Сидоровна Кулик, приехавшая в село Смирновка из города по направлению наробраза». И, конечно, бандит не обнаружен. Не много ли, Глоба?
Тихон молчал, закаменев на стуле, лицо его потемнело еще больше, а губы сомкнулись в жесткую линию.
– Ты не забывай, какие у тебя корни, – уже спокойно проговорил Лазебник. – Ты из рабочих. Не беда, что был на заводе всего три года. Дед твой литейщик. Отец из клепочного цеха. И ты был там. У тебя в крови классовое сознание. Сегодня всех собирают на совещание. Иди, отдохни немного с дороги. И приготовься к выступлению, расскажешь о своих делах.
Откинувшись на спинку стула, Лазебник вдруг заулыбался, царапнув ногтями выбритую щеку. Лоб его покрылся морщинками.
– Я приеду к тебе и покажу, как надо работать. Ты это запомни. Когда-то работал в Чека, кое-что умею.
– Зимой будет легче, – сказал Глоба, поднимаясь из-за стола. – Летом в лесу никаких следов.
– Работа наша круглосуточная, – хохотнул замначгубмилиции, сразу вдруг сделавшись добродушным и веселым, словно это не он еще минуту назад гневно сверлил Глобу взглядом.
– Иди, иди, сезонник, – Лазебник благодушно засмеялся и замахал руками, прогоняя Глобу из кабинета.
Переночевав в общежитии конного резерва, выпив утром кружку чая, распрощавшись, Глоба сел на линейку и отправился домой. Отдохнувшая за ночь, сыто покормленная лошадь бежала споро, поцокивая подковами по чистому булыжнику городских улиц. Дождь все сеялся с пасмурного неба, мелкие лужи оловянно поблескивали. С тумб для объявлений свисала мокрая бумага. Прохожие спешили по тротуарам, прячась под старенькими зонтиками, подняв воротники. Бесчисленные дороги, разветвляясь, уходили за повороты, скрывались за каменными зданиями. Там и тут гремели железные жалюзи магазинов. Приказчики, встав на табуретки, протирали запотевшие стекла витрин. Возле собора толкались нищие.
Чуть подергивая вожжи, Глоба читал набегающие на него вывески и броские самодельные рекламы.
«Булочная Нефедова…», «Сенсационная новость! Радикальное средство от пота ног! Цена 90 коп. пара…», «Порошок для моментального уничтожения волос „Депилаторий“…»
Буквы кричали, прыгали, взлетали восклицательные знаки. Дождь уже подмыл краски, обнажив фанеру и тронутое ржавчиной железо. Из раскрытых окон чайной вкусно пахло горячим хлебом. За стеклами аптеки таинственно мерцали синие флаконы.
…«Миллионы людей покупают ароматические лепешки „Ричард Вердо“ для моментального производства разных наливок, настоек и коньяка прекрасного качества, вкуса и аромата. Требуйте везде! Цена 30 коп. коробка!», «Оптовая торговля сеном. Кутько», «Парижский шик! Длинн. Ожерелье, имитация цвет, камней —6 руб. Серьги —3 руб. 20 коп.!»
С того дня, как впервые увидел что-то подобное в окне первого этажа частного дома, когда долго, с чувством недоумения и какой-то обжигающей обиды глядел на расписанный от руки квадрат рекламной картонки, прошло два года – казалось, можно было бы уже привыкнуть. И все же не мог. Куда ни глянь – отовсюду на тебя смотрят позолоченные вывески, лакированные надписи, названия наливок, сыров, обуви, одежды… Новая экономическая политика. Вечерами горят фонари над входами во вновь открытые рестораны, возле подъездов синематографов начинают фланировать дамочки на высоких каблуках с горжетками из лисьего меха. Кажется, еще недавно под стенами этих же зданий валялись в пыли опухшие от голода, отечные люди… По заводам и учреждениям в фонд голодающих Поволжья, Сибири и Украины отчисляли крохотные доли хлебной пайки.
Завшивленные эшелоны ползли по разбитым железнодорожным колеям, миллионы тифозных в обморочном бреду валялись на вокзалах и в переполненных госпиталях. Где тогда были обладатели идеальных средств и радикальных снадобий, разве их секретные запасы не должны были прожечь землю? Но вот… За чисто вымытыми стеклами витрин в слюдяном отражении пасмурного утра плывут розовые лица и белоснежный крахмал передников, забрызганное дождем фальшивое золото торговых вензелей толстомясо отсвечивает свежим лаком…
Простуженно загудел главный колокол собора. Отвечая на его густой бас, затявкали, неистово заколотились малые колокола и разом все смолкли, лишь один из них запоздало вякнул надтреснутым голосом. У хмурого здания трудовой биржи уже вытянулась очередь безработных. Держа под мышками сухие веники и свертки с одеждой, строем прошла военная команда в субботнюю баню.
Глоба легонько ударил лошадь вожжами по крупу, и она перешла на легкую рысь, железные ободья колес линейки запрыгали по булыжникам.
Вот и окраина города – покосившиеся домишки, крытые соломой и толем, листы ржавой жести, прижатые плоскими камнями, подслеповатые окошки и крошечные палисадники с кустами крыжовника и сирени. В одной из хат, третьей с края, по переулку Речному, прошло детство Тихона. Отец его работал клепальщиком на Паровозостроительном заводе, мать уборщицей в конторе, а старший брат учеником в кузнечном цехе. На гражданской под Царицыном погиб отец, мать умерла от тифа, брата отправили в далекий южный городок на партийную работу – остался Тихон один. Устроился в отцовский цех – на ножных горнах грел заклепки. Громадные паровозные котлы гремели под ударами молотов, их круглые бока были прострочены аккуратными рядами головок. Люди объяснялись друг с другом словно глухонемые – беззвучно раззевая рты. От чада и железной пыли, сбиваемой кувалдами с дребезжащих стальных листов, першило в горле.
Приземистый забор Паровозостроительного уже давно тянется вдоль дороги. За ним виднеются прокопченные цеха с разбитыми окнами. Несколько кирпичных труб воткнулось в низкое небо, – лишь одна дымит, выпуская размытый деготь пережженного угля. На проходной ворота распахнуты, видна заводская площадь, заваленная трубами, покрытыми битумом. Тощая лошадь с трудом тащит телегу, прогнувшуюся под тяжестью металлической стружки – нагребли вилами выше холки, увязали промасленной веревкой, словно крестьянский воз с сеном, прокаленная канитель свисает путаными клочьями. Значит, работает механический цех, там, под монотонный шлепающий гул ременных трансмиссий стальные резцы сдирают с заготовок горячие ленты, свиваются они в тугие яблоки, которые рабочие сдергивают проволочными кочережками на пол. Разламываясь, они хрустят под подошвами сапог, как сухари, мерцающей крошкой забивая щели между рифлеными плитами.








