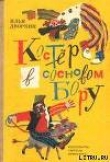Текст книги "Костер на льду (повесть и рассказы)"
Автор книги: Борис Порфирьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Ешь, не разговаривай,– беспечно бросил Цыганков.– Мы тебе немножко от своего оставили. Когда очухаешься после наркоза, всегда рубать хочется.
– Ешь, ешь,– поддержал его Шаромов.– А я пока спою тебе песню. Воображай, что сидишь в ресторане:
В окопах, в ресторанах, портах Сходились наши тропы узкие... Как солнышко, надраен кортик. Нафабренные пики-усики... Любая, не боясь огласки, К нему в объятия упала бы... Ему Одесса строит глазки, Когда выходит он на палубу...
Я вслушивался в слова незнакомой мне песни.
Странно было слышать музыку в этой мрачной палате с окнами, забитыми фанерой, с закопченными стенами. Все казалось каким-то нереальным: и раненые, закрывшиеся до глаз одеялами и тюфяками, и лениво топящаяся печка, и грохот канонады за стенами госпиталя, и эта задумчивая мелодия...
Когда Цыганков вышел покурить, Шаромов отложил гитару, наклонился ко мне:
– Врет он, что я оставил тебе обед... Это он свой оставил, полностью. А я и не мог этого сделать, потому что обедал в первом отделении. Меня после обеда перевели к тебе... Ша! Идет.
Шаромов торопливо схватил гитару и запел, как ни в чем не бывало:
Парню как-то автомат Минные осколки поломали... Тут фашист к нему ползком. Он фашиста – кулаком... И фашиста поминай, как звали. Потому что легкая рука Была у молодого моряка– Поступь широка, Смелость велика, И к тому же легкая рука...
Я прежде не любил гитару и даже с чьих-то чужих слов называл ее мещанским инструментом, но обе эти песни, услышанные мною впервые, на всю жизнь запали мне в душу. Много позже я ловил себя на том, что пою их, не отдавая себе в этом отчета.
Не знаю, очевидно, не на всех раненых нашей палаты они так действовали, но мне они определенно скрашивали жизнь в течение долгих дней.
Шаромов особенно любил песню о парне, которому все удается, потому что у него легкая рука. В этой песне был куплет о девушке Ладе, полюбившей молодого моряка за его легкую руку, и Шаромов часто пел этот куплет, с нежностью произнося имя девушки, напоминавшее мне почему-то всякий раз о солнце. Как я узнал позже, Ладой звали его знакомую; он переписывался с ней вот уже несколько месяцев, после того, как получил от Лады маленькую посылочку – полотенце с петухами, вышитый кисет и прочие подобные вещи, которыми на фронте никогда не пользуются, но которые доставляют много радости. Это ей он звонил в приемном покое, когда я его из-за повязки на голове принял за женщину. Он показывал нам карточку Лады, и хотя девушка выглядела довольно обычно, мы с Цыганковым делали вид, что восхищаемся ею. В воскресенье, когда в госпиталь пускали родственников и друзей, она должна была к нему прийти.
Уже в субботу он начал к этому готовиться; отправляясь к парикмахерше в первое отделение, советовался с нами, не отпустить ли ему узенькие усики, какие носил Цыганков. Однако мы отговорили его от этого. С утра в воскресенье он еще раз выбрил и без того сверкающие щеки, достав бритву в соседней палате. Задолго до того часа, с которого разрешалось посещение раненых, спустился вниз, в раздевалку. К нашему удивлению, Лада пришла в палату одна, без него. Она в нерешительности остановилась в дверях, обведя всех нас взглядом, и спросила Шаромова.
Цыганков со всех ног бросился в раздевалку, а Лада пока присела рядом со мной. Она была стройна, как лозинка, с темными глазами, с каштановыми волосами, подстриженными по-фронтовому, коротко, и выглядела совсем, как мальчишка. Видно было, что она чувствовала себя неловко, придя на первую встречу к человеку, которого знала лишь по письмам и, к тому же, не застала на месте, хотя была уверена, что он ждет ее. Я старался показать, что не вижу ее замешательства, и из кожи лез вон, развлекая ее разговорами.
Сконфуженный Шаромов подошел к Ладе, волоча раненую ногу, и признался, что не узнал ее в раздевалке.
– Я знал, что вы красавица,– сказал он, держа ее руку в своих ладонях,– но не ожидал, что такая.
В его словах было столько неподдельного восхищения, что эта нелепая фраза вызвала у всех нас, и у Лады в том числе, смех. Неловкость сразу исчезла. Помогло еще и то, что Шаромов не увел ее к себе, а притащил две табуретки и вместе с Цыганковым уселся подле моей койки. Мы болтали о том, о сем, и я видел, что Лада чувствует себя с нами несвязанной. Она рассказала нам о своих подругах, с которыми работала в какой-то лаборатории. Ребята, в свою очередь, вспомнили несколько боевых эпизодов... И когда дежурная сестра сказала, что свидание окончено, мы все расстались друзьями.
Вечером, при свете коптилки, Шаромов прочитал нам несколько Ладиных писем. В них не было ни слова о любви, и лишь по намекам можно было догадаться, что Лада очень осторожно отвечает ему на его объяснения. «Все проходят раны поздно или рано, но любовь, мой милый, не проходит, нет...» – писала она ему в одном из писем. «В кармане маленьком моем есть карточка твоя»,– писала она в другом. Вообще она часто цитировала стихи, ее письма были обычными письмами десятиклассницы или первокурсницы, и я не удивился, когда Шаромов сказал, что до лаборатории Лада училась в библиотечном институте... Мы проговорили весь вечер, и только потому, что дежурный врач прикрикнул на Шаромова с Цыганковым, они ушли от меня после отбоя. А я долго еще лежал, уставившись взглядом на черную широкую трубу, идущую изломанным коленом от печки к высокому итальянскому окну, и никак не мог согреться. Стараясь не обращать внимания на боль, думал о том, что вскоре смогу подняться и тогда мы отправимся за дровами, потому что вблизи госпиталя их уже не было, а сжигать плитки паркета, что делали до последнего времени, было просто безбожно. Прав Цыганков, что чуть не избил одного из раненых, застав его за разборкой пола... Еще самые разные мысли приходили мне в голову, но боль в ноге не утихала, и я, в конце концов, не вытерпел и позвал врача.
Очередной укол пантопона притупил мою боль, и я опять погрузился в мир розовых сновидений. Проснувшись в середине ночи, я решил, что баста, хватит тревожить санитарку, все равно рано или поздно я должен научиться вставать. Все эти дни мне было стыдно перед друзьями, ведь я был таким же, как и они, и ненавидел тех нытиков, которые боялись ледяной воды, отказывались умываться и по каждому пустяку звали няню. Я уже днем не раз пытался сесть и опустить ноги на пол, но в моей голове начинал раскачиваться маятник, и я падал обратно на подушку. Сейчас я решил, что в темноте мне это будет сделать лучше, так как я не вижу окружающей обстановки, и начал медленно подниматься.
Я уселся на постели. Маятник в моей голове осторожно качнулся. Я стиснул зубы и опустил ноги на пол. Маятник качнулся сильнее – раз, раз, раз!– вот он уже стучится в стенки черепной коробки. Боль хлынула к ногам, даже к здоровой. Я посидел так, не разжимая зубов. Маятник качался все быстрее и быстрее, он гудел уже, как колокол. Я оперся на здоровую ногу, потом начал вставать. Боль была адской, но я верил, что переборю ее. Держась здоровой рукой за спинку кровати, я прыгнул два раза и потянулся к костылям соседа. И вдруг маятник закружился в моем черепе, раскручиваясь все сильнее и сильнее, стараясь пробиться наружу, и я почувствовал, что падаю, с грохотом увлекая за собой и костыли, и тумбочку, и табурет.
Когда я пришел в себя, то увидел над собой дежурного врача, с упреком рассматривающего при свете коптилки измятый гипс на моей руке.
А утром Шаромов, как ни в чем не бывало, приветствовал меня:
– Привет, ночной путешественник! Чего это ты не даешь нам спать?
Я ему ответил в том же духе:
– Здорово, морская свинка, воображающая себя морским волком. Просто у тебя бессонница, потому что мечты о Ладе не дают тебе уснуть.
Он схватил подушку и запустил в меня со словами:
– Будешь достоин, и тебя полюбит такая красавица, бессонный ты кролик.
Я видел, что он из всех сил старается показать мне, что ночью со мной ничего не случилось.
Стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, я швырнул подушку в ее хозяина:
– Лови обратно, ты, образец находчивости. Конечно, после морской свинки – бессонный кролик звучит блестяще!
Цыганков не любил наши шутливые стычки. Очевидно, он воспринимал их очень всерьез. Вот и сегодня, примеряя обмундирование, готовясь к отправке в часть, он старался урезонить нас:
– Да хватит вам ссориться! Можно сказать, последние часы вместе, а вы опять бузу затеяли... Хватит тебе, Сашка. Ты не обижай Володьку...
– Слышишь, Сашок?– подмигнул мне Шаромов.– Я заступника нашел. Только жаль, что уходит сегодня.– И вдруг посерьезнел, вздохнул:– Эх, а скоро ли нас-то выпустят?
– Выпустят,– деловито успокоил его Цыганков.– Может, еще в мою часть попадете.
Я горько усмехнулся, взглянув на свою ногу, и тоже вздохнул...
После того, как мы распрощались с Цыганковым, меня вновь отвезли в операционную, и профессор, равнодушно взглянув на измятый гипс, занялся моей ногой.
Он раздраженно сопел, безжалостно тыча в глянцевую набухшую синеву над коленом. Потом, подняв на лоб очки, сказал:
– Боюсь, что дела у тебя неважны, молодой человек.
Я ждал.
– Ясно?.. Придется оттяпать твою ногу по щиколотку.
Мое сердце взлетело вверх, потом опустилось, и я произнес, не узнавая своего голоса:
– Неужели ничего нельзя сделать?
– Что вам дороже? Жизнь или нога?– спросил он сердито.
Я молчал.
А он, сердясь еще больше, сказал:
– Гангрена – штука серьезная. Лучше лишиться ступни и ходить в ботинке, чем ждать, когда вот эти пятна поднимутся еще выше...– и, не закончив своих слов, крикнул на сестру:– Чего вы ждете? Снимайте гипс!
Я сказал:
– Я ни за что не дам ампутировать.
Профессор ничего не ответил. Он долго рассматривал мою ногу, иногда делал мне больно, сопел, склонившись надо мной, и, в конце концов, заявил:
– Подождем. Может, ты и выдюжишь. Пока у тебя организм не подорван. Постарайся компенсировать отсутствие необходимого питания за счет бодрости,– и произнес, как заклинание, фразу, о которой мне говорил Цыганков:– Неунывающие всегда выздоравливают.
Я сказал:
– Обещаю вам не унывать, но вы сделайте все, что можно... Ведь я не только солдат, но и спортсмен. Мне без ноги никак нельзя.
Он грустно усмехнулся и бросил, направляясь к умывальнику:
– Не до жиру – быть бы живу... Какой уж тут спорт!
Намыливая руки, спросил через плечо:
– Чем ты занимался до войны?
– Я по профессии инженер... железнодорожник.
– Ну-у,– протянул он,– это тебе не помешает,– и, держа в одной руке полотенце, ткнул меня мокрым пальцем в нос и сказал:– Ты настоящий русский парень (вон у тебя какой нос) и все выдюжишь.
Возвратившись в палату, я спросил у Шаромова:
– Слушай, Володя, как ты расцениваешь мой нос?
– Самый римский. Устраивает тебя?
Я отрицательно покачал головой.
– Ну, греческий,– сказал Володя,– только так его можно назвать с большой натяжкой.
– А без натяжки?
– А без натяжки – нос хвастуна. Слишком уж часто ты его задираешь.
– А ну-ка, достань зеркало, грубиян.
Рассматривая нос в зеркало, я пожал плечами. «Врет профессор. Никакого намека на то, чтобы он был курносым».
Днем все было прекрасно, потому что Володя не отходил от меня ни на шаг и отвлекал от черных мыслей, зато по ночам я не мог уснуть. Особенно тяжело было слушать стоны пожилого солдата, который лежал в противоположном углу. Не знаю, в бреду или нет, но он все время просил отрезать ему руку, говоря, что он не в силах больше терпеть. За эти ночи я возненавидел его. Мне казалось, что я согласен вытерпеть любую боль, лишь бы мне пообещали сохранить ногу. Я доставал табак и скручивал себе папироску. Когда приходила дежурная сестра, прятал папироску под одеяло и делал вид, что сплю. Она подозрительно склонялась над ранеными, но никак не могла подумать на меня, потому что я считался тяжело больным, и она была уверена, что после укола я всю ночь витаю в раю. Дождавшись, когда она уйдет, я садился на постели и вступал в единоборство с маятником, который сразу же начинал меня бить по стенкам черепа. Мое бессилие выжимало из глаз слезы. Неужели я слабее Цыганкова? Какой я к черту спортсмен, если не могу перебороть боль! Все возвращаются на фронт, а я валяюсь в госпитале, как самый никчемный человек.
Мысль о том, что я не вернусь на фронт, приводила меня в отчаяние. Хотя бы туда – на строительство дороги! Майора нет, Гольдмана нет,– как я там нужен! Ясно, что и под Ленинградом скоро начнется наступление; может быть, его и откладывают как раз потому, что не готовы дороги. Но тут я вспоминал о словах профессора, и отчаяние снова наваливалось на меня.
А днем в палате появлялся замполит, которого весь госпиталь звал комиссаром, и подливал масла в огонь: под Сталинградом – успехи, на Центральном – успехи, не за горами прорыв нашей блокады...
Однажды он пришел поздно, когда все, кроме меня, уже спали, и срывающимся от волнения голосом крикнул:
– Подъем!
И когда перепуганные со сна раненые начали вскакивать, комиссар, перекрывая металлический звон кроватных матрацев, сообщил торжественно:
– Только что передали по радио «В последний час»! Замкнуто кольцо северо-западнее Сталинграда, на участке Калач—Абганерово. Четверть миллиона немцев в кольце! Их пытаются снабжать продовольствием и боеприпасами с «юнкерсов», что при активности нашей авиации совершенно невозможно... Ожидайте, товарищи, прорыв блокады!
Лихорадочно заметались в моей голове мысли: сегодня второе декабря, я давал слово профессору... Блокаду будут прорывать без меня... Неужели у меня не хватит сил, чтобы сохранить ногу?.. Хотя бы сохранить ногу... Сейчас уйдет комиссар, и я встану... Скорее бы он ушел...
Я чувствовал, как меня бьет дрожь.
Палата долго не могла утихнуть.
«Скорее засыпайте, скорее,– заклинал я соседей.– Только бы успеть до рассвета. Неужели я не осилю в единоборстве с маятником?»
В полнейшей тишине я осторожно опустил ноги на пол. И вдруг вздрогнул от Володиного голоса:
– Тебе чего?
Я ничего не ответил своему другу, боясь разжать зубы, которые, как мне казалось, вцепились в маятник и не давали ему качаться. Посидев так, я, наконец, осмелился и разжал их. Маятник сразу же начал колотиться. Володя прошлепал ко мне босиком по ледяному полу. Я понял, что перехитрю маятник, вступив с ним в борьбу уже с союзником в лице Володи.
– Поддержи меня за плечи, – сказал я.
Володя помог мне подняться и поставил меня на ногу. Мои зубы не выпускали маятника, а боль, прилившая к раненой ноге, была мне не страшна.
Я постоял с закрытыми глазами, когда же открыл их, то увидел в Володиных руках костыли. Я примерился к ним и, придерживаемый за плечи другом, сделал первый шаг. Мы молча дошли до Володиной койки, и я немного отдохнул на ней. Потом так же молча пошли обратно.
В эту ночь не было наших обычных шуток. Володя священнодействовал, словно жрец, и я был рад этому, потому что боялся разжать зубы для ответа. Мы молча выкурили по папиросе.
Зато утром, увидев, как я раскачиваюсь на костылях, Володя сказал:
– Ну, как, новорожденный, мамина юбка тебе не требуется?
– Мне требуется третий костыль, чтобы запустить в этого наглеца, считающего себя моряком,– сказал я весело.
– То-то я не знал, чем сегодня топить печку,– рассмеялся он.– Сожгу все костыли, чтобы не было повода попадать тебе под трибунал за убийство.
– Погоди, через день-два я закачу тебе нокаут по всем правилам.
В этот же день я сам прошел к умывальнику. Глядя, как я умываюсь, Володя начал смеяться надо мной:
– А водичку тебе подогреть не надо?
– Иди ты, знаешь, куда?
– Знаю. В баню, в русскую довоенную баню, где сколько угодно горячей воды, чтобы можно было принести тебе хоть одну шаечку.
Я брызнул в него из-под крана.
– Расточитель,– рассмеялся он.– Что бы ты делал месяц назад, когда, как говорят, не работал водопровод?.. Маменькин ты сынок, смотри, как умываются моряки!
Он снял рубашку и начал плескать ледяную воду на грудь, похлопывая себя ладонями и крякая от холода.
– Вот уж, действительно,– сказал я,– Видно, что кроме воды ты ничего не испытывал, морской волк. А знаешь ли ты, как умываются спортсмены?
Я отогнул лист картона в окне и захватил пригоршню снега.
Лицо Володи стало серьезным:
– Не сходи с ума. Запросто простудишься. Ты же столько лежал.
Я рассмеялся. За первой пригоршней последовали вторая и третья.
– А теперь разотри меня полотенцем! Да покрепче! А то я, действительно, еще не могу обойтись без маминой помощи.
После завтрака я осторожно откинул одеяло и внимательно осмотрел кожу на ноге выше гипсовой повязки. Темно-синий глянцевый цвет ее мне не понравился, но Володя, заметив это, успокоил меня:
– У меня так же было, но – видишь – все прошло. И у тебя не будут ампутировать.
Для меня было новостью, что он знает о намерении профессора расправиться с моей ногой.
– Брось,– сказал он еще раз.– Не журись.
И только сейчас я подумал, что был эгоистом, занятым самим собой, и ни разу не поинтересовался Володиной судьбой. Ходит и ходит парень, волоча ногу, так будто ему и положено. А ведь буквально несколько дней назад я слышал, как он уговаривал лечащего врача прописать ему массаж, который, как он предполагал, будет полезен. Ему все время казалось, что врачи в его лечении положились лишь на силу его организма и время.
Он согласен был вынести любую операцию, принимать любые процедуры, лишь бы скорее возвратиться на фронт... А я, жалкий человек, был занят лишь самим собой...
– Ничего, Володя, все будет хорошо. Вылечат. Еще и к прорыву блокады успеешь.
– Ты так считаешь?– с надеждой спросил он.– Я тоже не верю профессору – грозится, что при первой возможности на «большую землю» отправит. А я – разведчик, пойми. Что я там буду делать? Мое дело вот,– он похлопал по подушке, под которой я по-прежнему хранил его пистолет, задумался. Потом, словно очнувшись, попросил:– Дай-ка мне его.
И, взяв, любовно гладя его холодные грани, заговорил взволнованно:
– Хотели отобрать! Говорят, не положено в госпитале... А ты жди, когда тебе новый выдадут, да еще такой попадет, который из-за каждой песчинки заедает.– Он помолчал, взвешивая пистолет в руке. После долгой паузы признался:– В конце концов, дело не в этом... Ты пойми, Сашок, пока эта пушка при мне – я чувствую, что попаду на фронт... Это, как бы сказать... символ, что ли... Держу сейчас его в руках и знаю: скоро поработаю в тылу у фрицев!
Это был, пожалуй, единственный случай, когда Володя разоткровенничался. Даже когда в следующее воскресенье Лада расспрашивала его о ноге, он произнес небрежно:
– Все в порядке, мы еще с тобой попляшем на торжественном вечере в честь прорыва блокады... Можно мне помечтать? Это будет так: командир дивизии награждает меня увольнительной в Ленинград; я при всех орденах и в новенькой форме являюсь к тебе в лабораторию...
– Не скромничай,– рассмеялась Лада.– Если уж мечтать, так по-настоящему. Командир дивизии представляет тебя к очередному ордену и направляет в Смольный, где – на торжественном заседании – должны его вручить. Ты заходишь за мной, я тебя жду в довоенном платье, сшитом для школьного бала...
– И мы идем с тобой, а у меня расстегнут ворот гимнастерки – сверкает тельняшка...
– И тебя не останавливают патрули,– шутливо съязвила Лада.
– И меня не останавливают патрули, наоборот, отдают честь бойцу подплава,– продолжал серьезно Володя.
Они так увлеклись, что забыли обо мне... Что ж, они имели на это право.
А что ждет меня – об этом мне откровенно сказал профессор...
Выражение моего лица было, наверное, настолько безнадежным, что Володя прикусил губу, а затем, как ни в чем не бывало, спросил:
– А ты чего надулся? Помечтай вместе с нами, – и, видя, что я молчу, обратился к Ладе сокрушенно:– Сашка расстраивается, что блокаду без него прорвут. Чудак! С блокадой покончат, так Берлин тебе оставят... Скажи еще спасибо профессору, что ногу обещает сохранить.
А Лада, переведя взгляд с Володи на меня, всплеснула руками, вспомнила:
– Мальчики! Заговорили вы меня! Ведь медали утверждены! За оборону городов-героев. И наша там стоит первой. Она будет сверкать, как золото, а ленточка у нее будет, как молоденькая травка... Свеженькая, свеженькая травка... А на ней – Адмиралтейство... Знаете, оно какое?
– Знаем,– самодовольно сказал Володя.
– Нет,– покачал я головой.
Лада всплеснула руками:
– Саша! Да оно, как... золото... а колонны белые... И все как бы в полете... Золотой шпиль в небе... На фоне заката... А рядом Нева, гранитные набережные...
Она поставила ноги на перекладину табуретки, натянула халат на колени и, обхватив их руками, раскачиваясь, продолжала задумчиво:
– Вы не знаете, какой наш город и как я его люблю... А сейчас идешь по Невскому, и серые фасады, нарисованные на фанере... А фанера раскололась – и там пустота... А на Аничковом мосту нет коней... Ходишь по городу, а они под тобой,– в земле...
Мне показалось, что у нее на глазах выступили слёзы.
Когда она ушла, Володя закурил и, забыв протянуть мне спичку, заявил хмуро:
– Все равно уйду на фронт.
Я вздохнул. Он словно очнулся и, улыбнувшись виновато, сказал:
– У тебя дело сложнее. Но ничего, и ты своего добьешься. Брось грустить!
А наутро мы снова занялись зарядкой и обтиранием снегом. Когда на подоконнике снега не было, Володя выходил на улицу и приносил его полную куртку. Однажды я решил, что и мне настала пора спуститься по лестнице, и, поддерживаемый другом, выполз за стены госпиталя. Стоял ясный февральский день. Небо было по-весеннему голубым. Серенькие воробьи хохлились на проводах. Мимо, по чуть припорошенному асфальту, промчалась машина. В кузове ее сидели девушки в шинелях. Володя не растерялся и запустил вдогонку снежком. В тот момент, когда я не успел еще растереться полотенцем, выскочила разгневанная сестра из соседнего отделения и напустилась на нас. Нам стоило больших трудов ее уговорить, а на следующий день путь на улицу нам был заказан. Соседи по палате, которые до этого с удивлением наблюдали из-под одеяла за нашими оживленными физиономиями и с недоверием поглядывали на багровые от растирания плечи, долго злорадствовали над нами. Володя предложил обратиться за поддержкой к начальству.
– Вот тебе и придется взвалить эту тяжкую обязанность на свои плечи,– рассмеялся я.– Иди к замполиту. Ты же сам говоришь, что вы с ним старые знакомые.
Володя обиделся и ушел в коридор.
Мне надоело сидеть одному, я взял костыли и направился к нему.
В руках у него была газета.
– Читал?– спросил он миролюбиво.– Фон Манштейн идет на выручку группировке под Сталинградом.
– Тот самый, которому здесь надавали по шее?
– Тот.
– Увязнет и там, как увяз в Синявинских болотах.
– Определенно. Здесь карьеру утопил, а там и сам пойдет ко дну, как Паулюс... На, читай: Минеральные Воды освобождены.
Приятная волна коснулась иголочками спины. Мои Минеральные Воды! Ох, как все переменилось!.. Я вспомнил Славика Горицветова, а потом подумал, что напрасно я ропщу на свою судьбу: дай бог, все кончится хорошо, и, может, я попаду на фронт; а уж если на то пошло, то и без ноги жить можно, а вот Славика не вернешь, не порадуешься с ним нашим победам... Минеральные Воды, мое боевое крещение!..
Володины слова дошли откуда-то издалека. Что он говорит? Ах, да! И здесь накапливают силы для прорыва?
– Ну, конечно,– отозвался я.
И как бы в подтверждение наших надежд, в коридоре появился новичок в сопровождении няни.
– Откуда, братишка?– бросился ему навстречу Володя.
– Из-под Мги.
– Как там?
Раненый махнул рукой:
– Уйма. Свежих частей уйма, танков. Рванем не сегодня-завтра.
Володя весело посмотрел на меня и подмигнул.
А на другой день по госпиталю пошли упорные слухи, что блокада прорвана, что соединились части Ленинградского и Волховского фронтов. Но толком никто ничего не знал. Комиссар, появившийся на минутку в ординаторской, загадочно улыбался, разводил руками. Заявил одно: «Ждите новостей». Позже кто-то сказал, что видел его из окна – сам следит, как монтер забирается на электрический столб. Однако свет не вспыхнул, а, значит, молчало и радио.
Но и без радио все стало ясно. Радостные возгласы и аплодисменты, расколовшие настороженную тишину, пружиной выбросили нас из постелей; налетая в темноте на кровати, сбив табуретку, заплетаясь в костылях, я прыжками выскочил в коридор. В конце его, в дверях первой палаты, стоял комиссар, и лампа-молния в выброшенной его руке казалась факелом.
Таким я и запомнил на всю жизнь сообщение о прорыве блокады.
Свершившееся было настолько грандиозным, что даже Володя не сетовал, что не успел быть его участником. Наоборот, желая сделать мне приятное, сказал великодушно:
– Ну вот, ты говорил, что я без тебя уйду на прорыв блокады... Вместе пойдем на штурм Берлина.
А утром, когда за окном вывешивали флаги,– без него, конечно, не обошлось.
Теперь мы обходились без радио и газет – прибывавшие раненые знали во сто крат больше любого журналиста.
– Откуда?
С гордостью:
– Э, брат, я из дивизии Симоняка!
Комментарии были не нужны.
– А ты?
– Батальон Собакина.
Это произносилось таким тоном, словно он сам был Собакиным.
И если кто-нибудь подхватывал восхищенно:– Знаем, герой,– говоривший измерял его взглядом с ног до головы:
– Дура. Не герой, а трижды герой.
В воскресенье Володя не находил себе места – ждал Ладу.
Но вместо нее в палате появилась та самая блондинка, которая когда-то увела его к комиссару. Мы знали, что ее зовут Асей, что она работает секретаршей у главврача и что половина раненых влюблена в нее. Однако видели мы ее редко, потому что она почти не заходила в палату.
Ася была нагружена до самого подбородка подарками, и две молоденькие сестры сопровождали ее, неся тоже по объемистой груде разных свертков и пакетов.
Ася обходила койку за койкой и, наконец, очутилась около меня. Она спросила, что бы я хотел получить. Табак? Кисет? Носовой платок? Может быть, мыло?.. Присесть? Погодите минуточку. Вот она раздаст подарки, тогда посидит немножко. Я наблюдал за ней. Она была очень вежлива, очень мила, очень красива. Я смотрел, как она картинно наклонялась над раненым, протягивала подарок, оттопырив мизинчик с ярким ногтем. В сшитом по фигуре халате, она очень походила на артистку, изображающую на сцене медсестру. Я подвинулся, когда она вновь подошла ко мне. Но она притянула рукой табуретку и уселась на нее, поставив ноги на перекладину. О чем мы будем говорить?– спросила она. Ах, о чем угодно? Она положила руки на колени. У нее были длинные красивые пальцы, на безымянном пальце левой руки сверкало золотое кольцо с камешком.
– Ну, расскажите мне что-нибудь,– сказала она.– Как вы сражались. Какой-нибудь боевой эпизод. Говорят, что вы майор? Нет? Не скрывайте от меня.– Она погрозила мне пальцем.– А тогда почему у вас так много орденов? Ах, не ваши? Да ну, бросьте. Я же знаю.– Она улыбнулась мне, посмотрела на свое кольцо и поиграла им.– Говорят, что вы нарочно легли в эту палату, чтобы быть со своими бойцами? Вы так их любите? Говорят, что и они вас любят?.. Это ваши друзья? Ну, ну – друзья,– Она опять взглянула на кольцо и поиграла им. Потом посмотрела мне в глаза.– Ну, мне пора.
Она поднялась с табуретки.
– Заходите, Ася,– сказал я.
В дверях она остановилась и произнесла, обращаясь ко всей палате:
– До свиданья, товарищи!
Я проводил ее взглядом и вздохнул. И только тут увидел Ладу, которая уже сидела подле Володи.
– Здравствуй, Ладочка,– сказал я.– С праздником тебя! Не забываешь нашу морскую свинку?
– Вы тоже не теряетесь,– улыбнулась она, помахав мне рукой.
– Чисто официальные отношения. На деловой почве. Она секретарь у главного врача.
– Ну, раз секретарь, тогда, конечно, официальные,– пошутила Лада.– Я, между прочим, так и подумала. Да вот Володя что-то не соглашается со мной.
– Наклонитесь, пожалуйста,– попросил я.– Сейчас я запущу в него подушкой.
– Помалкивай, мелкий завистник,– улыбнулся Володя.– Сбежала от тебя твоя секретарша?
Я замахнулся подушкой и сделал вид, что сержусь. Потом откинулся на спину и забросил здоровую руку за голову. Я видел, что Володе с Ладой сейчас не до меня. Но мне было приятно слушать ее восторженный рассказ о Ленинграде. Если ей верить – на свете не было города лучше. Да, настал праздник и у ленинградцев. Только представить – семнадцать месяцев блокады!..
Я скосил взгляд на Ладу. Впервые она показалась мне очень красивой, видимо, радость разгладила морщины, а синие круги вокруг глаз шли ей. Потом я подумал, что ко многим сегодня пришли знакомые девушки, а к одному из соседней палаты явилась даже жена, и только вот у меня по-прежнему никого нет, но, может быть, и у меня будет любовь; правда, чем, например, плоха Ася? Я повернулся на бок и оглядел всех девушек, сидящих около раненых, дольше других задержавшись взглядом на Ладе. Да, конечно, никто из них, даже Лада, не шел в сравнение с Асей. Я долго лежал так и старался себе внушить, что влюбился в Асю, и вспоминал, с каким вкусом она одевается и вообще до чего она хороша. Внушал так упорно, что, в конце концов, мне действительно показалось, что я влюблен в нее.
Я решил, что под любым предлогом завтра добьюсь того, чтобы она пришла посидеть со мной. Вообще, в отличие от Володиной Лады, она сможет приходить ко мне в любое время, когда только нам с ней захочется.