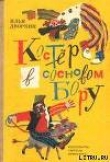Текст книги "Костер на льду (повесть и рассказы)"
Автор книги: Борис Порфирьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
– Бывает и так: человеку, который жалуется, затыкают рот повышением в должности. Это самый примитивный вариант,– и, словно спохватившись, добавил: – Однако в выводах не торопитесь. Если и не все пути хороши для достижения цели, то... элемент самодурства можно извинить ради хорошей работы... А бороться может только коллектив.
Он посмотрел в черное окно и поднялся, держась за спинку стула. Задержав мою руку в своей, произнес тепло:
– Только не вздумайте бежать от трудностей – вы здесь очень нужны. И всегда помните о торфе – это такое богатство... И сколько богатства в нашей стране!.. Все свое, ни у кого не занимаем... Я читал на днях: под Сталинградом оказались одни банки из-под тушенки не наши,– и он неожиданно – в первый раз!– рассмеялся.
На другой день комиссия уехала.
Вернувшись вечером домой, я увидел на своем столе сверток. Я развернул его и с недоумением увидел бутылку такого же вина, какое мы пили с Калиновским. Сверху лежала записка. «Александр Николаевич,– было написано в ней,– примите маленький подарок в память о наших разговорах. Искренне ваш И. Калиновский».
Это была вторая и последняя – из тех, что предназначались его родственнику...
Я завернул ее в бумагу и спрятал.
Глава двенадцатая
Где лишь в пору медведям одним да рысям
Жить, не ведая ни горя, ни напасти,
Там живу я, ожидая ваших писем,
Как большого незаслуженного счастья.
(Сергей Наровчатов).
Я с головой окунулся в новое дело, метался из конца в конец предприятия, не спал ночей, сам выезжал на каждую аварию, но все шесть точек по-прежнему недодавали вагонов под погрузку. А тут еще на пути нам попался карьер, через который невозможно было проложить мост в короткий срок. Я забил восемь свай, но не решался пропустить по этому сооружению на курьих ножках поезд. А Хохлов звонил по пять раз на день:
– Какой ты к чертовой матери начальник! Срываешь план! Дождешь, из области начальство приедет. Смотри, заступаться не буду, сам подбавлю жару! ГРЭС не остановишь из-за того, что какой-то сопляк Снежков нюни распустил и не знает, что делать.
Однако я понимал, что пустить поезд – значит рисковать жизнью людей и, чтобы не задерживать отгрузку торфа, приказал высыпать в карьер шесть вагонов фрезера. Но даже после такой предосторожности я не отважился пустить поезд. Я сам сел на место машиниста...
Когда Хохлову доложили, что торф пошел с нового участка, он в первый раз похвалил меня и премировал ордером на костюм.
А через день кто-то сказал ему, что Снежков, вместо того, чтобы отгружать торф на ГРЭС, высыпает его в карьер, и он вызвал меня к себе и при всех инженерно-технических работниках задал мне очередную трепку.
– Кто давал разрешение?! Шкуру спущу! Торф сейчас дороже золота! Хочешь, чтобы фронт танков не получал?! Да знаешь, что с тобой надо сделать за это?!
Он стоял, упершись кулаками-кувалдами в столешницу, и лицо его наливалось кровью.
Я не вытерпел:
– Пров Степанович, шесть вагонов – это капля в море. Зато мы за это время вывезли уже десятки вагонов и не сорвали работу ГРЭС.
– Я тебе покажу «не сорвали работу», щенок! – Он стукнул по столу кулаком.– Где ордер на костюм? Выкладывай на стол!
– Костюм мне не нужен. Я и в кителе прохожу, а ордер не отдам принципиально. Я заработал его своими руками, своими нервами, своими бессонными ночами. В конце концов, смертельным риском – я сам водил поезд по мосту, который держится на курьих ножках!
Я решил, что терять мне нечего, и поднялся, не дослушав Хохлова; крик его раздавался даже в коридоре.
Совсем некстати приоткрылась дверь парткома: кому-кому, а Дьякову в эту минуту я не хотел попадать на глаза, потому что, наверное, походил на потрепанного в драке воробья; во всяком случае, лицо у меня было раскрасневшимся и вспотевшим.
– А ну-ка, зайди сюда,– поманил меня пальцем Дьяков.
Прикрыл дверь, уселся за стол и усмехнулся:
– Воюешь все?
Я тяжело дышал; ничего не ответил.
– А ты бы как-нибудь зашел в партком, что ли, вместо того, чтобы партизанить.
– Я не партийный,– сказал я.
Усмешка снова тронула его губы:
– А что, по-твоему, комсомолец – в отличие от члена партии – должен воевать в одиночку?
Поняв, что я не намерен откровенничать, посоветовал:
– Ты хоть сядь, приди в себя. Торопиться да шуметь – это не всегда полезно.
Я видел, что он нарочно медленно достает кисет, не торопясь скручивает цигарку.
Не дождавшись, когда я заговорю, промолвил:
– Вот кипяток, смотрю на тебя...– Он затянулся сизым дымом, выпустил в потолок длинную струю; продолжил миролюбиво:– Чем одному-то воевать, шел бы поближе к народу, посоветовался.
Хотя этот совет напоминал слова Калиновского, что один человек ничего не может, я сказал раздраженно:
– О чем советоваться, когда все ясно? Хохлов шумит из-за шести вагонов фрезера, а сам ведь прекрасно понимает: не пойди я на жертву, мы бы остановили завод.
– Ты зря-то не петушись. Шесть вагонов тоже чего– то стоят. У Хохлова тут подход хозяйский.
Я поднялся.
– Ну, я пойду.
Дьяков развел руками:
– Дело твое...
Открывая мне дверь, предложил опять:
– Слушай-ка, Николаич, ты бы домой ко мне, что ли, как-нибудь зашел. Чайку бы попили, поговорили.
Я решил, что зайду непременно. Но выполнить своего обещания мне не удалось. Все дни проходили в разъездах, в штурмовщине; разболелась нога, я был зол, и только Ладины письма скрашивали мне жизнь. Осенью она написала, что радуется моим успехам, и только тут я понял, что ей было легче проследить по письмам за тем, чего я добился, чем мне самому здесь, на месте, занятому текучкой.
Да, работа моя наладилась, но зато какой ценой приходилось за нее расплачиваться! Возвратившись домой разбитым, я знал, что не успею отдохнуть, как меня поднимет звонок Хохлова:
– Снежков! Что у тебя там на Островке? Проспал все! Вагон сошел! Выезжай на аварию!
Бывало, он перехватывал меня на какой-нибудь станции и гнал в другой конец.
– Пров Степанович,– пытался я отказаться,– под– нимут вагон, одни справятся. У меня сегодня во рту маковой росинки не было. Приеду, опять столовая будет закрыта.
– Никаких разговоров! Только о своей шкуре заботишься! А столовой я сейчас прикажу, чтоб тебя ждали всю ночь.
Официантка Дуся, чаще других дежурившая в таких случаях, садилась против меня в пустой, освещенной тусклой лампочкой столовой и горестно качала головой. А я радовался полуостывшему обеду и шел домой в предвкушении нескольких часов спокойного сна, зная, что утром меня снова поднимет звонок Хохлова.
В один из последних теплых дней, когда по поселку летали паутинки, Дуся пригласила меня к себе в гости, и я, подкупленный возможностью провести вечер в домашнем уюте, от которого совсем отвык после того, как уехал из Настиного общежития, согласился.
И действительно, мне понравилось здесь все—и чистенькие салфеточки на комоде и швейной машине, и рамочки из ракушек, и цветные картинки, пришпиленные к стенам, и старенькое зеркало, и гора подушек на высокой постели. Дуся легко носила свое полное тело, затянутое в пестрый халат, сновала от стола к буфету. Шум примуса сливался с шумом паровоза, пускающего пары в сотне метров от Дусиного окна, над моей головой дребезжала черная тарелка радио; я ничего не слышал из Дусиных слов. Наконец, чай вскипел. Поставив эмалированный кофейник на стол, Дуся села рядом со мной.
– А, может, все-таки выпьем?
Я покачал головой.
– Нет, Дусенька, мне нельзя.
– Что у тебя, язва, что ли? Не обращай внимания. У Прова Степаныча язва, а он пьет вовсю. Говорит – помогает.
– Нет, мне нельзя, потому что я... физкультурник.
– Ну-у, у меня был один знакомый культурник из дома отдыха, так пил не хуже Прова Степаныча.
Я улыбнулся:
– Вот, когда буду культурником в доме отдыха, тогда и буду пить.
– Да уж там была бы жизнь – каждый поднесет. И отоспаться можно. А здесь ты изведешь себя. Смотрю я и не знаю, когда ты отдыхаешь.
– Война, Дусенька.
Она усмехнулась:
– Не война, а Пров Степаныч...
– И Пров Степаныч. Сам не спит и другим не дает.
– Жалко мне тебя. Умнее других, а не понимаешь. Это одна видимость, я ведь все знаю. Слышал, поди, жил он со мной?
Она посмотрела на меня настороженно и выжидательно.
– Я сплетен не слушаю.
– Чего уж, весь поселок знает,– вздохнула она и нахмурилась.
Она так низко склонилась над чашкой, что я видел белую ниточку пробора.
– Помочь я тебе хочу,– сказала она, не поднимая головы.– Не знаете вы Прова Степаныча. Не такой он, чтобы не спать. У него как? Проснется утром, соберет к себе всех или обзвонит, даст накачку, а в одиннадцать выпьет полтораста грамм и ложится спать. Секретарше скажет, к кому посылать курьера – к Дуське,– Дуся подняла голову и горько усмехнулась,– к Феньке, к Машке; это если из треста вызывают... Курьер и бежит... А начальство тревожит не каждый раз. Вот наш Пров и спит до пяти часов. Там проснулся, пообедал с водочкой и снова начинает обзванивать, когда у вас работа кончилась... А вы, дураки, думаете .– он двужильный...
Я поворошил свою память. Действительно, днем он меня ни разу не тревожил. Вспомнилась виденная позавчера картина: пьяного директора ведут под руки к дому среди бела дня. Давно перестав чему-либо удивляться, я все же был изумлен, когда через несколько часов услышал его громовой голос – Хохлов был совершенно трезв. «Ну, ничего,– подумал я,– посмотрим, застанешь ли ты меня сейчас врасплох!»
Дуся отвернулась к окну и задумчиво крутила чайную ложку. На улице сгущались сумерки, первая звезда переливалась над депо, зеленая и холодная. Пахло прелой ботвой и паровозным дымом.
Когда в комнате стало темно, Дуся подошла ко мне, нерешительно положила на плечи полные горячие руки.
– Останешься?
Не повертываясь, я снял Дусину руку с плеча и, не выпуская ее, покачал головой:
– Нет, Дусенька.
– Гордишься?
– Нет. Просто не надо этого.
Она усмехнулась:
– У меня и не такие оставались...
– Ты говорила.
– Да что там Пров. Повыше его бывали. Всякие приезжают. А раз приедешь – столовой не минуешь...
Я положил ее руку на ладонь и похлопал другой ладонью:
– Не грусти. Еще выйдешь замуж.
Она выдернула руку, и мне показалось, что заплакала. Потом, не зажигая света, отыскала шаль и, накинув ее на плечи, сказала:
– Пойдем, провожу. Или стыдишься?
Я вспомнил о сплетнях, заставивших меня уехать от Насти, но отказаться не имел права.
На улице играла гармошка, нестройно пели девушки.
Теребя кисти шали, Дуся взглянула мне в глаза и произнесла уверенно:
– Значит, ты любишь кого-то.
«Кого я люблю? Что она выдумала?» – подумал я грустно и отрицательно покачал головой.
– Нет, любишь, не скрывай.
– Что ты, Дусенька, я один на свете. Нет никого у меня.
– Любишь,– повторила она настойчиво.– Я женщина, понимаю все...– добавила она задумчиво и печально.– Иначе бы не берег себя...
Навстречу шли двое пьяных. Я выставил плечо вперед. Но они почтительно уступили дорогу.
«Черт! Нехорошо,– подумал я.– Это механики. Вдруг они напишут Ладе?» И неожиданно мне стало радостно оттого, что я вовсе не одинок, что есть у меня на свете родная душа, что я могу поехать в отпуск в Москву, что я в любое время могу написать Ладе письмо и даже послать телеграмму. Так, ни с того ни с сего, взять и послать телеграмму!..
Я попрощался с Дусей.
Она, не подавая руки, произнесла устало:
– Захочешь, заходи на огонек... Посидеть... Может, и тебе будет тоскливо, захочется посидеть с... человеком...
Я пошел на телеграф и отправил Ладе телеграмму: «Работа идет хорошо надеюсь у тебя тоже получил первую премию телеграфируй здоровье жму руку».
Слушая затихающую гармошку, я шел вдоль главной улицы поселка. Дорога меня вывела к Быстрянке. Пахло мокрой травой и песком. Луна освещала темную спокойную гладь реки. Я опустился на гнилой, осевший с хрустом пень. Под ногами чернели замшевые головки камышей. Иногда что-то булькало в воде да пролетала тяжелая птица – низко, над травами. Я обхватил руками колени и долго сидел так. Небо было высоким, бездонным.
Никак нельзя было спать в эту удивительную ночь. Все будет хорошо, и вообще стоит жить на свете. Калиновский прав, подумал я: Хохлова надо принимать таким, какой он есть, раз работа предприятия отлично налажена. Будем бесперебойно вывозить торф, не подведем Быстрянку, не уступим первенства в тресте..
Все оказалось так, как говорила Дуся. С утра я давал распоряжения, подписывал бумаги, принимал людей, спокойно выслушивал Хохлова. После того отправлялся домой. В пять часов, свежий после сна, шел в столовую. И когда часов в семь в моей комнате раздавался хохловский звонок, я говорил:
– Выезжаю, Пров Степанович. Хорошо... Доложу... Все будет в порядке.
Чуть ли не в полночь я звонил ему из различных мест, докладывал о делах.
На первом же совещании Хохлов заявил:
– Берите пример со Снежкова. Не зря я его хлестал в хвост и в гриву. Научился человек работать. Не то, что вы – не считается со временем. И днем, и ночью бывает на участках. На предприятии два человека так работают – я и Снежков.
Вскоре я получил ордер на отрез драпа.
Этот ордер я отдал Насте.
– Продай драп и купи Мишке пальто,– сказал я, гладя бархатную голову мальчика, и подумал: «Вот бы такого сына Дусе. Не было бы ей так тоскливо... Как она тогда сказала: «Если захочется посидеть с человеком...» Дуся, бедная Дуся... Всегда найдется какой-нибудь Хохлов, чтобы растлевать твою душу... Дареные полушалки любви не заменят».
Я взял мальчика за локти и поднял его под потолок.
– Ох, и тяжелый ты, брат.
– Дядя Саша,– сказал он, болтая ногами в воздухе,– пойдемте на рыбалку. Я такое место нашел – сомы клюют!
– Ах ты, сом с усом... Доставай удочку, герой, пойдем.
Настя, гладя казенные простыни, поглядывала на нас с улыбкой.
– Вот что, Мишук,– сказал я.– Сбегай ко мне домой (вот тебе ключ), на подоконнике у меня лежит диск, принеси его. А я тебя подожду здесь.
Через полчаса мы уже шагали по лесу. Лягушки прыгали из-под наших ног. На желтом фоне березняка горели красные гроздья рябины. Солнце светило тускло. Небо на горизонте было серебристым, как отшлифованная сталь рельсов.
Пока я не кончил занятия с диском, Мишка не начинал рыбалки.
Он не отрывал глаз от серого кружка, пущенного моей рукой вдоль поляны. Диск шлепался на жухлую повядшую траву плашмя, не подпрыгивая. Мальчик срывался со всех ног и тащил его ко мне.
Мы договорились, что будем приходить сюда каждый раз, как у меня выдастся свободное время.
Но через несколько дней зарядили дожди, вновь начались аварии, и я пропадал на участках, хотя и старался не ломать распорядка дня.
В один из тоскливых вечеров, когда за окном хлестал дождь, ко мне пришла Настя. Она остановилась в дверях, бледная, растерянная; крупные капли скатывались с ее намокшего платка, пробегали по щекам.
– Александр Николаевич, у меня Мишка в больнице... Я уже третий раз к вам прихожу,
Я испугался:
– Что с ним случилось?
– Ходил на рыбалку... Не хотела ведь отпускать в такое мокропогодье... Сорвался с бревна в реку...
– Когда?
– Да третьего дня...
– Что же ты молчала?
– Да сначала ничего было. А сегодня совсем плохо. Температура высокая... Он и меня не узнал...
Настя уткнулась в ладони, зарыдала...
Я снял телефонную трубку и попросил вызвать боль– лицу. Дежурная сказала мне, что с мальчиком плохо, и посоветовала поговорить с лечащим врачом.
Случись что со мной, я никогда бы не отважился позвонить на квартиру к врачу, тем более, что час был поздний. Но здесь речь шла о жизни ребенка.
– Простите, что я вас беспокою. Говорит старший инженер Снежков. Меня интересует состояние мальчика, оступившегося в воду три дня назад. Это сын уборщицы из общежития ИТР.
– Воспаление легких. Организм подорван голодом. Сопротивляется плохо... Вы зайдите ко мне утром в больницу – поговорим.
Я, как мог, успокоил Настю. Потом меня вызвали в Мелешино, где сошел с рельсов паровоз. А утром расстроенный, невыспавшийся, я был у врача. Невероятно толстая женщина встретила меня с любопытством, что мне не понравилось. Но не время было разбираться в том, чем я ее заинтересовал, и я приступил к делу. Она подробно мне рассказала обо всем и добавила, что нужен сульфидин.
– А у нас его ни грамма,– развела она руками.
– Как же быть?
– Здесь нигде не достать. Был бы у меня свой, я бы отдала.– Она улыбнулась.– Напрасно вы мне вчера отрекомендовались старшим инженером. Для нас, врачей, все равно... чей больной. Хоть самого Хохлова, хоть – уборщицы. Главное, что ребенок.
– Что же вы посоветуете?
– Что посоветовать? Сходите к Шельняку – у него, по-моему, не только в области блат есть, но и где угодно.
Я бросился к Шельняку. Глядя миндалевидными глазами, он печально покачал головой.
– Что вы, Александр Николаевич, ничем не могу помочь. Да и какие сейчас медикаменты, все идет на фронт. Легче коньяку марочного достать, чем ваш сульфидин.
Он помолчал. Потрогал челюсть, которая только тем отличалась от лошадиной, что была выбрита, и снова вскинул на меня глаза:
– Придется дать...
– За этим дело не встанет.
Шельняк рассмеялся:
– Оригинал вы! Не мне. Я напишу записку в один госпиталь в город. Маленькому человеку. Он все сделает. Только нужны не деньги, а продукты.
Я вспомнил о талонах на хлеб, которые честно сдавал в бухгалтерию каждые полмесяца.
– Хлеб?..
Шельняк поморщился.
– Масло, мед... Урюк на нашем рынке есть, рис... Вы словно с луны свалились. Неужели не знаете, что на нашем предприятии узбеков снабжают белым хлебом и сушеными фруктами? У них можно что угодно выменять.
– Спасибо, Осип Николаевич. Пишите записку. Большое-большое вам спасибо.
– Ерунда. Когда-нибудь и вы мне поможете.
– Какой разговор, Осип Николаевич.
Спрятав записку в карман вместо вытащенных из него хлебных талонов, я побежал на рынок. На мое счастье, был воскресный день. Около вокзала, подле двух деревянных прилавков, шел торг. Шельняк был прав: несколько узбеков, кутающихся в стеганые халаты, стояли перед грудками урюка, риса и буханками белого хлеба. А рядом с ними расположились бабы, повязанные теплыми платками так, что были видны одни глаза; чего только у них не было – яички, масло, молоко... Редко кто доставал деньги. Меняли продукты на продукты. В цене была также одежда.
Пожилой узбек рассматривал золотое колечко, принесенное эстонкой, которая, как я знал, работала на погрузке торфа. Узбек нюхал колечко, пробовал камешек на зуб.
Женщина испуганно протягивала руку, а он отстранял ее. Потом подвинул ей урюк и рис.
– Твоя, бери.
– Мне нужен хлеб.
Он придвинул обратно грудки, протянул буханку.
Оба плохо говорили по-русски.
Женщина объясняла, что ей нужно две буханки. Он, по-моему, понимал, но делал вид, что не понимает, и все время совал ей в руки одну.
Баба с сизым носом, торговавшая рядом, сказала недовольно:
– Обделает он тебя. Меняй мне. Я тебе вон сколько даю. Дочь замуж выходит – возьму для нее.
– Мне масло не нужен. Мне – хлеб. Хлеб.
Я протянул женщине талоны на пять килограммов хлеба и прямо из зубов узбека взял кольцо.
– Вас так устроит?
– О! Это слишком... Я отдал... прежде... один кольцо – два буханка.
– Отлично. Талоны ваши, кольцо мое... Сколько она вам давала за него?– я указал на бабу.
Та сердито посмотрела на меня:
– Тогда давала, а теперь, может, не захочу.
– Захочешь. Дочь-красавица замуж выходит. Не обидишь же ее. Жених-то с фронта вернулся?
– С фронта. Как и ты, в экой же шинеле.
– Где воевал?
– Под Нарвой какой-то, забери ее нечистый.
– Ну-у, под Нарвой, значит, вместе со мной. Передай ему привет. Скажи, от Снежкова. Он у тебя не танкист?
– Танкист, батюшка, танкист.
– Хороший такой, статный парень?
– Он, он самый.
– Он ведь у тебя в руку ранен?
– Нет, в ногу. Эдак вот отхватили.
– Эдак? Ну-у! Знаю его! Как же! Где работать-то собирается?
– Отдыхать пока будет.
– Когда отдохнет, к нам ведь пойдет, на торф. Пусть ко мне приходит. Я его устрою. Держи кольцо. Да невесту-то поздравь от меня. Давай, давай, не жадничай. Что там есть у тебя еще – выкладывай.
На оставшиеся талоны я выменял урюку и рису и, нагруженный свертками, пошел домой. Все это я запаковал в бумагу, перевязал шпагатом. Потом пришил подворотничок, почистил шинель. И через полчаса мчался на дрезине к ближайшей станции, мимо которой проходили поезда на областной центр.
Маленький человек, который, по словам Шельняка, должен был все сделать, оказался маленьким в буквальном смысле слова. Больше того, у него были маленькие погоны с маленькой звездочкой, и, по-моему, маленькая жена, выглянувшая было в коридор. Когда этот человечек развернул мою далеко не маленькую посылку, на его лице можно было прочесть тоже далеко не маленькую радость. Ему надо было выйти за сульфидином из дому, но он явно не хотел, чтобы я здесь задерживался. С собой он меня брать тоже не хотел. Я понял его и сказал, что подожду подле кинотеатра, мимо которого только что проходил. Я ждал его спокойно, зная, что он никуда не сбежит. Он вернулся минут через сорок и вручил мне целую пачку пакетиков, обернутую в целлофан. Мы поблагодарили друг друга, и я отправился на вокзал. На два поезда мне не удалось взять билета. Выехал я только утром с пригородным. Со станции вызвал дрезину, в восемь часов позвонил с Островка Хохлову, доложив, что ночью ликвидирована авария, и в девять уже был в больнице.
Докторша обрадовалась моему приходу, потому что Мишке было совсем плохо. Я передал сульфидин, сходил к Насте и окунулся с головой в работу.
Вечером я написал длинное письмо Ладе, в котором покаялся в своем грехе. «Однако,– писал я,– эти талоны все равно попадали в руки тех же бухгалтеров, и они забирали их себе...» Я словно оправдывался перед Ладой.
Уже на другой день Мишке стало легче, а еще через день я сидел вместе с Настей у его постели. Он был так беспомощен и так велика была скорбь матери, что я чуть не заплакал. Но дело пошло на поправку. Меня часто пускали к мальчику, и я приходил к нему не с пустыми руками. Но всякий раз, когда я производил товарообмен, передо мной вставало лицо Калиновского, и мне хотелось оправдаться в его глазах.
Ладино письмо поддержало меня в эти трудные для моей совести дни. «Я бы поступила так же...», – писала она.
Сидя у Мишки, я гладил его плюшевую голову, исхудавшие руки. В один из таких вечеров в палате появилась... хохловская Тамара. Увидев меня, она на мгновение смутилась, но тут же небрежно кивнула:
– Привет сиделке.
Склонясь над изголовьем, поцеловала мальчика в лоб, спросила задушевно:
– Ну что, маленький? Лучше стало? А я тебе икры принесла. Помнишь, на рыбалке ел?
Я не верил своим ушам! И это она? Мне даже показалось, что на ее ресницах – слезы.
Она сердито посмотрела на меня, вытерла глаза надушенным платочком. Оправдалась:
– И мне впору лечь в больницу,– насморк замучил.
И уже окончательно взяв себя в руки, спросила холодно:
– Спички у вас, конечно, нет? Да не бойтесь, в палате курить не буду.
Она снова поцеловала Мишку, прикурила от электроплитки, стоящей на подоконнике, и, не попрощавшись со мной, вышла. Потом приоткрыла дверь и пообещала Мишке:
– Зайду опять, когда дяди не будет.
Я сидел в растерянности. А мальчик сразил меня окончательно, сообщив:
– Дядя Саша, а она уже третий раз приходит. Любит сказки рассказывать. Только неинтересно. Вы лучше про войну расскажите.
Вот тебе и Тамара!
– Дядя Саша, про войну...
Я словно очнулся:
– Да что тебе рассказать? Я уж все рассказал. Я ведь, дорогой мой, не так уж долго на фронте был. Да и то дороги строил.
– А вы о том, как взрывали. И про шпиона с деньгами. Или лучше про разведчика Шаромова.
Я вздохнул: не очень-то любил разведчик Шаромов распространяться о своих подвигах. Но, в конце концов, что из того, что я сочиню что-нибудь для малыша? Орденов-то у Володи была целая грудь – за что-то ему ведь вручили их?
В помощь себе я взял прочитанные книги, и Мишка, по-моему, был доволен.
Думаю, что и Лада похвалила бы меня за такие рассказы.
Как-то она там, в Москве?