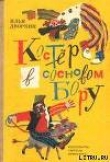Текст книги "Костер на льду (повесть и рассказы)"
Автор книги: Борис Порфирьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Курбатов торопливо встал. Лейтенант лежал рядом и тихо стонал. По ступенькам кто-то шел. Курбатов лег снова. Прежнее желание покоя вернулось к нему. Вошел Денисенко.
Курбатов поднялся на нарах.
– Я готов, Петро,– сказал он.– Пора идти?
– Ты бредишь, Саша. Лежи.
– Ах, что ты говоришь, Петро! Дай автомат. Проверь ракетницу. Дай запасные ракеты.
– Может, я пойду, Саша?– сказал Денисенко
Курбатов встал, пошатываясь, и, оттолкнув Денисенко, вышел. Светящаяся трасса прошла над ним. Он бросился на землю. Денисенко, прикрывая его, стрелял из амбразуры. Пулемет ударил по амбразуре. Курбатов проследил за направлением трассы. Потихоньку он выбрался из траншеи и пополз к реке. Опять одна очередь прошла над ним, и он лег, закрывая голову руками. Денисенко продолжал стрелять. Курбатов пополз вдоль откоса к мосту. В это время его ударили чем-то тяжелым в плечо. Падая, он увидел немца. Курбатов выстрелил в него, лежа на спине, но не понял, попал ли, так как сам покатился под откос мимо деревянных свай.
Сверху еще выстрелили в Курбатова, и одна пуля ранила его в руку. Он упал на отмель, в воду, и потерял сознание.
А Денисенко, услыхав выстрелы, выскочил наружу. Не останавливаясь, он швырнул одну за другой две гранаты туда, где, по его предположению, был пулемет. Когда он спустился к середине горы, сзади грохнули два глухих взрыва. Снизу выстрелили по Денисенко, и он лег на землю. Кто-то был у моста. Денисенко достал из кармана гранату, взвесил ее на руке и, выдернув кольцо, бросил. И сразу же метнул вторую. В карманах больше не было ничего, кроме патронов и ракет.
Денисенко ждал, не решаясь двигаться. Над лесом, на противоположной стороне, взвилась красная ракета. Когда она рассыпалась, взметнулась вторая. Мост и река были перед ним, как на ладони. У моста лежали двое убитых в темных мундирах. Недалеко, вниз по течению, на берегу, лежал третий, ноги его были в воде. Денисенко спустился под гору. Когда взлетела третья ракета, Денисенко в одиноко лежавшем узнал Курбатова. И поднимая немецкий автомат, увидел в свете от четвертой ракеты оборванный взрывом красный провод. Один кусок провода тянулся по мосту. Денисенко пошел на мост, осторожно щупая рукой шнур. У конца провода он остановился. Тут, у перил, стояли прикрытые доской два ящика, которые днем тащили немцы. Он опустился возле них на колени. И вдруг, не отдавая себе отчета, прикоснулся к ним с чувством ненависти и омерзения и, придвинув их к краю моста, опрокинул в воду. Потом он никогда не мог объяснить себе, зачем сделал это. Он думал, что взлетит сейчас на воздух. Прошло несколько томительных минут, а он все стоял на коленях. Затем поднялся, чувствуя, как дрожат и подгибаются его ноги, и пошел по мосту походкой очень усталого человека.
Он спустился к Курбатову, вытащил его из воды, положил на спину и стал отыскивать ракетный пистолет. Долго не попадая рукой в свой карман, Денисенко достал картонный патрон и вставил в ракетницу. И с радостью услышал, как завизжала ракета. Отшвырнув в сторону пистолет, он, повернувшись к Курбатову, склонился над товарищем в дрожащем свете зеленой ракеты.
1945
Танк лейтенанта Костина
Левый инсайд вышел с мячом на ворота. Навстречу ему выбежал защитник. Инсайд отдал мяч Костину, и Костин ударил, но мяч от ноги защитника пролетел над планкой, стукнувшись о бортик беговой дорожки, и запутался в георгинах, на овальной клумбе.
Все десять тысяч зрителей вздохнули, как один человек, и потом смотрели, как Костин бежал, прижав руки к телу, как доставал мяч из клумбы, как установил его у углового флага и ударил по мячу.
У Костина получилась срезка, но инсайд все-таки сумел подхватить мяч, и они разыграли комбинацию, которую набежавший центр нападения закончил голом.
Было очень радостно, когда парни с бритыми затылками, в широченных трусах, бросились обнимать друг друга.
Костин был счастлив.
Когда он шел домой, ему на глаза попалась девушка с собакой-таксой. У таксы были такие огромные уши, что они притягивали ее морду к земле. Ему почему-то очень запомнилась эта деталь – огромные уши у таксы – и почему-то рассмешила его.
Вот сейчас, по какой-то странной ассоциации, он вспомнил все это: и судью в белых трусах, с металлической сиреной в зубах, и солнце над западной трибуной, и таксу с большими ушами.
Это было год назад – их матч со спартаковцами...
Солнце пекло, и пыль стояла в воздухе, и дым стелился по земле. Время от времени вставали столбы земли, похожие на огромные черные фонтаны; они тяжело оседали, и осколки кирпичей падали рядом.
Бомбардировщики заходили в третий раз; они появлялись оттуда, с юга, и нависали над городом и бомбили его безостановочно. Костину казалось, что их было штук до пятидесяти. Они заходили с адским шумом, разрезая воздух воем сирен, и бомбы отделялись от них. Сначала они были хорошо видны, четкие и красивые, такие, как их изображают на макетах, потом они сливались с воздухом, превращались в сплошной вой и вдруг рвали землю, и воздух, и все, что было на свете.
Костин не знал, кто его посадил, спиной к стене, может, он и сам так сел – он этого не помнил. Он сидел, глядя вокруг, и потихоньку стонал.
Раньше этот грохот казался невероятным, и думалось, что человек не в силах выдержать его, а сейчас это было частью существования, и под него можно было стонать как угодно громко, не боясь, что услышат тебя. И он стонал, а вокруг все грохотало, и дрожала земля, и взлетали рядом столбы земли, и кружилась голова.
Он знал, что слабеет от потери крови, и глядел на висящие вдоль тела руки и окровавленную рубашку. Кровь засохла на рукавах, – они были заскорузлыми. И такой же была гимнастерка на груди. Голова кружилась. Все грохотало вокруг. Все грохотало вокруг оттого, что бомбардировщики заходили в третий раз.
Самолет провыл над ним. И взгляд сам потянулся за самолетом. Но голову было тяжело поворачивать, и Костин застонал громче. Он не знал названия самолета. Да и не мог раздумывать об этом. Самолет был желтым, грязно-желтым, таким же, как вся эта пыль, стоящая в воздухе целыми днями. На крыльях были черные широкие кресты с белыми полосками посредине.
Он застонал, повернув голову за самолетом, и снова вспомнил последний матч и таксу с большими ушами, и судью в белых трусах...
Костин лежал, прислонившись спиной к стене, и стонал, и солнце больно пекло ему голову.
Потом он потерял сознание, и снова пришел в себя.
Самолеты опять нависли над городом, и опять воздух рвался на части и дрожала земля.
Солнце зашло за разрушенную стену, тень легла на землю, стало легче. Костин повернул голову и взглянул на свой взвод.
Матвеенко лежал у стены, прижавшись к ручному пулемету, и вздрагивал в такт выстрелам. Выцветшая и пропыленная гимнастерка на его спине взмокла от пота и прилипла к лопаткам. Матвеенко стрелял, двигая ствол пулемета, и Иванов подавал ему заряженные диски. Голова у Иванова была забинтована, и кровь засохла на его повязке и на шее. Лицо у него было серым и осунувшимся, и он то и дело опускал голову и потом рывком поднимал ее, и его ловкие пальцы доставали латунные патроны из цинков и набивали диски.
Что-то большое и радостное подступило к сердцу,, когда Костин увидел, как Матвеенко и Иванов продолжают сражаться, – он улыбнулся и перестал чувствовать боль.
Он повернулся и попытался поднять руки. В плечах они не поднимались, и он, стиснув зубы, встал на колени и постоял так с минуту. Голова кружилась, и все качалось перед глазами. Костин знал, что это качается земля от взрывов.
Слева от него лежал Кравков, уткнувшись головой в кирпичи. Он умер еще утром. Винтовка лежала возле него с раздробленным прикладом.
Костин подполз к нему на коленях, обдирая их об осколки кирпичей, и потянулся за флягой. Он отвинтил пробку и поднес флягу к губам. Вода была теплая и грязная. Не отрываясь, он пил, запрокинув голову, а остатки вылил на волосы, сняв каску, и вода стекала с них, пробегая капельками по щекам, и приятно лилась за воротник.
Костин бросил флягу, она ударилась о камни и покатилась вниз, перевертываясь, и скрылась под обломками стены.
Матвеенко и Иванов все стреляли из пулемета, и Костин пополз к ним.
Они обернулись на мгновение, взглянув на него, и снова занялись своим делом, не высказав ни удивления, ни радости. В пробоину в стене Костин увидел ту же картину, которую наблюдал ежедневно. И почувствовал немцев, которые скрывались за разбитой стеной дома на противоположной стороне улицы, и увидел, что они бьют из пулемета, и пламя вырывается из него, и пули взвизгивают здесь над ним.
У другой амбразуры стояло противотанковое ружье. Семенчук был мертв, и ружье молчало, а Семенчук вцепился в него мертвыми руками. Косовского вовсе не было.
Костин встал и, скрываясь за стеной, пошел к противотанковому ружью, покачиваясь и останавливаясь после каждого шага. Он опустился около ружья и хотел отстранить тело Семенчука, но оно было тяжелым, и он не мог этого сделать своими ранеными руками. Тогда он отстранил его коленками, и Семенчук тяжело перевернулся на спину и раскинул руки. Дальше Костин не стал его оттаскивать и взял его винтовку. Патроны в цинке стояли у амбразуры, и он дозарядил винтовку.
Семенчук лежал рядом, широко раскинув руки, и смотрел в небо. Костин давно знал Семенчука и любил его. Они вместе приехали из Сибири, и здесь месяц назад Костин хлопотал, чтобы Семенчуку дали второй треугольничек. До войны Семенчук был колхозником, и Костин вспомнил, как к нему из деревни приезжала жена с сыном и как он отпускал Семенчука. Сейчас Семенчук лежал, раскинув руки, и смотрел в высоту.
– Гады, что наделали,– сказал Костин, думая о Семенчуке, и о Косовском, и о себе, и о всех тех, кого они потеряли за этот месяц. – Гады,– повторил он и взглянул в амбразуру.
Немцы все били из пулемета по амбразуре Матвеенко, и отсюда был виден немецкий пулеметчик, и Костин обрадовался этому, и от волнения у него задрожали руки. Не отрывая от него глаз, он потянулся к винтовке, забыв о боли. Снова пришлось сжать зубы, но он приложил винтовку к плечу и, удерживая внутреннюю дрожь, подвел мушку под немца.
Костину были видны его зеленая каска, плечо и правая рука. Но и этого было достаточно, и только было плохо то, что дрожали руки. Они дрожали от волнения, а не от боли, и он старался заставить себя не дрожать и еще крепче стиснул зубы.
Немец стрелял, и плечо его так же вздрагивало, как вздрагивало у стрелявшего по нему Матвеенко, и Костин подвел мушку под это плечо, как раз между линией камней и каской, и нажал спусковой крючок.
Он видел, как немец опрокинулся, и обрадовался этому и закричал от радости. Он убил не первого врага за войну, и его не раз пытались убить,– это не было для него новым, и самое ощущение уничтожения и смерти давно притупилось,– но сейчас он радовался, что вернулся к жизни, и больше ему ничего не было нужно. А жизнью для него сейчас было уничтожение врага, и ничто другое сейчас не могло заменить этого...
Голова перестала кружиться, и под каской было прохладно от вылитой на голову воды, и все вокруг сделалось реальным, не таким, каким было все эти дни, – резко очерченным и контрастным,– и кирпичные стены, красные с белым, с облупившейся штукатуркой, и расщепленный ствол тополя в конце квартала, и желтая пыль над городом.
Он не слышал в сплошном грохоте стука пулемета, но почувствовал, как запели над ним пули. Он пригнулся и стер пот с лица; стирая его, он коснулся рукой глаза, и пот попал в глаз, и ему пришлось протирать его.
На боль он не обращал внимания и радовался, что его взвод держит дом. Его взвод все время держал дом, это тянулось долго, и трудно было в таком аду держать дом, но они смогли держаться. Это они держали этот дом: он, младший лейтенант Костин, ефрейтор Семенчук, младший сержант Матвеенко и все другие, кто был в его взводе. Они крепко держали этот дом, и вот сегодня Семенчук лежит рядом с ним, Горкин погиб утром по дороге в штаб батальона, Егорова разорвало бомбой, другие погибли кто от пули, кто от бомбы, кто от осколка,– но погибли. Он видел сейчас только Матвеенко и Иванова.
Три человека сейчас составляли взвод.
Солнце стало закатываться, и тени вытянулись, и грохот стал меньше.
Когда к нему подполз связной командира роты, Костин сидел и перебинтовывал себя.
– Передай Тквалидзе, что от взвода осталось трое. Трое, понял? Так и скажи: трое,– Костин поднял на связного глаза.– Ну, как там, в роте?
– Быков держится. Отбил семь атак. Три атаки бы– ли с танками. У Ланкевича все спокойно,– ответил ему связной.
Костин позавидовал Ланкевичу, захотелось попасть на его место и отдохнуть от всего этого в его доте. Но он ничего не сказал связному, а только попросил завязать бинт. Связной пришел не один. Они пришли втроем: связной, старшина с термосом и Таня – ротный санинструктор.
Костин обрадовался этому и, тяжело поднявшись, подошел к Матвеенко. За весь день они не перемолвились ни словом и сейчас только переглянулись, поняв друг друга со взгляда.
– Давай, командир, поедим,– сказал Матвеенко.
И Костин понял, что в этих словах содержится все, что ему хотел сказать Матвеенко: и то, что погибли их товарищи, и то, что они вот остались живы, и что отбили все атаки, и что завтра опять начнется этот ад.
Таня перебинтовывала голову Иванову, и тот сидел, зажмурив глаза и сжав губы.
Старшина и связной перебывали за день во всех взводах и рассказывали сейчас об обстановке. Для Быкова термос с обедом оказался велик, как был сейчас велик и для взвода Костина.
Взвод Быкова отбил три танковых атаки и потерял почти весь личный состав. Командир роты приказал Костину и Быкову держаться последние сутки, а завтра вечером обещал заменить их. А сейчас оставлял у Костина связного и старшину. Костин знал, что очень трудно держать впятером этот дом в таких условиях. Но он знал также, что приказ надо выполнять, и ничего не сказал, а стал есть из котелка вместе с Матвеенко.
Совсем стемнело, и последняя трудная ночь легла на них, поглотив дневной грохот. Тишина была осязаемой после такого дня, и отдельные выстрелы казались трескотней.
Ракеты метались в вышине, прыгали лучи и плыли разноцветные трассы. Костин сидел, вновь прислонившись к стене, закутавшись в шинель, и смотрел в прохладную ночь. И думал, что вокруг лежит огромная страна, которая приказала им отстоять Сталинград, которая сказала им: «Ни шагу назад!» И вот они выполнили сегодня ее приказ, не отступив ни на шаг. И завтра они не отступят ни на шаг. И так всегда. А если же погибнут, на их место встанут новые семенчуки и костины и все равно отстоят Сталинград. Он сидел и думал о том, что немцы затеяли бесполезное дело. Наедине думалось проще, чем в разговорах во взводе,– и он думал сейчас именно о том, что немцы затеяли бесполезное дело.
Он заснул, прижавшись к стене.
Утро началось грохотом и воем, и снова воздух рвался на части.
И все началось снова. Самолеты с сиренами бросали бомбы. И бомбы тоже были с сиренами. И они визжали и рвали воздух и землю.
В полдень был убит связной, и его место заняла Таня, взяв его автомат. Она не ушла ночью отсюда, а сейчас, при свете, нельзя было идти.
В конце квартала появились танки.
Улица была узкой, и это было хорошо. Стоило подбить хоть один танк, и он бы загородил дорогу остальным.
Костин знал это и, лежа у противотанкового ружья, дрожал от волнения. И вновь он заставил себя остановить эту дрожь.
Танки шли один за другим, лязгая гусеницами по камням мостовой, и головной танк стрелял из пушки.
Вдавив приклад в плечо, Костин прицелился в башню, но рядом разорвался снаряд, и осколок вышиб «ПТР» и попал ему в левую руку. Он поднял руку, и кисть повисла, держась на коже и сухожилиях, и из нее торчала белая кость. Он подхватил кисть правой рукой и видел, как в этот момент вскочил Матвеенко и взмахнул бутылкой. Бутылка пролетела по дуге, перевертываясь через горлышко, и ударилась в башню танка. Костин видел, как она разбилась, и представил себе этот веселый звон. И видел, как пламя охватило башню – синее пламя и поползло книзу.
Так же он видел, как упал Матвеенко. Упал с груды камней туда, на улицу, головой вниз. Костин лежал на боку, прижимая кисть левой руки к груди, и глядел широко открытыми глазами впереди себя. Вновь все ходило вокруг, и ему казалось, что его кто-то укачивает.
Потом он открыл глаза и увидел, как у пулемета лежала Таня и неистово водила его стволом. Лицо ее было бледно, глаза заплаканы и дрожала нижняя челюсть.
Она прижалась к земле, вошла в нее, и ее гимнастерка была на спине такой же мокрой, как вчера у Матвеенко.
Старшина лежал у стены в той же позе, как и Кравков, у которого вчера Костин взял фляжку.
Снова все закружилось, но Костин открыл глаза и смотрел на Таню. Она продолжала стрелять, и желтые гильзы вылетали снизу одна за другой и падали в груду, ударяясь и отскакивая, и скатывались по кирпичам.
Все ходило вокруг – земля и небо,– все вспыхивало и грохотало, а Костин смотрел, как девушка лежала у пулемета и неистово стреляла по врагам.
Пекло солнце... Солнце стояло над западной трибуной, и он вышел с мячом на ворота, но защитник помешал ему забить гол... И Костин лежал и смотрел, и смотрел, не отрываясь, на стрелявшую девушку.
Она все продолжала стрелять, поливая пулемет из фляги, вставляя новые диски, ругаясь и плача, размазывая грязь и слезы по лицу.
Он видел в амбразуру, что головной танк все еще кружится на одном месте, но другой обходил его справа, и .Костин понял, что он ошибся в расчетах.
Костин знал, что он не имеет права лежать вот так. Пусть кровь течет, и кружится голова,– но Костин не имеет на это права. И он поднялся, не чувствуя веса тела, не чувствуя висящей кисти, и подошел к амбразуре и взял с камней бутылку.
Танк, опрокинув при повороте телеграфный столб, выходил сюда, и Костин швырнул бутылку, и она, также перевертываясь через горлышко, пролетела и брызнула осколками и огнем.
И танк тоже сделал попытку завертеться, но сразу же уперся в стену и в головной танк и застрял, а пламя – синенькое, веселое пламя – забегало по нему, и он грохнул, опередив своего собрата, и черный дым пошел из него клубами.
Костин выполнил свой долг; и это было его последней мыслью.
Он не видел, как из-за угла вырвались наши танки с вросшими в их броню автоматчиками, не видел, как через двор пробежал взвод Ланкевича, ведомый самим Тквалидзе, не видел, как с земли сорвалась девушка и влилась в этот единый порыв. Она бежала рядом с бойцами, с широко открытым ртом, крича что-то яростное и стреляя на ходу из автомата, висящего через плечо.
А кругом стояли сплошной грохот и вой, и в грохоте этом был и ее голос, призывающий к мести за смерть всех тех, кто не мог уже бежать рядом с ней.
1944.
Синеглазое счастье
Мне редко приходилось сталкиваться с Машенькой, потому что палата, в которой она работала, была в противоположном конце коридора. Машеньку я почти совершенно не знал, но все же она занимала мои мысли больше, чем другие сестры нашего госпиталя. Я вовсе не собирался ухаживать за ней и даже не хотел с нею дружить: она мне нравилась больше, чем другие, но через два месяца я все равно возвращался в часть.
Но смотреть на нее я любил, так как для этого не надо было выдумывать красивые слова и давать обещания, а можно было молчать и просто смотреть. Каждое утро, когда она дежурила, я выходил в коридор, доставал папиросу и прикуривал у кого-нибудь из лежащих в коридоре, потому что это было проще, чем одной рукой зажигать спичку, и стоял у дверей своей палаты, и курил, и ждал, когда появится Машенька.
Если я выходил рано, то мне долго приходилось стоять; я стоял и слушал, как в конце коридора бренчат посудой. По бокам коридора стояли койки, так как места в госпитале не хватало, а нас привезли чуть ли не целый эшелон, и комиссия, которая должна была рассортировать раненых по другим госпиталям, еще не приезжала. В коридоре лежали почти все с ампутированными ногами, они редко поднимались и почти еще не пользовались костылями, а раненые из других палат в это время еще не вставали, и поэтому в коридоре не было движения. Я стоял и смотрел, как мутный свет падал в широкие окна, как проходила какая-нибудь сестра с кувшином и подавала умываться больному, как больной капризничал и она долго его уговаривала. Потом начинали разносить завтрак, и я ждал, когда появится Машенька. Она шла, всегда немного улыбаясь, чуть-чуть, только краешками губ, и несла над головой деревянный поднос с тарелками; я смотрел, как она проходила мимо, и поворачивал голову, и затягивался папиросой.
Одевалась она очень небрежно, волосы были растрепаны и лезли из-под косынки. Почему-то, несмотря на едва тающий на улице снег, она всегда ходила без чулок. И я очень любил смотреть на ее ноги в меховых полусапожках: мне казалось, что я еще не видал ни у одной женщины таких стройных ног, и мне всегда хотелось посмотреть на ее ноги в шелковых чулках и каких-нибудь красивых туфлях с огромным каблуком и на нее в крепдешиновом платье и с интересной прической, смеющуюся, веселую и остроумную. Я знал, что она в жизни именно такая, а здесь она была в мятом халате, и всегда молчала, и проходила по коридору одна, и я смотрел ей вслед, а она шла, подняв поднос над головой. Она проходила много раз по коридору, и я все стоял, смотрел и курил, и мутный свет падал через большие окна.
Потом она приносила завтрак в нашу палату; я сторонился у дверей и давал ей пройти, но никогда не здоровался. После того, как она проходила по коридору в последний раз, я входил в свою палату и садился на койку; положив раненую ногу на табуретку, начинал завтракать. Я все думал о Машеньке. И решил: надо все-таки меньше о ней думать. Не стоит думать о Машеньке. Не стоит о ней думать.
Так прошел целый месяц, и я ни разу не разговаривал с нею, но крепко дружил с парнями; они приходили ко мне каждое утро и кричали: «Здорово, Алешка!»– и мы спускались в нижний этаж, где в вестибюле стоял бильярд, и выживали играющих, потому что были старожилами, и долго играли на бильярде, и много курили. И хотя в вестибюле было холодно, здесь проходила большая часть нашего времени. Около нас всегда собиралась большая компания, и была очередь на игру с победителем. Мы много смеялись и разыгрывали кого-нибудь, и часто раздавались какие-нибудь песни. Особенно любили мы одну: она была немного бессмысленной, но задушевной и печальной. Мы старались ее петь, растягивая так же, как ее пел парень с баяном в одном фильме. Когда я уставал играть, я забирался на парту, которая осталась здесь от школы, и укладывал больную ногу на спинку; около меня собирались друзья, и мы начинали петь эту печальную песню о молодом черноморце, который прощается с родными и с Мару– сей, который крепко воевал, как и мы, а сейчас вот лежит с разбитой головой.
Друзья сидели рядом со мной, а кто-нибудь из них еще продолжал играть, и когда нацеливался кием в шар, халат его распахивался и виднелась серебряная медаль «За отвагу», и когда он резко ударял кием, медаль вздрагивала и трепыхалась; потом парень снова запахивал халат и начинал, согнувшись, ходить вокруг стола, высматривая хороший шар. У меня тоже была такая медаль, кое у кого были и ордена, а у некоторых не было ничего, но все равно это были хорошие парни, и все они одинаково хорошо воевали в свое время, и я любил их здорово. Комиссар часто бывал с нами, разговаривал запросто, и так как мы здесь были в халатах, а не в гимнастерках, мы его нисколько не стеснялись, но всегда разговаривали на «вы», и уважали его, и любили. Он всякий раз, когда приходил, распечатывал новую пачку папирос и угощал нас; мы курили и вспоминали фронт, а часто и мирную жизнь, и он много рассказывал нам интересного. Он был потомственный военный, был ранен под Ельней и сейчас ходил, опираясь на палку, и мы очень уважали его за это, как всякий фронтовик фронтовика, и знали, что орден Красного Знамени получен им заслуженно.
Мои друзья-парни иногда менялись: одни уходили в батальон выздоравливающих и возвращались на фронт, другие уезжали в тыл на длительное лечение или совсем домой. Но компания, несмотря на это, всегда оставалась и внешне казалась неменяющейся, и мы всегда собирались у бильярда. Около нас частенько бывал комиссар или кто-нибудь из врачей и уже всегда девчата, и парни шутили с ними. Я совершенно не имел дела с девушками, мне с ними было скучно.
Не бывала внизу одна Машенька. Впрочем, еще некоторые девушки не бывали здесь, те, которые дежурили в офицерских палатах.
Так хорошо я жил месяц. Потом ведущий хирург решил, что хватит мне так ходить, и записал на операцию. Два дня мне не давали вставать с постели и готовили к операции ногу. Операция меня не страшила, только было скучно лежать, но хлопцы приходили развлекать меня, и по существу ничего не изменилось, мы по-прежнему были вместе. Только когда мы много курили, приходила сестра, выгоняла хлопцев из палаты и открывала окно. На улице таял снег, я лежал и смотрел в окно, как каплет с крыши, и иногда читал старую подшивку «Красного спорта». Подшивка вся была изодрана на курево, но я все равно любил ее читать и подолгу рассматривал иллюстрации.
Все было хорошо, только чуточку не хватало Машеньки, и я вспоминал, как она проходит по коридору, неся над головой поднос, и улыбается краешками губ.
Пролежал я два дня. Потом меня вызвали. Весь госпиталь знал, что Алешке Иванову делают операцию: друзья проводили меня до дверей, и когда я вошел в операционную, они забрались на стол, чтобы смотреть через верхнее, незамазанное стекло в дверях. В операционной, прислонившись спиной к стене, стояла Машенька. На одном из двух высоких столов лежал казах из восьмой палаты, на лице у него была маска из марли; в головах стояла операционная сестра и разбивала над маской ампулу. Живот у казаха уже был распластан, и ведущий хирург возился в нем обеими руками, перебирая пальцами кишки. Кровь заполняла всю полость и бежала через край, впитываясь в простыню, и было страшно.
Мне велели раздеваться и ложиться на другой стол; я оглянулся на Машеньку; она стояла, откинув голову назад, и глядела поверх меня. Я разделся, переступая ногами. Других сестер я не стеснялся, так как давно привык к этому, но поторопился скорее закрыться простыней и лег на холодный стол, устроившись очень удобно, положив правую руку в лангете в сторону.
Операцию стала делать докторша. Операционная сестра стояла надо мной, чуть наклонившись, и держала меня за плечи и улыбалась. Она старалась сделать так, чтобы я не видел, как колют мою ногу. Машенька стояла у дверей, смотрела и тоже улыбалась, так, будто знает меня с самого рождения, и напрасно я все скрываю от нее, она все, все знает, и даже сейчас читает мои мысли, и видит, что мне больно, когда втыкают в меня огромную иглу, и что я сдерживаю себя, потому что стесняюсь ее.
Я отстранил сестру и поднялся на локте и стал смотреть на ногу. Докторша втыкала иглу в бедро вокруг раны, и особенно было больно, когда она уколола несколько раз в пах; потом нога ничего не стала чувствовать, это была уже не моя нога, а какой-то толстый брезент. Потом докторша взяла ножик и полоснула им прямо по ране, но я ничего не почувствовал, только кровь хлынула из разреза и окрасила простыню, которой была обложена нога. Докторша очень ловко действовала ножом, быстро вырезала из раны несколько кусочков и бросила их в таз вместе с пинцетом. После этого она перепробовала несколько ножей и, остановившись на каком-то узеньком, стала им вырезать осколки. Сейчас я уже чувствовал нож и, видимо, побледнел, так как сестра наклонилась ко мне и, улыбнувшись, потрепала меня по голому плечу. Рука у нее была маленькая, белая, с пухленькими пальчиками, и очень нежная. И не знаю, по какой ассоциации, я почему-то вспомнил свою мать, далекую, нежную и любящую. Много лет она не видела своего сына, а он эти годы валялся под рвущимися снарядами, ходил в атаку, пил водку, ругался и дружил с людьми, которые годились ему в отцы. Сколько раз он умирал и лежал на госпитальных койках, и резали его, забинтовывали, и он снова возвращался в траншеи, и снова ходил в атаку, и стрелял, и делал все это ради того, чтобы другим уже этого не делать никогда, чтобы она, мать его, спокойно жила и все другие жили спокойно... Мама, слышишь ли ты меня, своего сына, чувствуешь ли, что сын твой давно перестал быть мальчиком, стал взрослым и чужим? Нет, мама, не верь этому. Он по-прежнему маленький и беззащитный. Видишь: он готов расплакаться, когда нежные руки приласкали его, и он бы расплакался, если бы не девушка, которая стоит у дверей и смотрит на него из-под больших опущенных ресниц.
Я грубо отстранил сестру, но голова закружилась, и почему-то стало муторно. Я боялся, как бы меня не стошнило. Ноге совершенно не было больно, только неприятно было смотреть, как из раны течет кровь и простыня набухает и оседает складками, красная и тяжелая. И только когда рану стали зашивать, я почувствовал боль, но и то на мгновение. Мне стало очень нехорошо. Казалось, что это не моя нога и даже не брезент, а тяжелая кожаная покрышка от футбольного мяча, и ее зашнуровывают почему-то без надутой камеры, пустую, и торопятся к матчу и не попадают иглой с зашнуровкой в дырки. И продергивают шнурок прямо через кожу, и нога не моя, и мутит всего, и голова кружится, а мама где-то далеко и не знает, что сын ее умирает в очередной раз, и палата перевертывается вверх ногами, а потом в обратную сторону, и так несколько раз, как маятник, и ногу шнуруют и шнуруют...
Мне было стыдно перед Машенькой за свою слабость, и я попытался улыбнуться. Она тоже мне улыбнулась, а когда кончили операцию, проводила меня в палату. Ночью больная нога мучительно ныла, но дежурила Машенька, и она пришла ко мне и сделала так, что я забыл о своей ноге. Она сидела около меня в темной палате, и я обнимал ее здоровой рукой и прижимал ее голову к своей груди. В комнате была темнота от замаскированных окон, только полоска света падала из коридора в приоткрытую дверь, на улице капало с крыши, девятнадцать человек лежали в моей палате, и, конечно, половина из них не спала, а я целовал Машеньку в самые губы, и капал дождь, и было темно и тихо, и Машенька была со мной, и нога больше не болит, и так бы всегда и всегда.
Потом она ушла, и я долго лежал и думал о ней. Мне пришла в голову мысль, что это, может быть, новый способ лечения, успокаивать боль, что она со всеми так.
Но она пришла ко мне и на другой день, и еще на другой, и потом еще и еще, и так каждый день. Я и не знал раньше, что можно быть таким счастливым. Только друзья мои обижались, что я променял их на бабу, но я ничего тут не мог поделать, и, вероятно, все это поняли, потому что стали относиться к ней так же хорошо, как и ко мне, и часто ребята из ее палаты ничего не давали ей делать, и поэтому большую часть дня она проводила со мной. По утрам, когда она дежурила, я снова стал выбираться в коридор и стоял там, опираясь на один костыль, и курил, а Машенька проходила мимо, теперь уже всегда в чистом халате и накрахмаленной косынке, и кивала мне головой, и когда шла с пустым подносом, подходила ненадолго ко мне, а потом шла дальше, и я смотрел на нее, и курил, и ждал, когда она снова выйдет с завтраком.