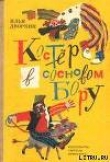Текст книги "Костер на льду (повесть и рассказы)"
Автор книги: Борис Порфирьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
В этом зареве ветровом
Выбор был небольшой,–
Но лучше прийти с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.
(Михаил Луконин).
Когда я вошел к комиссару, он расхаживал из угла в угол. Увидев меня, он сделал несколько торопливых шагов навстречу, пожал мне руку и, не выпуская ее, сказал, как полгода назад:
– Мне нужно поговорить с вами о важном деле.
– Я к вашим услугам.
– Полчаса назад мне звонили из обкома партии: получен приказ Государственного Комитета Обороны...
Он не докончил фразы, подвел меня за руку к окну и, по-отечески обняв за плечо, спросил:
– Видите на горизонте дымки?
Я улыбнулся:
– Они целый год у меня перед глазами.
– Ну, а перед глазами, так нечего вам объяснять. Это – ГРЭС.
– Слышал.
– А если слышали, так знаете, что зависит от ее работы. Наших танков ждет фронт. Торф для нашего областного города, в котором расположена ГРЭС, – самое узкое место. Не получит она торфа – остановятся заводы. Поэтому постановление ГКО о мобилизации специалистов железнодорожного транспорта особенно важно для нашей области.
– Все ясно,– сказал я.
– Как офицер, вы демобилизованы. Даже мы не имеем права задерживать вас у себя. Но как комсомолец, вы всегда должны быть готовы пойти на прорыв. Так же, как и мы – коммунисты.
– Я думаю, что вопрос исчерпан,– сказал я, хотя все это было для меня неожиданностью.
Он уселся в кресло и, взяв из моих рук диск, рассматривая его, произнес:
– С удивлением я наблюдаю из окна, как вы занимаетесь с этой штукой. Сколько все-таки в вас упорства и, я бы сказал, мужества, даже зависть берет порой...
Я смутился и, помолчав, признался ему:
– Нет, это совсем не так. Бывало, я распускался, как маменькин сынок, и совсем отчаивался.
Глядя на меня устало и, как мне впервые показалось, близоруко, он сказал:
– Не мудрено, когда по три дня нельзя валенка снять, потому что нога стала, как бревно...
Меня поразило, что он знает даже об этом.
А он выдвинул ящик стола и, достав блокнот и полистав его, поднял на меня глаза.
– Знаете, читал я на днях на сон грядущий переписку Николая Островского с женой... Попались мне такие слова: «Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом! К черту людей, не умеющих жить полезно, радостно и красиво. К черту сопливых нытиков! Еще раз да здравствует творчество!»... Пусть эти слова будут моим напутствием вам... Отдохните денька два, заместителя мы вам найдем, и отправляйтесь в область... Ну, будьте счастливы! Очевидно, попадете на работу в торфотрест. Он, кстати, в квартале от моей семьи. Вот вам адрес – зайдите как-нибудь.
Спускаясь по лестнице, глядя, как раненые гоняют костяные шары бильярда, я думал: «Вот и хорошо. Здесь меня заменит любая девчонка, а я буду заниматься настоящим делом». Позже, когда я лежал на койке, крутя в пальцах одуванчик, у меня возникла мысль, что в областном городе я отыщу опытного тренера и поговорю с ним насчет занятий диском; что он, интересно, скажет?
Однако с мечтой о тренере мне пришлось расстаться, когда двумя днями позже я сидел в кабинете начальника транспортного отдела торфотреста. О том, чтобы остаться в областном городе, не было и речи. Люди требовались на предприятия. Меня направили на Быстрянстрой и объяснили, как туда добраться, но когда узнали, что я приехал с Раменки, сказали:
– Ну, от Раменки там рукой подать. Не больше пятнадцати километров. Доберетесь с попутной лошадкой.
Начальник отдела, объясняя это мне, торопился, совал в портфель какие-то бумаги. Я поблагодарил его и вышел на улицу. Лил сильный дождь. Я перебежал дорогу и спрятался под широким балконом почты. Дождь остервенело хлестал по асфальту, бурлящие потоки мчались по обочинам. Первый весенний гром раскалывал небо.
Дождь прекратился неожиданно. Выглянуло солнце, облака разбежались. А чуть позже, когда я сидел в вагоне и смотрел на промытые дождем зеленеющие поля, через все небо перекинулась яркая радуга. Где-то я читал, что человек, прошедший под ее аркой, становится счастливым...
И на другой день брызнул дождик, маленький, и снова появилась радуга, и я, шагая по прибитой пыли проселочной дороги, думал о том, как бы мне дойти до тех мест, где радуга перекинула свой мост. Вот здорово бы пройти под ней где-нибудь перед Быстрянстроем!
Шинелка висела у меня на руке, за спиной в вещмешке болтался диск и полбуханки хлеба. Я смотрел по сторонам. Мелкий осинничек робко жался к дороге, поблескивали водяные оконца среди кочек, поросших чахлой травой; ни конца, ни края болоту... Послышался цокот копыт. Не обертываясь, я ступил в сторону. Меня обогнал плетеный возок и остановился. Рядом с возницей примостился сухонький человечек в оловянных очках, держа на острых коленях берестяную сумку. А сзади, развалившись, восседал обрюзгший, красно-лоснящийся мужчина. Ящик водки, едва прикрытый пучком травы, стоял в его ногах.
– Стой! Куда идешь?– прогремел он.
– А что такое?
– Я спрашиваю, куда идешь?
– Туда, куда надо.
Он ухмыльнулся и изрек:
– Ко мне идешь. Здесь больше некуда.
– Нет, не к вам. На торф.
– На торф – значит, к Хохлову,– отрезал он.
Я промолчал. Мой взгляд прошелся по синим бутылкам с яркими красными головками, по громоздкому свертку, закрученному в ковер, и остановился на пьяной самодовольной роже.
– Ну-ну,– сказал он и тоже окинул меня с ног до головы взглядом.
Я молчал.
– Поехали!– гаркнул он.
И лошадка затрусила, завздрагивала плетенка, осевшая под тяжестью хозяина. Ее колеса оставляли глубокий след на податливой черной дороге.
Когда я вышел к речке, паром с плетенкой приставал к противоположному берегу. Я присел на бревно, вросшее в землю. Лошадь тяжело поднималась в гору, колеса по ступицу проваливались в песок, а хозяин восседал в прежней позе – не шевелился. Возница с человечком в очках подталкивали плетенку.
«Есть категория людей, которые любят, чтобы у них просили,– подумал я.– Он ждал, что я попрошусь подвезти...»
Возвратился паром. Обросший бородой паромщик равнодушно спросил:
– Поедем, что ль?
Я оглянулся по сторонам, но никого, кроме меня, не было. Мне было совестно утруждать паромщика.
– Закурить нет?– спросил он.
Я развязал вещмешок и отдал ему свой табак. Закурив, паромщик оттолкнулся багром от берега. Железный трос выгнулся дугой; казалось, что мы оторвемся и поплывем вниз по речке, но паромщик выбросил окурок в воду и начал лузгать семечки. Шелуха их прилипала к его бороде. Он ни разу не посмотрел на меня, не проронил ни слова, не поблагодарил за табак. Когда я взбирался в гору, он глядел в сторону и плевался шелухой.
Я вышел на дорогу. Красные мачтовые сосны вплотную подступили к ней с двух сторон. Ноги мягко утопали в желтом песке, усыпанном прошлогодними иглами. Маленькая деревенька раскинулась за поворотом дороги. Она была пуста. Тявкнула где-то собака, но и той я не видел. Около ветхого сарая стоял трактор без гусениц, поросший травой. Это был или катерпиллер, или первый выпуск ЧТЗ. Дорога опять вывела меня в сосновый бор. Я сильно устал, ныла нога. Идти по песку было тяжело. К счастью, сосняк скоро кончился. Передо мной открылась черемуховая аллея. Это, очевидно, была ранняя черемуха. Она благоухала. Я уселся на опушке под высоким цветущим деревом и достал хлеб. Уничтожив его, я откинулся на шинель и стал смотреть на гроздья черемухи. Чувствуя, что начинаю дремать, я заставил себя подняться. Отыскал стройную березку и перочинным ножом вырезал трость.
С тростью идти было легче. На развилке я остановился. Гадая, в какую сторону мне податься, я увидел старика.
– Дедушка! Как мне пройти на Быстрянстрой?
Испуганно глядя на палку в моей руке, он замахал руками:
– Иди, иди своей дорогой.
– Так ты объясни, где моя дорога.
Я пошел к нему навстречу, но он шарахнулся в заросли черемухи.
Я остановился.
– Не бойся, дедушка. Ты только скажи, по которой дороге мне идти?
Он недоверчиво посмотрел на меня и спросил:
– На Быстрянку, что ли?
– На нее, на нее.
Он повернулся ко мне спиной и, показывая в левую сторону, сказал:
– Вправо надо идтить.
– Так вправо или влево?
– Вправо, милый, вправо...
Я пошел направо. Примерно через час я понял, что ошибся. Нога моя совсем отказывалась служить. Я брел, тяжело опираясь на палку. Стало смеркаться. От мысли, что придется заночевать в лесу, мне стало тоскливо. Но вот мое ухо уловило лай собак, и я прибавил ходу. Вскоре показалась деревня. Все ее дома были темными. Я медленно шел по улице, выбирая окно, в которое можно постучаться. Собаки лаяли на меня из каждой подворотни, но нигде не открылась дверь. Наконец, я увидел в одном из окон огонек. Это падал свет из топящейся печки. Я постучал в стекло. Выглянула старуха, глухо повязанная платком. Она пригласила меня в избу, но я не вошел и попросил объяснить, как пройти на Быстрянстрой. Оказалось, что я дал крюка. От деревни до Быстрянки было еще два километра. Я поблагодарил старуху и зашагал дальше.
Совсем стемнело, и я с трудом различал дорогу. Проступаясь в колею, я прикусывал от боли губу. Ветер шумел вершинами деревьев. Какая-то птица поднялась с корявой сосны и тяжело полетела прочь. Наконец, я увидел огни поселка. Они тускло светились в ложбине, залитой туманом. Цепочка их уходила к лесу и терялась там. Я долго еще пробирался по болоту, пока не вышел на улицу поселка. Играла гармошка. Из открытых форточек барака доносились звуки радио. Пахло кислыми щами. На пороге, свившись в клубок, дрались две кошки. Навстречу шла женщина, так же глухо повязанная платком, как давешняя старуха; поверх лыжных брюк у нее было надето ситцевое мятое платье. Разговаривая с ней, я убедился, что она совсем молодая, но тень от черного платка, нависшего треугольником надо лбом, скрадывала черты ее лица. Она сказала, что директора торфопредприятия Хохлова сейчас не найти. Говоря это, она усмехнулась. Я вспомнил лоснящуюся от сытости и водки физиономию... Так, так. Он, значит, не ошибся, что я иду к нему... Мне захотелось отыскать кирпичную стену, чтобы измочалить о нее мою палку. Но рядом был жиденький плетень. Вышвырнув палку на гряды, я пошел искать начальника ЖКО.
К моему удивлению, меня встретил худенький человечек, подобострастно толкавший в гору плетенку.
Столкнувшись со мной взглядом, он ухмыльнулся, изучил мое направление и повел меня в общежитие. Уборщица выдала матрац, набитый стружкой, и тяжелую отсыревшую подушку. Я умылся под медным рукомойником, напоминающим опрокинутый богатырский шлем, и лег на топчан. За деревянным, добела выскобленным столом сидел усатый дядька, райпожнадзор, как он с достоинством отрекомендовался мне. Складным ножом пожарник отрезал тонкий ломтик сала, солил его, клал в рот. Потом отрезал кусочек от круглого каравая. Чтобы не видеть, как он священнодействует, я отвернулся к стене. Я лежал и глотал слюну. Рука моя нащупала плотную ткань вещмешка. Кроме диска, в нем ничего не было.
Мои размышления прервал голос уборщицы. Она предлагала мне чаю. Я сел к столу, стараясь не глядеть на пожарника, и, обжигаясь, прихлебывал кипяток из побитой эмалированной кружки. Женщина остановилась напротив меня, подперев рукой щеку. Потом принесла блюдечко дымящейся нечищенной картошки и, поставив его передо мной, приняла прежнюю позу. Мальчик лет десяти держался за ее юбку. Но он смотрел не на меня. Он не спускал зачарованных глаз с пожарника. А тот невозмутимо, размеренными движениями, отрезал ломтики розового сала, и казалось, что шматок его не убывает... Отчего я не мог ничем угостить малыша с глазами голодного волчонка?.. Опустив глаза, я молча чистил картошку. Ничего на свете не было слаще этой картошки. Я не сменял бы ее ни на какое сало. И тем не менее, она становилась у меня поперек горла...
Я спал беспокойно. Всю ночь меня мучили кошмары. Во сне я дрался с Хохловым и пожарником; сила была на их стороне, и они меня побили. Когда я проснулся, пожарник довольно похрапывал, закинув голову и выставив острый кадык. Я нарочно громко возился, кашлял и чихал, чтобы не дать досмотреть ему сон, в котором он, очевидно, избивал меня, но все было напрасно. Так и не разбудив его, я отправился к начальству на прием. Хохлова не было и сегодня. Я хотел пройти к его заместителю, но накрашенная секретарша сказала, что Осип Николаевич занят. Я объяснил, зачем прибыл. Не глядя на меня, загибая на тоненьком лезвии ножика ресницы, она попросила повременить... За окном виднелся железнодорожный состав. Вдалеке светился зеленый глаз семафора. В голубом небе кружили белые комочки голубей.
Через полчаса Осип Николаевич освободился и принял меня. У него была лошадиная голова и красивые миндалевидные глаза с бархатными ресницами.
Он изучил мое направление, документы, характеристики и стал бесцеремонно разглядывать меня.
– Так, так... Значит, приехали по назначению?.. Отлично, отлично... Денька два осмотритесь... Да, денька два... Появится Хохлов... Он сейчас на участках... Возвратится начальник транспортного отдела... А пока отдыхайте...
Я хотел было сказать, что поскольку я считаю себя мобилизованным ГКО, то согласен начать работу с сегодняшнего дня. Но Осип Николаевич остановил меня рукой и продолжал говорить:
– Отдыхайте, отдыхайте, работа никуда не уйдет... А насчет карточек не беспокойтесь... Сейчас получите рабочую – восемьсот граммов хлеба... Зарплату начислим с сегодняшнего дня... А поселитесь в общежитии ИТР, займете комнату,– он снял телефонную трубку и вызвал коменданта:
– Слушай, тут надо устроить приехавшего товарища...– Он взглянул на меня своими миндалинами:– Как ваша фамилия?
Я с удивлением посмотрел на документы в его руках, но сдержался и назвал свое имя.
– Так вот, надо устроить товарища... Снежкова... Да, да, отдай ему эту комнату. Ничего, пожарник уедет... Закрепи ее за... Снежковым. Вот так.
Он вызвал звонком секретаршу, которая уже успела завить ресницы, и приказал выдать мне карточки и какие-то талоны. Она порылась в ящике письменного стола и через полминуты превратила меня в богача. Мало сказать, что я сжимал в руке рабочую карточку! Я был обладателем талонов на пять килограммов хлеба, на килограмм сахара и на килограмм жиров!.. Удивляясь тому равнодушию, с каким она распоряжалась этими сокровищами, я торопливо расписался. А вскоре я уже шагал в общежитие, до подбородка нагруженный продуктами. Райпожнадзор сидел на вчерашнем месте. Если бы я не видел своими глазами нацеленного в потолок кадыка и не слышал храпа, я бы подумал, что он провел за едой всю ночь. Он с прежней невозмутимостью отправлял себе в рот розовые ломтики сала, и было удивительно, что шматок, лежавший перед ним, не только не убыл, но стал еще больше.
Пожарник скользнул по мне равнодушным взглядом и продолжал есть.
Я выложил на стол буханку черного хлеба, буханку белого, осторожно опустил фуражку, полную сахарного песка, поставил две бутылки хлопкового масла и выгрузил из карманов груду гречневой крупы. Я думал, что ошарашу пожарника, но он лишь покосился на мое богатство и снова вперился невидящим взглядом в потолок.
Он жевал равнодушно и беспрерывно, как лошадь жует сено, когда у нее на глаза надета торба! Я позвал уборщицу и попросил ее сварить полный чугун каши. Я демонстративно отодвинул пожарницкий шматок сала на край стола, хотя он мне и не мешал. Я живописно разложил на столешнице широкие ломти белого и черного хлеба. Я установил в центре глиняную плошку с сахарным песком. Я поставил три глубокие тарелки. А он все жевал!..
А в это время, притулившись к косяку, плакала уборщица; плакала беззвучно, прикладывая к глазам фартук. Зайдя за ложками и увидев ее в этой позе, я растерялся. Я ломал всю эту комедию ради пожарника, а получилось так, что я пускал пыль в глаза женщине за вчерашнее блюдечко картошки...
Грубо выругав себя, я взял за руки ее мальчика и усадил к столу. Уборщица молча поставила чугун быстро сварившейся каши, разложила ее по тарелкам, налила масла. Я потянулся было к бутылке, чтобы добавить масла и ей, и мальчику, и себе, но не решился. Я понял, что щедрость бывает хороша лишь тогда, когда на нее не обращают внимания.
А пожарник все жевал. Он, по-моему, проявил интерес только к нашему сахарному песку. Когда мы макали намоченные в чае куски белого хлеба в плошку, он замер с открытым ртом, следя за движением наших рук. Потом завернул сало в тряпочку, собрал со стола хлебные крошки, бросил их в рот и, туго перепоясав зеленую телогрейку, ушел по своим делам.
Глава десятая
Мое поколение —
это зубы сожми и работай.
Мое поколение —
это пулю прими и рухни.
Если соли не хватит —
хлеб намочи потом.
Если марли не хватит —
портянкой замотай тухлой.
(Павел Коган).
Последние тренировки в Раменке мне представлялись сейчас детской игрой. С теперешней работой разве что могла сравниться лишь заготовка дров для госпиталя. До дому я добирался только в сумерки и валился на койку, не снимая сапог. Уборщица робко заглядывала в комнату и спрашивала, можно ли собирать на стол. Я через силу улыбался, произносил виновато:
– А у тебя не остынет, Настя? Если нет, то подожди немного.
Она осторожно прикрывала дверь.
Однажды, когда у меня не только ломило ногу, но и ныли мышцы, потому что я весь день помогал девушкам таскать рельсы и заколачивать костыли, я уснул, не раздевшись. Ночью я почувствовал, что кто-то стягивает с меня сапоги. Я открыл глаза и увидел Настю. Мне стало стыдно. «Распустился, как маменькин сынок,– обругал я себя и поклялся:– С этого дня, Настенька, ты не увидишь меня на постели в таком виде». И как ни было трудно, я держал данное себе обещание. Да, в конце концов, не каждый же раз я так утомлялся. Бывали дни, когда я почти не уставал, и если бы не раненая нога, был бы совсем бодр.
Однако нога не давала мне покоя. Я боялся даже прикинуть, чтобы не сразить себя, сколько километров мне приходилось проходить от бригады к бригаде. Я возненавидел шпалы, мешающие идти в ритме, и скрипящую гальку, которая лишала ногу крепкой опоры. Но еще больше меня огорчало отсутствие пикетных столбиков, потому что все погрешности приходилось записывать на глазок. Попробуй растолкуй потом девушкам, где, на каком километре нужно произвести ремонт.
Строя автомобильную дорогу под Ленинградом, мы и то оставляли ориентиры.
Склоняясь над рельсом, я проклинал строителей, забывших о пикетных столбиках, и часто в раздражении присаживался на насыпь. «Ну, как я опять буду давать задание девушкам? Опять придется говорить: исправьте против такого-то куста! Разве это работа?!» Я со злостью смотрел вокруг. Природе не было никакого дела до моей усталости. Черемуха буйно цвела. Деревья, чудом оставшиеся на голой равнине подле моста, источали аромат. Кружились два желтеньких мотылька. На мутной поверхности речки покоились зеленые листочки ряски. Я сидел и, швыряя гальку в воду, наблюдал за наплывающими друг на друга кругами. Вдоль полотна тянулась телеграфная линия. Столбы ее еще не успели посереть. На каждом столбе, как вывеска, чернела грубо написанная цифра. Неожиданная мысль пришла в голову: «Вот что заменит мне пикеты! Не все ли равно, что расстояние между телеграфными столбами пятьдесят метров, а между пикетными – сто? Был бы ориентир!» Я торопливо пошел назад. Да, все оказалось очень просто. Надо только записывать номер столба и указывать погрешность!
Наутро, давая задание, я уже говорил девушкам:
– Против 253 столба проверить путь: там перекос влево. Левую нитку поднимите и выверьте по уровню. У 261 столба устраните толчок. Проверьте и укрепите стыки.
Это открытие облегчало работу, но, конечно, не избавляло меня от ходьбы. В конце концов, я должен был вырезать трость. Опираясь на нее, я ковылял по шпалам, склоняясь над рельсами через десяток метров и прикладывая к ним уровень. Когда нога начинала пылать, как в огне, я садился на насыпь и думал со страхом: «Не успею проверить сегодня... Какое задание я дам утром бригаде?»
Я снова подымался, стараясь не обращать внимания на ногу, и принимался за работу. Когда было невмоготу, я вспоминал слова комиссара: «Если не будет торфа – не будет танков», и говорил себе, что нельзя, чтобы торф не вывезли по моей вине. Случалось, что мне приходилось кончать обход ночью, в полной темноте.
Какой чудесной и легкой казалась мне сейчас жизнь в госпитале! Но я знал, что здесь я был нужнее, чем там, и приказывал себе не распускаться.
Как-то, это было уже недели через две после моего приезда, я окончательно выбился из сил, и, отчаявшись, уселся у моста напротив полюбившихся мне черемух. Цвет их опал, но я подумал об этом равнодушно. Так же равнодушно я посмотрел на султан дыма, возникший за ними на фоне голубого неба. Отстукивая колесами, подошел паровоз. Я скользнул по нему взглядом и отвернулся. Машинист с коричневым задубевшим лицом окликнул меня и предложил закурить, но я молча покачал головой.
Он сел рядом со мной, крякая по-стариковски, достал кисет; скручивая цигарку, ворчал беззлобно:
– Охо-хо... И чего это все путейцы ходят и ходят... Ноги себе сбивают... А проехали бы на паровозе – и узнали бы, как тебя болтает туда-сюда...
У меня не было никакого желания разговаривать.
Он покосился на меня; долго курил молча, глядя прищуренными от солнца глазами в небо. Потом спросил:
– Новенький?
Я неохотно кивнул в ответ.
– Институт, небось, окончил?
Я опять расщедрился лишь на кивок.
Старик усмехнулся.
Мне стало обидно, но я промолчал.
А он не отставал от меня,– спросил:
– Не коммунист, случаем? Или молод еще?
– Молод,– буркнул я сердито.
Он с улыбкой оглядел меня, но в его глазах уже было любопытство, а не усмешка.
– Молод, а на фронте, небось, успел побывать.
Я снова промолчал.
Тогда старик тщательно загасил цигарку о рельс и тяжело поднялся. Уходя, пробормотал себе под нос задумчиво:
– Ходят и ходят – ноги себе сбивают... Путейцы...
И вдруг меня осенило!
Кто это там вскричал: «Эврика»? Архимед или Пифагор? В истории я был не силен, но что такой возглас в свое время раздался – на это моих познаний хватало... Эврика! Моя нога спасена! Зачем мне без конца шагать по шпалам и через каждую дюжину метров склоняться над рельсами, чтобы проверять их по уровню? Как я не додумался раньше! Ведь паровоз мотается из стороны в сторону, вздрагивает на стыках, а мое дело только записывать номера проплывающих мимо телеграфных столбов и делать пометки!
Я ликовал. Я первый раз за все эти дни был весел. Мне хотелось расцеловать старика-машиниста, написать веселое письмо Ладе, запустить диск за флажок любого рекорда, запеть песню про парня, которому все удается, потому что у него легкая рука.
Я вскочил, сделал несколько шагов, вернулся, похлопал себя по карманам, но папирос не было, потому что на днях меня обуяло очередное желание бросить курить, снова уселся на рельс и решил подождать, когда вернется паровоз. Ждать пришлось долго, но я сейчас никуда не торопился, и прекрасное настроение не покидало меня.
А часа через два я стоял подле машиниста на фартуке паровоза и, как и предполагал, раскачивался вместе с ним, и в моей записной книжке рядом с номерами столбов появлялись галочки, направленные острием вправо или влево, которые обозначали перекос правого или левого рельса, и буква «Т» – первая буква слова «толчок».
Впервые возвращаясь домой засветло, я напевал песню. До чего все-таки было хорошо мое открытие! Около общежития я не удержался и наломал сирени. Я попросил у Насти банку и поставил сирень на стол. Мне хотелось поделиться своей радостью с Ладой. Обрывая губами нежные терпкие лепесточки, я сидел над листом бумаги, задумчиво глядел в темное незашторенное окно. Потом вздрогнул, улыбнулся и начал писать. Когда я перечитал письмо, то удивился, что ничего не рассказал о сегодняшнем дне. Я писал о Насте и ее маленьком Мишке, о первом впечатлении, которое произвел на меня Хохлов, о пожарнике, жующем сало, и даже о черемухе и сирени – обо всем, кроме сегодняшнего открытия. Но я не стал ничего переписывать. Заклеив конверт, я улегся на постель, закинув руки за голову, и поймал себя на том, что не спускаю глаз с засиженной мухами лампочки. Спать не хотелось. В поисках книги я отправился к Насте. Однако, кроме двух старых газет, у нее ничего не оказалось. Я прочитал их, начиная с заголовка и кончая телефонами редакции, и долго еще лежал без сна.
С этого дня работа моя сразу облегчилась. В шесть утра я садился на паровоз, вооружался записной книжкой и карандашом, и через час уже мог заполнить наряды на работу.
Если – случалось – паровоз вел тот самый старик-машинист, я не только не молчал, как тогда, сидя на рельсах, а разговаривал с ним с большим интересом: уже на следующий день, случайно разоткровенничавшись с Настей, я узнал, что он был секретарем партийной организации предприятия; звали его Дьяков... Наш разговор обычно начинался с обсуждения сводки Информбюро. Дьяков разбирался в событиях куда больше моего. Особенно же меня удивляла его осведомленность в биографиях государственных деятелей. Как мне рассказали позже, он, оказывается, собирал библиотеку мемуаров. Другой его страстью были научные открытия; о них он мог говорить без конца.
– Ну, что, путеец,– напоминал он мне иногда, – хорошее открытие сделал? Не надо сейчас ноги сбивать? Как, Николаич? А? Идет сейчас работа?
– Идет.
Работа, действительно, шла. Уже через неделю кассирша выдала мне целую ленту талонов на хлеб, которые я должен был вручить девушкам за перевыполнение норм. И только придя в бригаду, я сообразил, что на днях у меня сбежало девять девчонок из ближайшего колхоза – то ли совсем, то ли на престольный праздник. В общем, на их месте работали новые люди. Дуры– девчонки оставили целое богатство – около восьми килограммов хлеба! Я вспомнил о Насте, о вечно голодном Мишке. Соблазн был велик. Но я в этот же день возвратил талоны бухгалтерше. Удивленно вскинув на меня глаза, она пожала плечами и усмехнулась.
Чувствуя себя героем, я вышел из конторы. Дул влажный холодный ветер, солнце было тусклым. Настин Мишка шлепал босыми ногами по грязной луже. Два седых голубя, переступая красными лапками, клевали рассыпанный овес. Из-за барака выскочил белый петух с жалкими перьями на хвосте и прогнал голубей. На путях, пуская пар, пересвистывались паровозы. Дым их стлался к земле. Я вытащил Мишку из лужи и увел домой. Огрубевшая кожа его руки была вся в цыпках. Он окоченел до того, что лязгал зубами. Я усадил его за стол против себя и напоил сладким горячим чаем. За окном молодой зеленый тополь раскачивался из стороны в сторону. Ветер завивал по дороге пыль. Небо покрылось свинцовыми облаками.
А утром, подойдя к окну, я увидел, что выпал снег. Он лежал на грядах под моим окном, на столбиках забора, на крышах домов, на кустах сирени. Я присвистнул от удивления: – вот она, северная переменчивая погода.
В этот день я не узнал своих девушек. Из-под ситцевых юбок виднелись ватные брюки. На брезентовые бахилы были натянуты резиновые чули. Платки завязаны под подбородком. Девушки проклинали погоду. Снег занес спрятанные в кустах молотки, лопаты, ломы. Пришлось выгребать их руками. Шпалы были скользкими и казались тяжелее, чем обычно. Работа подвигалась туго. На протяжении двух дней снег падал и таял. Приходилось все время поправлять насыпь. На третий день мы смогли вернуться домой только ночью – сошел с рельсов вагон. Поднимали его дедовскими методами– обыкновенной вагой. Машинист был неопытен, как и я. Мы много зря суетились. От горящего факела темнота вокруг вагона была густой. Девушки оступались по колено в ледяное крошево из снега, воды и торфа. Вага скользила в наших руках, и как мы ни кричали: «Раз– два, взяли!», вагон кантовался плохо. Я вернулся домой весь мокрый, и едва развесил одежду около натопленной Настей печки, как раздался телефонный звонок. Я узнал голос директора.
– Какого черта ты спишь, когда у тебя на участке авария?!– рычал он в трубку.
– Пров Степанович,– пытался объяснить я,– вагон поднят час назад.
– Какой к дьяволу вагон! Там уже три сошло! Заботитесь о своей шкуре? Вам бы только валяться, а до родины дела нет! Отгрузку срываете! Поднимай бригаду сейчас же! Головой отвечаешь! Сам проверю!
Три вагона! У меня упало сердце. Я с тоской посмотрел на брюки и портянки, от которых шел пар, и подумал о девушках. Они же вымокли не меньше меня. И не обсушились. И не отдохнули. И не поели...
– Пров Степанович,– сказал я.– Может, там своими силами подымут? Жалко девушек. Они целый день работали в нечеловеческих условиях. И в бараке у них не отдых...
– Я тебя самого в барак переселю! Нашел жалость! Я тебя так пожалею, что своих не узнаешь! Страна напрягает все силы, чтобы победить врага, а ты нашел жалость!
Делать было нечего, пришлось идти за бригадой.
Ноги расползались в снежном месиве. Я шел, придерживаясь за забор.
Уже в тамбуре в нос ударил кислый запах сохнувшей одежды, грязи, горелой резины. Барак походил на казарму – узкий проход и нары в два этажа. Над раскалившейся плитой висели резиновые чули, брезентовые бахилы, онучи. У меня сперло дыхание... Потом я подумал, что сравнение с казармой память мне подсказала не случайно. То, что сегодня делали девушки, можно было сравнить лишь с трудом фронтовиков. Мне стало жалко их – разомлевших у огня, разметавшихся во сне,– разбитых сегодняшним днем. Но выхода не было. Я объяснил, что случилось. Поднялся шум. На нарах зашевелились спавшие, подползали к проходу, опирались голыми руками, свешивали головы.
Стараясь перекрыть галдеж, я спросил:
– Ну, а что же делать? Не идти?
– Только ведь пришли. Не обсушились. Все косточки болят.
– Пусть Хохлов сам поднимает!
– Ничего до утра не сделается.
– Тихо, девушки! Вы понимаете, что три вагона поднять не просто. Я один этого сделать не могу. Раскантовало колею. Но уж если есть тут чья вина, так не машиниста, а наша с вами... И для какой цели нужен торф, вы знаете. Как его ждет ГРЭС, вы тоже знаете. Объяснять этого не нужно. Так что давайте, одевайтесь, и – идем. Я тоже не отдохнул и не обсушился.
– А правда, девки. Он ведь у нас хромой, и то идет.
Я горько усмехнулся. Так, так; вот меня уже называют хромым. Эх, Саша, Саша, а ты еще мечтаешь о спорте. Какой уж тут к черту спорт! Забудь о нем...
– Ну, пошли, девчата! Время уходит.
– Идем, девки! Чего торговаться-то? Без нас не подымут, а торф на танковом заводе во как ждут.
– И то правда. Для фронта работаем.
– Сейчас – вся страна... А как иначе?
Девушки слезали с верхних нар, снимали с веревки одежду...
Я вышел на улицу. Густые облака низко нависли над землей. Воздух был напоен запахом прелой древесины и снега. На станции слышался перестук вагонных колес. Где-то журчал ручей. Лаяла собака. За моей спиной открылась дверь, снова пахнуло спертым, кислым воздухом. Неуклюжие фигуры выходили в темноту; девушки охали, потягивались, кутались в платки.