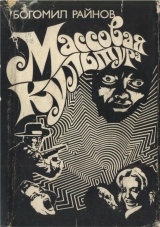
Текст книги "Массовая культура"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
При этом не следует забывать, что в то время, как психологическая сущность эротизма очевидна и несомненна, его связь с сексуальным инстинктом может быть опосредованной и во многих случаях даже слабо уловимой. Здесь, конечно, речь идет не о фрейдистском «деспотическом влиянии разума» на инстинктивные порывы, а о специфически человеческой осознанности инстинктов, об их социальном осмыслении, об их переплавке в сплав тех взглядов, социальных критериев и субъективных привычек, которые и представляют собой целостный характер индивида.
Именно в силу этих причин эротический момент в искусстве может быть правильно проанализирован и оценен только при рассмотрении его в связи со всеми особенностями произведения. В силу тех же причин и амплитуда эротизма в искусстве очень широка – от целомудреннейших образов, рожденных вдохновенным чувством любви, до самой разнузданной порнографии, являющейся прямым отражением видений эротомана.
Искусство прошлого изобилует произведениями, в которых нашел свое выражение лишь поверхностный, художественно стерильный эротизм (примером могут служить посвященные так называемым «галантным» сюжетам литографии французских художников-романтиков прошлого века, таких, как Бомон, Буше, Девериа, Морен, Тасер, Вильнев, Буланже, Жигу, и других).
В истории искусства существуют и сотни произведений, эротизм которых сочетается с неизмеримо более высокой художественностью, хотя женская нагота передана в них не с большей сдержанностью и не с меньшей смелостью, чем в литографиях Девериа. «Мария Магдалина» Тициана, несмотря на распущенные по плечам волосы и молитвенно воздетые горе глаза, не выглядит более целомудренной, чем «Венера перед зеркалом» того же Тициана. Более того, эти волосы, в сущности не прикрывающие цветущую плоть, и этот взгляд, исполненный не набожности, а чувственного экстаза, излучают больше эротики, чем образ спокойной Венеры, созерцающей себя, а не видение некоего божественного любовника. Тициановские полотна в гораздо большей степени передают опьяняющий восторг перед женской красотой, чем вышеупомянутые романтические литографии. Но они в то же время гораздо сильнее в художественном отношении – и по форме, и по силе созданных в них образов. Это торжественное восхваление человека и вызов веками копившимся обидам и унижениям, которым подвергало человека католическое мракобесие. Христианская церковная догма, которая некоторым невеждам все еще представляется гуманистическим учением, клеймит как греховную и плотскую любовь, и любовь вообще, и наиболее сокровенное проявление женской сущности – материнство. И вот эта самая женщина, представляемая церковью как грешница, искусительница и орудие сатаны, является в произведении мастера Возрождения во всем блеске своей земной красоты, во всем богатстве своей человеческой чувственности. Художник открыто демонстрирует свое восхищенное отношение и свое влечение к ней как к живому существу, чья физическая красота представляет собой материализацию прекрасной души.
В истории искусства существует и другая категория произведений, совершенно наглядно показывающих, сколь условной и нечеткой может быть граница между «приличным» и «неприличным», если не учитывается историчность этических норм. Многочисленные древнегреческие барельефы и терракоты, изображения на вазах и монетах, римские изделия из бронзы и стенопись, не говоря уже о скульптурных украшениях индийских храмов, представляют такие сексуальные действия, которые не поддаются описанию, да в этом и нет необходимости. Предавать анафеме эти произведения означало бы идти рука об руку со средневековыми мракобесами и всевозможными католическими миссионерами, чьи «заслуги» в варварском уничтожении подобных памятников хорошо известны. Народные художники запечатлели в этих изображениях все богатство своего мифологического и художественного видения мира, не подозревая (да это и не интересовало их), что позже они кому-то могут показаться безнравственными. Совершенно произвольно и ошибочно было бы, однако, использовать вышеназванные произведения в качестве аргумента для уничтожения всех моральных барьеров в искусстве, как поступают часто некоторые современные порнографы на Западе. Древний скульптор и живописец создавал свои «неприличные», с нашей точки зрения, произведения, соблюдая нравственные нормы тогдашнего общества. Наш долг блюсти нравственность современного общества.
Конечно, и в новейшие времена существуют художники, которые сознательно или неосознанно грешат против этого правила. Творчество этих художников также требует конкретного подхода. Начиная с сотен карикатур, созданных в период Французской революции 1789 года, не исключая творчества таких талантливых графиков, как Генрих Цилле, Георг Грос, Франс Мазерель, Отто Дикс, искусство периода буржуазного общества изобилует произведениями, которые, если рассматривать их чисто формально, граничат с порнографией, а по существу представляют собой суровую сатиру, направленную против господствующего класса. Обвинять, скажем, Гроса или подобных ему художников в порнографии – все равно что обвинять Диккенса и Достоевского в преступности, поскольку в некоторых своих книгах они писали об убийствах.
Естественно, можно было бы возразить, и вполне обоснованно, что прямое изображение разврата не единственно возможный способ заклеймить его. Можно было бы с не меньшим основанием возразить, что известное ограничение в изображении натуралистических «подробностей» едва ли повредило бы целостности образа. Все это так, но это не является аргументом, позволяющим недооценивать значение произведений, которые правящая буржуазия в свое время восприняла как пощечину по своей ожиревшей физиономии.
Наконец, существует и целая группа произведений, являющихся порнографией в точном смысле этого слова. Их в истории искусства гораздо больше, чем можно было бы предположить. Эти произведения, в сущности, причисляются к искусству лишь по своей жанровой принадлежности, поскольку эстетические качества их невысоки, случайны, а чаще всего просто отсутствуют, подмененные в лучшем случае профессионализмом исполнения. И все же даже эти произведения не представляют собой гомогенную массу. Среди них есть такие, которые, хотя и стремятся оказать воздействие на сексуальные инстинкты, а не на эстетический вкус, все же отражают человечески нормальное в плотских отношениях. И наряду с этой продукцией, выходящей за рамки эстетического и нравственного, но не человечески нормального, существует еще один разряд произведений, преступающих эту последнюю границу. Это порнография в ее наиболее уродливой форме – в форме извращений, фетишистских, гомосексуалистских и садо-мазохистских навязчивых идей, которыми одержимы душевно больные люди. Именно наиболее отталкивающий вид порнографии и является самым характерным в современной эротической продукции Запада.
Бо́льшая часть этой продукции, однако, остается за пределами понятия «искусство». И в силу парадокса, содержащегося в самой теме настоящей главы, мы должны заниматься именно этой категорией произведений, выходящих за рамки искусства. Ведь наша задача – проследить процесс не художественного развития, а загнивания художественности. И если такие термины, как эстетическое, художественное, литература, искусство, в ряде мест текста мы будем употреблять без кавычек, то лишь потому, что не хотим злоупотреблять пунктуацией.
* * *
Процесс сексуализации буржуазной литературы, подобно другим процессам загнивания, происходящим в ней, обязан своими «успехами» отчуждению писателя от интересов народа и нормальных нужд общества, неверию, скептицизму и пессимизму, порожденным осознанным или неосознанным влиянием упомянутых уже концепций, наконец, нередко и чисто коммерческому отношению к писательской работе. Сведение жизненных проблем к частной проблеме секса является обычно результатом индивидуалистического пренебрежения к многообразию окружающего мира и сосредоточения внимания лишь на узком мирке своего собственного «я», причем беда состоит не только в том, что все сводится к теме собственного «я», но и в том, что это «я» крайне бедно по своему духовному, психологическому содержанию, односторонне в своем отношении к жизни, а нередко и непоправимо извращено по своей сущности.
Такая литература, если она не является продуктом корыстного ремесленничества, сводится к иллюстрации элементарнейших принципов фрейдизма.
Прошлые эпохи оставили нам огромное количество эротических произведений известных и анонимных авторов, от которых современные порнографы пытаются вести свою родословную. По нашему мнению, это совершенно не нужное занятие, поскольку вся эта продукция оттеснена временем на задворки литературы и известна лишь незначительному числу специалистов. В самом этом факте уже содержится достаточно мрачная аллюзия относительно будущей судьбы современной порнографической литературы. И еще: сколь бы старомодными по своим отдельным бытовым деталям, по своему сюжету и стилю ни были беллетристические непристойности прошлого, по существу они совершенно не отличаются от подобных изделий нынешнего времени и тем самым недвусмысленно доказывают, что современные новаторы «сексуальной революции» не более как бескрылые эпигоны. Все, что можно было бы сказать о сексуальных отношениях и переживаниях, в сущности, давно уже сказано и много раз повторено, так что современные порнографы не только не делают, но и не могут сделать никаких открытий в этой давно уже разработанной области. Человеческие переживания, в том числе и любовь, могут оказаться неисчерпаемо богатыми и непрестанно обновляющимися, только если они воспринимаются не с биологической стороны, а во всей сложности их социального смысла, как часть целостного, богатого и противоречивого духовного мира субъекта и как функция определенной социально-классовой и исторической действительности. Но это уже аспекты, выходящие за пределы узких рамок порнографии.
Современную буржуазную литературу, связанную с темой секса, можно было бы разделить на три категории (причем сюда мы не включаем серьезные произведения, в которых эротический момент представлен лишь эпизодически или обусловлен требованиями психологической и художественной характеристики):
1) Эротические романы и пьесы с претензией, хотя и ничем не подкрепленной, на высокие литературные качества.
2) Произведения, в которых психологическая, социальная и прочая проблематика является лишь элементом алиби для автора, основная цель которого состоит, в сущности, в том, чтобы дать выход своим эротическим видениям и фантазиям.
3) Колоссальное массовое производство порнографических романов, не претендующих на проблемность, художественность, психологизм.
Типичным примером произведений первой категории может служить нашумевшая книга Владимира Набокова «Лолита». Сюжет, избранный автором, достаточно беден для романа в 500 страниц, но это не единственная его неудача. Повествование ведется от имени героя романа Хемберта, который в ожидании суда за совершенное им убийство пишет в тюрьме историю своей жизни. Вся жизнь Хемберта прошла под знаком пагубной страсти-извращения: он испытывал неудержимое влечение к малолетним девочкам. После тягостного брака и соответственно развода герой оказывается в доме уже немолодой женщины, у которой он снимает квартиру, влюбляется в ее двенадцатилетнюю дочь, отныне именуемую Лолитой, хотя ее настоящее имя Долорес. Хемберт приносит жертву: женится на матери с единственной целью заполучить Лолиту, а позже в результате вовремя происшедшей автомобильной катастрофы становится счастливым вдовцом. Герой покидает Штаты, отправляется с Лолитой в путешествие, и она становится его любовницей. С этого времени начинаются бесконечные опасения Хемберта, что он может потерять свое сокровище. Однако, несмотря на все принятые им меры, его сокровище в конце концов все же ускользает, убегая с каким-то писателем. Впоследствии герой убивает человека, «ограбившего» его, оказывается задержанным, пишет в тюрьме свои воспоминания и умирает от сердечного удара. Шумный успех романа свидетельствует лишь о том, что сотни тысяч людей на Западе все еще обращаются к книге ради содержащейся в ней пикантной истории, не предъявляя никаких требований к ее художественности. История, однако, не просто пикантная, а безнравственная, основанная на извращении, поскольку автор отождествляется с сексуальным маньяком, выбранным в качестве главного героя. В послесловии к одному из более поздних изданий Набоков защищался от подобного рода обвинений, наивно ссылаясь на непорочность своего собственного жизненного уклада. Для писателя тем не менее порядочность воображения важна так же, как и порядочность в личной жизни.
Еще в 1939 году по поводу одного из ранних романов Набокова («Презрение») молодой тогда Жан-Поль Сартр писал: «Мы видим одну общую черту у автора и его героя: оба – жертвы войны и своей собственной фантазии… В настоящее время существует странная литература эмигрантов, русских и других, являющихся людьми без корней. Набоков, как и его герой, абсолютно изолирован. Оба не интересуются никаким обществом, потому что не принадлежат ни к какому обществу…» Эта оценка, мне кажется, может быть полностью применена и к «Лолите» – книге без всякой существенной проблематики, вне времени и вне человеческих интересов, если не считать интересами нездоровое любопытство и сексуальную озабоченность.
Не более удачны, но не столь претенциозны некоторые из первых произведений француза Клода Каригеля, и в частности его роман «Голливуд» (1956). В этой книге начинающий автор попытался показать состояние бесперспективности и неуверенности, характерное для мелкобуржуазной молодежи его поколения, юношей и девушек, только что закончивших школу и брошенных в беспощадный водоворот жизни, где они пытаются отыскать хоть какую-нибудь опору. Опора эта сводится к мимолетным прозаическим сексуальным связям без всяких иллюзий. Ненадежность и непрочность такой опоры осознает и сам автор, что еще больше усиливает гнетущее чувство неуверенности и абсурдности бытия.
Значительно более интересным в литературном отношении был дебют другого автора этого же периода – писательницы Кристиан Рошфор, роман которой «Отдых воина» имел почти такой же успех, как и пресловутая «Лолита». В романе Рошфор, в сущности, нет никакого воина и менее всего может идти речь об отдыхе. Любовная связь между героем и героиней – одно непрерывное страдание, по крайней мере это касается героини. Юноша Рено – человек без профессии и без своего места в жизни, с неопределенными и необоснованными претензиями стать писателем, но исчерпывающий свою страсть к литературе в пьяной болтовне во время запойных оргий. Женевьева – молодая девушка из буржуазной среды. Ее бессознательное увлечение героем быстро перерастает в испепеляющее и всепоглощающее чувство, превращающее ее в рабыню Рено. Спивающийся в грязных барах герой то выгоняет ее, то сам бегает за нею, осыпает ее бранью, бьет, заставляет раздеваться перед другими пьяницами или участвовать в любовных утехах вместе с проституткой Минной, доводит почти до смертного одра, но все равно Женевьева готова вытерпеть все, только бы остаться возле своего Рено. Герой в свою очередь, хотя он окончательно пал, вовсе не бесчувственный грубиян. Мучая Женевьеву, он и сам страдает. Безответственность и цинизм сочетаются в нем с мучительным ощущением, что он мог бы быть художником, и это сознание бессилия, в сущности, лежит в основе всей его ярости по отношению и к миру, и к Женевьеве. Роман завершается гипотетическим и невеселым счастливым концом: ожидающая ребенка Женевьева уговаривает Рено лечь в психиатрическую больницу, где он должен излечиться от алкоголизма.
Несмотря на обилие непристойностей в диалогах, «Отдых воина», по существу, не порнографический роман. У писательницы нет вкуса к смакованию сексуальных подробностей, ее внимание в значительно большей степени обращено к душевным переживаниям героини, а не к проблемам секса. Написанная искренне, с бесспорным – хотя и неотшлифованным – дарованием, исполненная какого-то своеобразного грустного юмора и несущая на себе печать лично пережитого, эта книга – произведение талантливое.
Но именно подобные произведения, впрочем редкие среди огромного количества эротической продукции, порождают вопрос: имеет ли смысл растрачивать дарование на создание любовной драмы, которая, в сущности, является не любовной драмой, а клиническим случаем? И подобный вопрос возникает не просто из-за болезненного характера драмы, а из-за того, что эта драма крайне бедна по содержанию как человеческий конфликт. В произведениях таких писателей, как Достоевский, тоже немало болезненного, но эта болезненность говорит нам о болезненном состоянии всего общества в целом, и носители этой болезни страдают в поисках истины и выхода, далеко превосходящих по своему значению проблемы, связанные с личными чувствами и переживаниями. Мир Кристиан Рошфор, мир большинства авторов подобного ранга – это замкнутый мир, в котором современность проступает лишь как смутно и фрагментарно угадываемый фон. После своего первого скандального успеха писательница создала новые, более благопристойные, но и более банальные по своему звучанию произведения. И исчезла в толпе литературной безликости.
Ничего подобного нельзя сказать, конечно, о таком писателе, как Альберто Моравиа, который обрел авторитет как серьезный прозаик, а позже обратился к непристойностям. Надо отметить, что разработка эротической проблематики ничем не обогатила литературный актив Моравиа, а, напротив, знаменовала творческую деградацию. Примером такого рода обращения к эротической проблематике может служить его роман «Досада». Если оставить в стороне бесконечные повторы натуралистических описаний взаимоотношений героя и героини, то окажется, что основная мысль романа давно истерта от употребления в многочисленных литературных интерпретациях личных драм. Это все столь же банальная, сколь и неверная концепция о невозможности человека приобщиться к внутреннему миру другого человека, поскольку, согласно катехизису индивидуализма, человек рождается на свет одиноким, и умирает одиноким, и обречен, подобно древнему Танталу, стремиться к чему-то, что кажется близким и достижимым, а в сущности является недоступным.
Самым непристойным по своему жаргону, но и самым противоречивым по своим тенденциям среди создателей эротической литературы является американец Генри Миллер. Его романы («Тропик Рака» «Тропик Козерога», «Сексус», «Плексус», «Нексус») – перепевы одной и той же истории, истории самого Миллера, если, конечно, вообще можно говорить об «истории» в этих произведениях, лишенных какой бы то ни было стройной фабулы. Это скорее пустая импровизированная болтовня на тему «моя жизнь», обрывочные воспоминания и обстоятельные описания того, что не имеет никакого значения: бытовых мелочей, пирушек или споров с приятелями, семейных распрей и прозаических сексуальных переживаний. Это даже не биография в точном смысле слова, а набор смутных и совершенно разрозненных воспоминаний, перемежающихся многочисленными рассуждениями на «вечные темы» о человеке, любви, смерти и жизни вообще. Подобно Моравиа, Миллер даже не отдает себе отчета в том, что мысли, которые он преподносит, совсем не его мысли, что все это давно уже сказано другими, и сказано много лучше. Эклектик и дилетант в своей индивидуалистической философии, банальный и небрежный в своих беллетристических описаниях, этот писатель, как и следовало ожидать, обязан своим успехом в первую очередь сексуальным эпизодам, включенным в качестве интермедий в скучные рассуждения общего характера.
И все же, если исключить порнографические интермедии, романы Миллера и особенно его репортажи в отличие от кабинетных сочинений Моравиа ценны по крайней мере тем, что это человеческий документ. Документ, свидетельствующий о мизантропической сущности буржуазной цивилизации, о ее неблагожелательном и враждебном отношении ко всему человеческому. Хотя и с позиций индивидуализма и нигилизма, Миллер остро критикует мир эксплуатации, где все сводится к купле-продаже и где гуманист и человек, жаждущий духовных благ, третируется как психопат и пария. С особой яростью набрасывается автор на свою родную Америку, показывая ледяной эгоизм как основную движущую силу в развитии страны и предрекая скорую гибель ее цивилизации. Сам того не подозревая, этот писатель, становящийся в позу человека, способного доверительно сообщить нам глубокие истины жизни, интересен, в сущности, именно своей невеселой одиссеей отвергнутого обществом типа, напрасно ищущего истины и своего места под солнцем, напрасно ждущего какого-то выхода из окружающего враждебного ему мира.
Книги Миллера носят автобиографический характер, но не претендуют на мемуарную достоверность. В последнее время, однако, особый интерес и у публики, и у писателей вызывают именно мемуары. Этот интерес к «документалистике» в сфере секса легко объясним. Когда серия непристойностей преподносится с уверением в их аутентичности, они приобретают особую привлекательность в глазах пристрастной к возбуждающему чтиву публики, для которой действительные случаи всегда предпочтительнее вымышленных историй.
Когда-то мемуары осмеливался обнародовать лишь тот, кто считал, что ему есть о чем рассказать людям, – политик или военачальник, ученый или артист, революционер или изобретатель. В силу некоего неписаного закона мемуары были привилегией человека, который что-то дал человечеству. Опубликование автобиографической книги преступника Жана Жане вызвало подлинный общественный скандал в 40-е годы именно потому, что Жане осмелился нарушить этот неписаный закон. Сегодня, однако, издание массовым тиражом подобных грязных откровений стало банальной традицией. Гангстеры, проститутки и сутенеры взапуски стремятся раскрыть перед падкой на цинизм публикой безобразные подробности своей жизненной карьеры.
Хотя бессюжетные книги-однодневки и мемуары становятся в наши дни все более модными, бо́льшая часть беллетризованной эротической продукции Запада продолжает следовать традиции классического романа-интриги. Но все эти интриги неинтересны, пошлы и даже банальны, если отвлечься от некоторых бесстыдных «новинок», преподносимых автором по ходу развития фабулы. Робер Маржери в романе «Мон-Драгон» описывает связь женщины из высшего общества с учителем верховой езды. Книга эта представляет собой вариант романа «Любовник леди Чаттерлей» Лоренса минус социальный смысл прообраза, но с добавлением большей дозы аморализма.
Более необычна, но не более привлекательна по материалу книга Жана Дуасо «Гана». О «новаторстве» Дуасо свидетельствует тот факт, что даже один из французских критиков, все видевших и все прочитавших, писал по поводу его произведения следующее: «В точном смысле слова «Гана» Дуасо – эпопея клозета и клинического секса… это чудовищно. Чудовищно по ужасу, по безумному воображению и также, нужно сказать, чудовищно по силе». Книга – в двух словах – представляет собой описание быта семейства бедняков, ютящегося в каком-то отвратительном подвале, пропитанном запахом человеческих испражнений и заполненном огромными крысами. Но отвратительна не только обстановка. Персонажи, которых нам представляет автор, – чудовищное сборище физически и душевно больных людей, пьяниц и извращенных типов, предающихся омерзительным оргиям. Роман Дуасо, бесспорно, сильный роман. Даже гораздо сильнее допустимого в искусстве. Книга напоминает попытку усилить мощь звучащего оркестра взрывами динамита. Делириум душевнобольных всегда силен отвратительной фантастикой своих видений, но было бы абсурдно оценивать его как свидетельство мощи творческого воображения.
Среди произведений рассматриваемой категории есть и такие, в которых предприняты попытки дать оценку порочной действительности, но это до такой степени поверхностно и неубедительно, что звучит скорее как мелкая спекуляция социальными интересами читателей. Например, роман Гастона Криэля «Крупная мелочь». Существуют, правда, и более серьезные авторы, такие, как Норман Мейлер, Бернард Маламуд, Мэри Маккарти и другие, в произведениях которых грубые сексуальные эпизоды сочетаются с яростной критикой буржуазных нравов и взглядов. Остается сожалеть, что такие писатели считают поток непристойностей естественным выражением бунта против прогнившего порядка, вместо того чтобы всецело обратить свой гнев против истинных виновников разложения. Но это писатели, творчество которых, как мы уже говорили, выходит за пределы нашей темы, поскольку их произведения не могут быть названы порнографическими.
Вторая категория произведений, хотя их авторами нередко являются буржуазные писатели, пользующиеся доброй славой, представляет собой словесную объективацию эротических видений. Претензии на художественность являются здесь просто формальным оправданием, предлогом для того, чтобы преподнести читателю описание безнравственных историй и ситуаций. А предлог во многих случаях действительно необходим, потому что большинство этих авторов проповедуют не просто разгул обычных половых страстей, а разгул всевозможных половых извращений.
Здесь мы подходим к одному из характернейших симптомов загнивания, находящему выражение в художественной продукции буржуазного Запада: апология естественного сексуального влечения и даже похотливости в рамках человечески нормального все больше уступает место описанию сексуальных отклонений, патологии, опоэтизированию и возвеличиванию их как единственного смысла существования. И что интересно, западная критика объявляет эти описания новым вкладом в исследование «глубин» человеческой души.
В сущности, подобные произведения действительно раскрывают глубины, но глубины особого рода. Это скорее бездны – бездны умопомешательства. Вполне логично, что коль уж есть фанатичные апологеты садизма и мазохизма, то существуют и типы, откровенно воспевающие наслаждения, которые нас ожидают, если мы только согласимся рухнуть в эту пропасть безумия. Типичным представителем такого рода трубадуров психопатии является американец Уильям Берроуз, в последние годы доставляющий радость все большему числу своих литературных учеников из среды зараженной наркоманией молодой «бунтующей» интеллигенции. Наркоман с пятнадцатилетним «стажем», много раз лечившийся в психиатрической больнице, Берроуз еще в первой книге, «Голый праздник», обрушивает на читателя весь кошмар своего больного воображения. Это не поддающаяся описанию смесь эротических, садистских, извращенческих видений, нецензурных ругательств в адрес всего живого, сквернословия и абсурдных ассоциаций. Некоторые критики-снобы сразу же обнаружили в произведениях Берроуза революционное новаторство, призванное якобы оказать воздействие на всю последующую литературу века. Они принялись искать и формулировать принципы использованного американским наркоманом творческого метода, открывать в его композиционных приемах сходство с монтажом в кинематографе и коллажем в живописи кубизма и абстракционизма, говорить о «многослойности» изложения и так далее. А в действительности за всей необычностью этой книги, за ее хаотичностью, лишенной всякого удержу бессвязной и бесстыдной болтовней кроется не новая методология, а механизм глубокого психического расстройства. Но всякое глубокое психическое расстройство сопровождается рождением и действием определенных навязчивых идей. Навязчивые идеи Берроуза, смутно выявившиеся в «Голом празднике», оформляются и кристаллизуются гораздо отчетливее в его следующей книге – «Нова экспресс». В этом произведении – также совершенно бессвязном, но уже с каким-то подобием сюжета – автор рассказывает о жизни на некоей планете Нова и о ее гибели, прозрачно намекая, в сущности, на недалекое будущее нашей собственной планеты, каким он себе его представляет. На этой фантастической планете сталкиваются две силы: с одной стороны, полицейская власть, лишающая человека возможности отравлять самого себя, или, если хотите, блаженствовать с помощью наркотиков, а с другой – нигилисты-наркоманы, отвергающие все моральные нормы. В конце концов планета Нова взрывается и исчезает в небытии, что является для автора логическим и даже желательным завершением конфликта.
В книге Берроуза мы видим совершенно отчетливо и резко выраженное стремление к разрушению и саморазрушению. Или, как с радостью констатирует Жак Кабо, писатель-наркоман «стремится ликвидировать Живое Существо в пользу Ничто со всеми философскими, моральными, политическими последствиями, вытекающими отсюда». Эти книги на первый взгляд как будто бы реально подтверждают фрейдистскую теорию об инстинкте разрушения и смерти. В сущности же, расшифрованные глубже, они раскрывают истину об этом фиктивном инстинкте. Наркоман на данном этапе деградации действительно испытывает все более властный порыв к самоуничтожению, к поглощению все более чудовищных доз отравы. Но этот гибельный порыв является вовсе не результатом того, что инстинкт разрушения – оборотная сторона инстинкта самосохранения, как утверждают фрейдисты. Наоборот, влечение к самоуничтожению – результат именно распадения нормальной человеческой психики, которая в этом процессе разложения утрачивает свои сущностные – витальные и человеческие – черты. Другими словами, так называемый «инстинкт смерти» не естественное проявление человека как биологического вида, а симптом предсмертного состояния, при котором человеческое парализовано, угнетено или непоправимо разрушено.
Книги, подобные только что названным, не имели бы особого значения, если бы их авторы не представлялись людьми высшего порядка, а их критики не считали бы всех этих извращенцев лучшим образцом для подражания. Здесь нет и в помине чувства подавленности индивида, который, хотя и смутно, ощущает, что он болен и, следовательно, неполноценен как человек. Наоборот, чем глубже расстройство психики того или иного «художника», тем больше высокомерия в его писаниях. Вся эта литература не столько констатация, сколько призыв, не только исповедь, а и проповедь, наглое и настойчивое подстрекательство к извращению и крайней деградации. И в этом коренится ее главный вред.
Возникает вопрос: как реагирует общественность Запада на эту серию постоянных покушений против установившейся нравственности? В общей форме следует отметить, что реагирует без злобы. Отзывы большей части рецензентов почти всегда положительные. Причина такого сочувственного отношения кроется нередко в простом факте: многие критики принадлежат к тому же кругу интеллигентных эротоманов и «вольнодумцев», что и писатели. Не менее важен и факт, что снобистская и авангардистская критика испытывает непреодолимую симпатию ко всему необычному и новому безотносительно к тому, является ли это новое положительным или отрицательным. А известно, что авторы порнографической литературы козыряют именно «новаторством», хотя их новаторство обычно сводится к принципу: «Говори то, что не принято говорить, описывай то, что другие стесняются описывать, произноси слова, которые воспитанные люди не произносят». Наконец, положительным отношением к непристойным книгам часть левой критики порой просто пытается раздразнить буржуазную цензуру и лицемерную мораль. Плохо, что делается это за счет легковерного читателя.






