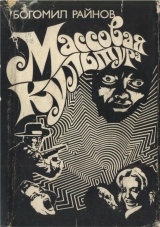
Текст книги "Массовая культура"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Именно эта защита эгоизма, или, как он сам ее называет, «воли к власти», против всяческих ограничений традиционной морали и сделала учение Ницше столь привлекательным для целой плеяды современных американских философов.
Этот же человеконенавистнический тезис получил свое развитие (правда, в несколько более умеренном виде) в столь типичном для Америки учении, как прагматизм.
Родоначальником прагматизма, как известно, является Генри Джеймс (1842—1910). Исходя из постулата об определяющем значении инстинктов и эмоций в человеческой психике, он проповедовал полный релятивизм по отношению к истине, а вместе с тем, разумеется, и по отношению к моральным нормам. Таковы, в сущности, и концепции Джона Дьюи (1859—1952), наследника Джеймса и отца инструментализма, считавшего, что основные качества человеческого сознания передаются по наследству и в их основе лежит инстинкт самосохранения. Аналогичные взгляды, являющиеся косвенным оправданием всех проявлений насилия в общественной жизни, проповедует и весьма влиятельная сейчас в США «психологическая социология». Ее представители полагают, что противоречия буржуазного строя – классовая борьба, стачки, войны, преступность, проституция и прочее – есть механический и неизбежный результат естественных психических особенностей отдельной личности, отдельной человеческой единицы, являющейся внеклассовым фактором и действующей под влиянием биологических инстинктов.
Естественно, что оправдание насилия и его первопричины – эгоизма – совершается посредством внешне «научного» и «объективного» способа: буржуазная идеология, будучи не в состоянии защитить эти два явления с точки зрения морали, просто исторгает их из сферы морали, объявляя чисто природными феноменами. А стоит лишь раз назвать социальные отношения биологическими проявлениями – и насилие нельзя воспринимать как «зло» или «добро», точно так же, как нельзя объявить хорошими или плохими законы природы.
В своем стремлении оправдать то, что не подлежит оправданию, некоторые буржуазные авторы идут еще дальше. Основоположник современного экзистенциализма Серен Кьеркегор говорил: «Нам известно несчастье худшее, чем смерть. Прежде всего – это несчастье жить». Аксиома пессимизма позже превратилась в основной постулат новейшей философии отчаяния. В теоретическом и литературно-художественном плане она развивалась в двух направлениях: с одной стороны, в ее задачи входил показ неизбежной уродливости человеческой жизни, а с другой – возвеличивание смерти как верховного избавления. Вряд ли нужно объяснять, что насилие, рассматриваемое с подобных позиций (даже в столь грубой своей форме, как убийство), перестает быть антигуманным актом. И объект покушения, если он хочет слыть человеком современных взглядов, должен не трепетать перед своим будущим убийцей, а приветствовать его как благодетеля и спасителя. Что же касается самого убийцы, то он приобретает черты вполне нормального существа в мире, где проявления насилия так же естественны, как и закон земного тяготения. И чем более откровенен и необуздан в своих разрушительных порывах убийца, тем с большей настойчивостью его представляют нам как положительного героя, борца против лицемерной морали, «свободного человека» в ницшеанском понимании этого термина.
В известном романе Жан-Поля Сартра «Смерть в душе», в его последней части, носящей название «Дороги свободы», описываются героические, но безуспешные попытки небольшой группы французских патриотов противостоять натиску фашистов, оккупирующих Францию. Однако автор рассматривает и оценивает поступки своих персонажей отнюдь не в социальном аспекте. Его интересует психологическая мотивировка действий героев, которые автор расценивает как индивидуалистический бунт. В кульминационном эпизоде романа, когда Матье и его друзья обстреливают фашистов с колокольни церкви, писатель демонстрирует нам не героизм самопожертвования, а жест отчаяния героя, опьянение инстинктом разрушения. Единственный из друзей оставшийся в живых, Матье продолжает яростно сопротивляться, но в его ярости нет ничего общего с патриотическим долгом:
«…Он стрелял в человека, в Добродетель, в Мир: Свобода – это Террор; огонь метался в мэрии, огонь бушевал в его голове; пули свистели, свободные, как воздух, мир будет эксплуатировать, и я вместе с ним, он снова выстрелил… Ему ничего не было нужно, только еще полминутки, чтобы выстрелить вон в того красивого и гордого офицера, во всю Красоту на Земле, в улицу, цветы, сады – во все то, что он любил раньше. Красота бесстыдно обманула, и Матье стреляет снова. Он стрелял: он был чист, он был всемогущ, он был свободен»[128]128
Sartre J.-P. La mort dans l’âme. Paris, 1949, p. 193.
[Закрыть].
Этот внутренний монолог героя, в сущности, является педантичной литературной транскрипцией философских позиций Сартра. Драма человека в конечном счете не социальная, а индивидуальная, и ее следует рассматривать в соответствии с двумя основными законами экзистенциализма: 1) самый лучший поступок тот, который ты выбираешь сам; 2) человек ни перед кем не отвечает за свои дела. Следовательно, даже самый преступный акт, если только он является результатом свободного выбора самого человека, не будет считаться преступным, и никто не вправе привлечь этого человека к ответу за содеянное им. Именно эти взгляды Жан-Поль Сартр отразил в своем сочинении «Святой Жене, комедиант и мученик»[129]129
Sartre J.-P. Saint Genet, comédien et martyr. Paris, 1951.
[Закрыть], представляющем собой восхваление самой скандальной знаменитости в современной французской литературе – Жана Жене, писателя-дилетанта и преступника-профессионала. Этот постоянный обитатель французских тюрем не только прошел через все возможные падения – насилие, кражу, донос и гомосексуализм, – но и использовал беллетристику в целях увековечивания и оправдания своих грязных деяний. Но Сартр создал настоящую апологию этому темному герою вовсе не из-за своей субъективной симпатии к его бесстыдным похождениям, а под влиянием пристрастия к концепции экзистенциализма, согласно которой самый мерзкий поступок превращается в доброе дело, если он является результатом свободного выбора.
В приведенном выше отрывке есть еще один весьма любопытный момент. Вообще-то в области теории Сартр полемизирует с фрейдизмом, однако в своей беллетристике вольно или невольно он порой приближается к некоторым положениям фрейдизма. Описание эпизода, в котором Матье, стреляя в людей на площади, «снимает тяжесть с души», освобождается от груза прошлого – неудовлетворенности и раздражения, пока не почувствует себя действительно свободным, по сути, является вполне фрейдистской интерпретацией состояния героя. И хотя, как уже было сказано, доктрина Сартра весьма далека от положений фрейдизма, они получили такое распространение в современном мире, что оказывают влияние даже на своих противников.
В сущности, именно фрейдизм был тем учением, которое с буржуазных позиций тщательно изучило, обосновало и фактически оправдало акт насилия как неизбежное явление личной и общественной жизни.
…Основополагающие взгляды Фрейда обстоятельно изложены в одной из его работ («Я и оно», 1923). Исходя из признания стереотипности, или, как он сам выражается, «демонического автоматизма» инстинктов, ученый приходит к выводу о том, что всякое существо стремится вернуться к своему предыдущему состоянию. А поскольку более ранним состоянием любой живой материи было состояние неодушевленности, то живой организм неосознанно стремится к смерти:
«Опираясь на теоретические истины, используемые в биологии, мы открыли так называемый инстинкт смерти, в соответствии с которым все, чем богат органический мир, должно быть переведено в неодушевленное состояние, тогда как целью Эроса является усложнение жизни и, естественно, ее сохранение и развитие путем приобщения к разделенной и разорванной живой субстанции все большего числа ее отторгнутых частиц. Инстинкты секса и смерти проявляются как инстинкты самосохранения в самом точном смысле этого слова, потому что оба они стремятся восстановить состояние, нарушенное с появлением жизни. Таким образом, возникновение жизни есть причина как продолжения жизни, так и стремления к смерти, и сама жизнь раскрывается как борьба, как компромисс между двумя этими тенденциями»[130]130
Freud S. Le Moi et le Ça. Paris, 1927, p. 196.
[Закрыть].
Эти основополагающие взгляды Фрейда позже были детально разработаны рядом буржуазных мыслителей, в той или иной мере связанных с методологией психоанализа (Альфред Адлер, Карл Густав Юнг, Карен Хорни, Эрих Фромм, Мелания Клайн и другие). Один из наиболее авторитетных современных французских неофрейдистов, Жак Лакан, придерживаясь точки зрения М. Клайн о проявлениях агрессивного инстинкта человека в детском возрасте, развивает эту тему в своем труде «Агрессивность в психоанализе» Лакан обнаруживает агрессивные движения даже у восьмимесячного ребенка. А у более взрослых детей она, по его мнению, совершенно очевидна: «Понаблюдайте за индивидуальными или коллективными играми детей в возрасте от 2 до 5 лет, и вы поймете, что в их воображении оторвать кому-то голову или вспороть живот – дело совсем обычное, что они и демонстрируют на своей кукле».
По мнению Лакана, агрессивность в полной мере присуща и взрослому человеку, у которого она может проявляться и в психическом образе (имаго). В числе этих образов есть такие, которые «являются векторами отбора агрессивных намерений, воссоздаваемых столь эффективно, что их возникновение можно назвать магическим. Таковы картины кастрации, рассечения, разрывания, потрошения, взрыва тел – короче, различные имагос, которые я лично сгруппировал в одну структуральную рубрику – имагос разбитых тел».
В качестве иллюстрации к этой антологии жестокости, которую человек скрывает в своей психике, Лакан приводит произведения Иеронима Босха, в которых можно «распознать атлас всех тех агрессивных образов, которые беспокоят людей». Эта же антология, иногда, правда, преображенная в символы, присутствует и в снах человека: «Здесь сосредоточены все первоначальные данные об образе, отражающем агрессивность человека и связанном с символическим характером не меньше, чем с жестокой рафинированностью оружия, которое он производит».
Следует добавить, что, останавливаясь на некоторых характерных для капиталистического общества явлениях, Лакан дает и отдельные верные характеристики, но, к сожалению, с обычным для подобных исследователей стремлением говорить о человеке и обществе «вообще»: «Перевес агрессивности в нашей цивилизации прекрасно раскрывает тот факт, что эта агрессивность, признаваемая всеми как необходимое условие развития собственного «я» личности, считается необходимой и в социальных сферах, а также в быту». В связи с этим автор отмечает, что «война, как это было доказано не раз, является акушеркой прогресса в нашем обществе». Что касается личной жизни, то и здесь, по мнению исследователя, «нашему обществу знакомы все психологические конфликты, присущие модному феномену под названием „битва полов“». Таким образом, определяя агрессивность как… «первородное уничтожение человека», или, по Фрейду, «инстинкт смерти», Лакан заключает:
«У «освобожденного» человека в современном обществе это стремление к уничтожению… превращается в невроз самонаказания, сопровождаемый истерико-ипохондрическими симптомами… психастеническими формами дереализации окружающего мира и близких людей, социальной вереницей неудач и преступлений»[131]131
Lacan J. Écrits (L’agressivité en psychanalyse). Paris, 1966, p. 101—124.
[Закрыть].
Можно заметить, что Лакан не только обобщает фрейдистское толкование врожденной агрессивности как проявление инстинкта смерти, но и пытается рассмотреть социальные формы этой агрессивности, а также средства, которые питают ее и делают пригодной для использования современной буржуазной цивилизацией. В сущности же, социальный момент в исследовании Лакана, как и у прочих неофрейдистов, остается лишь незначительной фактологической приправой, тогда как сама агрессивность рассматривается в качестве врожденного и неистребимого инстинкта, то есть как биологически детерминированный феномен. В подобных исследованиях, при всей их внешне строгой научности, мы имеем дело с весьма произвольным толкованием фактов. Так, например, Лакан среди сотен представителей Ренессанса выбирает Иеронима Босха, творчество которого (весьма изолированное как явление и к тому же весьма тенденциозно анализируемое Лаканом) представляется автору исследования наиболее удобным объектом для доказательства своей правоты. У Иеронима Босха (1450?—1516) мы действительно видим подлинную галерею образов, являющихся своеобразной визуальной материализацией насилия, ужаса, разрушения и смерти. Однако идейный смысл этой образной энциклопедии настолько ясен в контексте творчества Босха, что почти единодушно признается даже буржуазными исследователями. Художник отразил вековую борьбу между творческим гением и разрушительными силами, между любовью и ненавистью, между добродетелью и пороком, или, короче, между «добром» и «злом», интерпретированными посредством неизбежной для его времени символики христианского дуализма. То есть эти образы совсем не являются объективизацией какой-то агрессивности, глубоко скрытой в душе художника. Напротив, они воплощают в себе художественную полемику Босха с проявлениями агрессивности в общественных и личных отношениях той эпохи, будучи, таким образом, выражением ненависти художника к жестокости и насилию.
Подобную же преднамеренность неофрейдисты демонстрируют в подборе и анализе фактов из сферы человеческой психики. Те, кто довольно внимательно изучал труды этих авторов, не могли не заметить, что в них обстоятельно исследуются явления или раннего детского возраста, или быта и нравов примитивных племен, или же переживания, связанные с маниакальными, истерическими и вообще патологическими состояниями, тогда как душевно здоровые и нормально развитые люди априорно признаются материалом, не заслуживающим внимания. Все это легко объяснимо, если иметь в виду, что фрейдизм в своей основе есть учение, целью которого является исследование неосознанного, поэтому-то он вынужден искать его там, где оно «на виду» или не подчинено «властной силе разума». Однако подобная преднамеренность в подборе материала в конечном счете приводит к тому, что характеристика человечества (в том числе и здоровой его части) основывается исключительно на данных, касающихся душевнобольных или неразвитых индивидов.
Поэтому совершенно очевидно огромное влияние на Фрейда Ницше, заявившего, что «человек – это больное животное». Данная тенденция (считать человека больным животным) весьма отчетливо проявляется и у некоторых неофрейдистов, например Нормана Брауна, отстаивающего мнение, что невроз является самым характерным отличием человека.
Однако основным пороком фрейдизма, его первородным грехом остается исключительно биологическая концепция агрессивности. В этом отношении последователи Фрейда (если не обращать внимания на их ультрасовременную клиническую терминологию) недалеко ушли от примитивных теорий Чезаре Ломброзо, еще в прошлом веке заявившего:
«Исходной точкой самых ужасных, самых варварских преступлений являются физиологические, атавистические животные страсти, которые могут быть укрощены на некоторое время под влиянием воспитания, среды или страха перед наказанием, но мгновенно пробуждаются в определенных обстоятельствах… Короче говоря, преступление, согласно данным статистики и антропологическим исследованиям, представляет собой естественное явление, или, говоря языком философии, столь же необходимое явление, как рождение, смерть или душевные заболевания, печальным вариантом которых оно часто становится».
К этим констатациям Ломброзо, как известно, присовокупил свои наблюдения, согласно которым большинство преступников преступниками и родились: «Не будет преувеличением сказать, что число таких преступников по рождению равно 40 %. Остальная часть – это другие формы преступления, источником которых может быть случайность, сумасшествие, алкоголизм, страсти»[132]132
Lombroso С. L’Homme criminel. Paris, 1887, p. 665—669.
[Закрыть].
Сегодня многие из откровений Ломброзо, связанных с биологизмом и проблемами наследственности, вызывают улыбки даже у буржуазных социологов и криминалистов. Поиски проявлений преступности на уровне растительного или животного мира; определение преступного типа по форме и размерам черепа и физиономии, в зависимости от роста, волосяного покрова и прочего – все эти и другие подобные исследования давно цитируются в качестве примеров комических заблуждений в числе прочих и людьми, чьи собственные теории, к сожалению, также не могут быть признаны научными.
И дело здесь в том, что главный недостаток теории Ломброзо состоит вовсе не в отдельных подробностях анализа – ошибочно его теоретическое положение о преступности как чисто биологическом явлении, лежащее в основе анализа. Даже Шарль Летурно, автор предисловия к первому французскому изданию цитируемой книги, вопреки традиционному в таких случаях уважению к представляемому им автору замечает, что «преступник по рождению был бы весьма редким явлением, если бы его не создавало само общество. Главные факторы, порождающие преступление, – это нищета и алкоголизм, бедствия, которые находятся в тесной зависимости от неравномерного распределения богатства, в значительной степени усиленного триумфом в развитии индустрии».
Характерно, что многие современные авторы (фрейдисты и неофрейдисты), не без оснований считающие теорию Ломброзо устаревшей, все же не доросли до понимания этой несмелой мысли Летурно, который в качестве «исходной точки» преступления и насилия верно выделяет не биологию, а экономические и социальные факторы буржуазного строя.
Следует отметить, что критиковавшие Ломброзо буржуазные ученые, хоть и отошли в определенной мере от его взглядов, сделали это в направлении, обратном желаемому. Так, если Ломброзо 40 % нарушителей закона считал преступниками по рождению, то современные фрейдисты и некоторые модные социологи утверждают, что все люди как один – преступники, по крайней мере потенциальные, удовлетворяющие свою потребность в агрессии и насилии лишь в своем воображении.
В буржуазной науке, как уже отмечалось, наряду с биологическим фатализмом проявляется и еще одна тенденция – отбрасывать все и всяческие моральные нормы как «произвольные», «ненаучные» и, следовательно, необязательные. Совершенно очевидно, что такой подход также ведет к цели, преследуемой биологизмом: амнистированию насилия, объявлению его актом, не подлежащим оценке и, стало быть, общественному осуждению.
Указанная тенденция является характерной чертой ряда современных буржуазных эстетических школ, которые все более теряют всякую связь с проблемами житейской нравственности. В своем труде «Религия и наука» Бертран Рассел заявляет, что «вопросы, относящиеся к «ценностям» – то есть тому, что есть добро и зло, – сами по себе, независимо от последствий, лежат вне области науки… вопросы о «ценностях» находятся за пределами области знания»[133]133
Russеl В. Religion and Science. N. Y., p. 230.
[Закрыть].
Известный английский философ Альфред Джульс Айер, связанный с неопозитивизмом и семантической школой, также утверждает, что «философ морали не может доказать бо́льшую правильность своей точки зрения. Он предлагает одно правило, другой – другое, и решение о выборе между ними сводится к вопросу индивидуального выбора»[134]134
Ayer A. J. The Claims of Philosophy. London, p. 62.
[Закрыть]. По мнению Айера, не может быть никакой связи между этико-философскими принципами: и практическим поведением человека: «Все теории нравственности – интуитивная, натуралистическая, объективистская, эмотивная и прочие (в той мере, в какой они являются философскими теориями) – нейтральны по отношению к действительному поведению человека. Или, выражаясь специальным языком, они принадлежат к области метаэтики, а не этики в строгом смысле понятия. Вот почему глупо и самонадеянно выглядит философ (любого толка), выступающий в роли защитника добродетели»[135]135
Ayer A. J. Philosophical Essays. London, p. 246.
[Закрыть].
Аналогичных взглядов придерживается и американский философ Рудольф Карнап, который в принципе отрицает этику из-за ее «нормативного» характера. Такова же позиция Ганса Райхенбаха, утверждающего, что «стремление в течение двух тысячелетий создать этику, базирующуюся на научной основе, было результатом ошибочного представления о том, что познание включает в себя и нормативный элемент».
С позиции нормального человеческого разума подобные рассуждения представляются абсурдными, поскольку известно, что, во-первых, ни одно общество не может существовать без определенного морального кодекса, то есть общезначимых нравственных норм, а во-вторых, истинность или ложность любого морального принципа можно проверить и доказать лишь в самой социальной практике. Однако было бы наивно думать, что концепции, о которых шла речь выше, есть результат самоцельных философско-логических спекуляций. Эти концепции, на словах демонстрирующие высокомерное презрение к любому практическому эффекту, на деле преследуют именно этот эффект, а точнее, стремятся воздвигнуть барьер перед агрессией и насилием, аналогичный барьеру, который в прошлые эпохи возводила буржуазная мораль. Не желая мириться со своей обреченностью, капитализм прибегает к насилию во всех его формах, лишь бы отсрочить свою гибель, лишь бы избежать ее. Вместе с тем на повестке дня перед ним стоит задача – отменить все эти буржуазные нормы, придуманные и узаконенные самой буржуазной нравственностью, которые в наши дни становятся препятствием в деле спасения капитализма посредством насилия.
Отказ буржуазии от буржуазной морали хорошо иллюстрирует в своей книге «Псевдоэтика» американская публицистка М. Холси: «Маккартистская охота на ведьм в США возвысила «большую ложь» в ранг политического оружия, что весьма напоминает методы Гитлера и Геббельса. В основе официальной буржуазной этики лежит следующий принцип: «Ложь допустима, если вы разоблачаете коммунистов». Позже этот принцип был сокращен до размеров самого элементарного правила: «Ложь допустима»[136]136
Halsey M. The Pseudo-Ethic. N. Y., 1963.
[Закрыть].
Точно так же, как известно, осуществляется манипуляция не только ложью, но и всеми формами принуждения и насилия, включая физическое уничтожение, независимо от того, применяются ли они к рядовому вьетнамскому патриоту или братьям Кеннеди. И если все же в ряде случаев официальная администрация вынуждена начать какое-то подобие расследования с целью найти и наказать преступников, то делается это лишь для того, чтобы успокоить общественное мнение и создать видимость правосудия.
За всеми псевдонаучными теориями, по существу отрицающими мораль, и за всей общественной практикой, являющейся покушением на мораль, скрывается элементарное желание, которое известные буржуазные сторонники войны не постеснялись сформулировать открыто: «Первоосновой и главнейшей задачей будущей стратегии Америки в самом широком смысле слова является сохранение и упрочение нашей политической системы, и эта задача представляется нам более важной, чем сохранение мира… Мы не можем допустить, чтобы верх взяла политическая система, противоположная нашей»[137]137
Strausz-Hupé R., Kintner W., Possony S. A Forward Strategy for America.
[Закрыть]. Коротко и ясно. А сознают или не сознают буржуазные теоретики, что своими трудами помогают решению именно этой задачи, не так уж важно.
Вполне пригодны для решения данной проблемы и теории инстинкта, оправдывающие агрессию и насилие и лишенные серьезной научной ценности.
Не отрицая наличия инстинкта или элементов биологического инстинкта у человека, заметим, что эти элементы не равносильны животному инстинкту. Они претерпели существенные качественные изменения в процессе многовековой исторической практики, являясь уже элементами очеловеченного инстинкта. Маркс писал, что в процессе трудовой практики, «воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он (человек) в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в нем силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти»[138]138
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 189.
[Закрыть]. Речь идет именно о власти сознания, которое руководит уже измененной и, следовательно, подлежащей дальнейшему изменению человеческой сущностью. А это изменение, между прочим, и есть изменение инстинкта. «Человек отличается от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же – что его инстинкт осознан»[139]139
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 30.
[Закрыть].
И все же, хотя определенные инстинкты и существуют у человека (видоизмененные и подчиненные его человеческому сознанию), инстинкт разрушения – проста произвольная кабинетная фабрикация, результат произвольной интерпретации тенденциозно подобранных фактов. Абсурдно говорить о существовании такого инстинкта у животных, где кровожадность представляет собой частный случай проявления инстинкта самосохранения. Сытый хищник теряет значительную часть своей агрессивности.
В человеческой истории насильственные и разрушительные действия были проявлением не инстинкта разрушения и саморазрушения, а стремлением к самозащите и даже к самоутверждению. Зная условия развития человека и общества, можно удивляться не тому, что существует насилие, а тому, что человек вопреки всему сумел сохранить в себе и развить человечность и доброту, творческое созидающее начало.
Практический эффект от популяризации концепций биологизма и аморальности очевиден. Конечной целью внедрения этих концепций является оправдание и мотивация мизантропии и пессимистического отношения к будущему человечества, а вместе с этим и утверждение зверства как характернейшей человеческой черты. Разумеется, все эти неофрейдисты, неопозитивисты и семантики с их неудобоваримой терминологией и неуклюжими философскими спекуляциями не в состоянии оказать сколько-нибудь серьезного влияния на широкую аудиторию. Но то, чего не могут сделать теоретики, делают создатели «массовой культуры» и ее популяризаторы. Публицистические и художественно-популярные жанры «масс-медиа» сейчас на Западе представляют собой трансмиссию, посредством которой пропаганда мизантропии и насилия охватила широкие слои населения.
Современная пропаганда насилия (научная и художественная) при всем своем размахе и всех своих отталкивающих качествах в принципе ничем не отличается от апологии насилия на более ранних этапах развития буржуазного общества. Разница – капитальная и фатальная – между тем, что было, и тем, что есть сейчас, не в области теории, а в практической сфере. Человечество в наши дни создало такие средства массового уничтожения, что акт насилия, превратившийся в капиталистических странах в государственную политику, в состоянии привести в действие зловещий механизм термоядерного конфликта, равносильного катастрофе для всего человечества.
И вполне естественно, что в лагере буржуазной науки все чаще раздаются трезвые голоса людей, сознающих степень риска и в большей или меньшей мере отрицательно относящихся к практике узаконенного насилия. Но ахиллесова пята этих людей в том, что они, отстаивая разные позиции, могут приходить к разным выводам, хотя в ряде своих основных концепций они все же недалеко ушли от апологетов насилия. В качестве примера сошлемся на монографию немецкого психоаналитика Александра Митчерлиха «Идея о мире и человеческая агрессивность»[140]140
Mitscherlich A. L'idée de paix et l’agressivité humaine. Paris, 1970.
[Закрыть], в которой он затрагивает многие из интересующих нас проблем. Самое мягкое из возражений, адресованных автору этой книги, касается непоследовательности. Впрочем, трудно понять, нужно ли его ругать за это или хвалить, поскольку, будь книга последовательной, она была бы целиком фрейдистской.
Положительно само стремление Митчерлиха изучить агрессивность не просто как феномен индивидуального поведения, но и как социальное явление, порожденное определенными общественными причинами. Положительна и тенденция преодолеть все оправдывающий психологизм или «беспристрастный» объективизм и раскрыть подлинный характер насилия – не только как покушение на объект, но и как саморазрушение субъекта. Положительны, наконец, и попытки демаскировать классовые интересы и лицемерное отношение капитализма к формам индивидуального и коллективного насилия:
«Агрессивность плохо влияет на коллективную жизнь, и порой она встречает моральное осуждение. Ее клеймят как порок. Но бывает и наоборот, и тогда агрессия выдается за проявление мужества и героизма, акт, достойный вождя. Если агрессивность направлена на «неприятеля» и увенчается успехом, друзья и знакомые хранят молчание».
Говоря о формах военного насилия, лицемерно выдаваемых буржуазией за героическую защиту «национальных идеалов», Митчерлих вспоминает о нацистской демагогии, использовавшей аналогичные приемы: «Когда задумаешься о том, что произошло у нас в Германии, когда вспомнишь Сталинград и Дрезден, с полным правом можешь не признавать жертв во имя «нового порядка» в том виде, как его представляли в то время. «Кровь и земля», «раса господ», «национальное достоинство» – это не категории, достойные героической защиты, а просто символы, назначение которых – пробудить агрессивность масс».
Говоря о том, что «преднамеренно лживая информация» и требование «железной дисциплины», исходящее от руководящей верхушки, призваны запутать и подчинить массы, автор добавляет: «Если мы хотим избежать разрушительной агрессивности как коллективного феномена, руководимого элитой, нужно вывернуть наизнанку всю ее аргументацию: ничего хорошего нельзя сказать о политическом строе государства, граждане которого не ставятся в известность по поводу решений и основных мотивов действий своих политических представителей».
Митчерлих останавливается также на американских приемах воспитания «убийц по профессии». В качестве примера он использует опубликованные в печати воспоминания американского парашютиста, описывающего «систему, которая помогла ему выработать привычку страдать и наблюдать страдания ближнего, а также способ, с помощью которого его превратили – без какой-либо связи с идеологией – в машину для убийства… Этот рассказ дает нам возможность констатировать, что каждого молодого человека можно приучить жить и действовать таким образом. Когда он исполнил свою миссию, закончил дело, с ним уже все кончено: он не может больше испытывать никаких душевных или эмоциональных терзаний».
Впрочем, эта строки Митчерлиха взяты нами не из его книги, а из американского журнала «Нью-Йоркер», где он пишет об этих воспоминаниях парашютиста. Автор правильно замечает, что психика насильника уже деформирована и вряд ли здесь уместно говорить о нейтральном отношении к идеологии: «Напротив, все те, кто прошел подобную школу, готовящую убийц, ослеплены вполне определенной идеологией – идеологией расового превосходства».
Наконец, Митчерлих пытается назвать и экономические первопричины возникновения насилия как формы общественных отношений. Споря с такими авторами, как Фромм, придерживающимися взгляда о врожденных человеческих недостатках и об отсутствии какой бы то ни было эволюции в этом отношении, Митчерлих не без оснований указывает, что некоторые формы насилия являются результатом как раз материального развития: «Трагедия начинается лишь в пору расцвета частной собственности. Трагедия, порождаемая взаимной агрессией, завистью… Может быть, все проекты социалистического общества связаны именно с надеждой в один прекрасный день освободиться от зависти и эксплуатации, иными словами, от агрессивного соперничества и глубокого влечения, порождаемого им».






