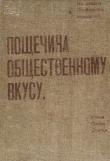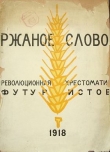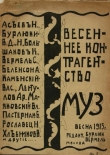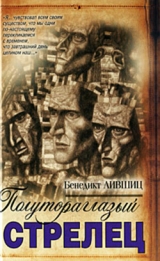
Текст книги "Полутораглазый стрелец"
Автор книги: Бенедикт Лившиц
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
– Интуиция! – продолжал кипятиться Маринетти. – Кто сказал, что между интуицией и рассудочным восприятием можно провести резкую грань? Я этого никогда не утверждал! Напротив, относительность обоих состояний, взаимно перекрещивающихся на каждом шагу, для меня вещь бесспорная. Та идеальная поэзия, о которой нам в настоящее время позволено только мечтать и которая явится не чем иным, как непрерывной цепью «аналогий второго порядка»,[550]550
Цель «аналогий второго порядка» – согласно Маринетти, это «иллогический ряд не объяснительный, а интуитивный, вторых положений многочисленных аналогий, не связанных между собой и противопоставленных друг другу» (там же, с. 44).
[Закрыть] действительно будет вполне иррациональной. Но для этого надо преодолеть еще многое: изгнать из литературы всякую психологию, заменить ее лирической одержимостью веществом…
– Вы говорите: одержимость веществом! – сел я на свой тогдашний конек. – Но если это не поэтическая метафора, вы должны сознаться, что в этом отношении приоритет принадлежит нам, тем, кого вы считаете азиатами… Одной одержимости веществом мало. Для претворения ее в произведение искусства требуется прежде всего наличие чувства материала… Но именно этого на Западе нет: Запад материала, как органической субстанции искусства, не чувствует. Это можно подтвердить десятками примеров: за последние сорок лет их не оберешься.
– Однако раскрепощение живописи у вас, в России, началось под влиянием французов…
– Мы противопоставляем Западу не Россию, а весь Восток, которого мы являемся только частью… Неужели вы забыли о том времени, когда имена Хокусаи и Утамаро[551]551
Хокусаи – см. ст-ние и примеч. № 74. Утамаро Китагава (1753–1806) – известный японский график.
[Закрыть] были в Париже не менее популярны, чем имена Клода Монэ или Ренуара? А пуэнтель? Ее обычно рассматривают как дочь импрессионистской «запятой» и как внучку широкого мазка Делакруа. Но разве не ближе она к мозаике, которая заключает в себе все свойства пуэнтели – включительно до вибрации света, достигаемой при помощи золотых пластинок? Недаром же на Западе пуэнтелизм в лице Синьяка уперся в тупик, а у нас, в России, пуэнтель продолжала свою жизнь органической клетки, дробясь, ширясь и превращаясь в витражи Владимира Бурлюка.[552]552
Лившиц был прав, утверждая, что пуантилизм Синьяка исчерпал свои возможности, но ошибался, видя в «витражной» живописи В. Бурлюка, обогащенной влиянием византийской мозаики, продолжение или развитие пуантилистского метода.
[Закрыть] Видели вы картины Якулова? Знаете ли вы, что его вращающийся солнечный диск на год старше делонеевского симюльтанэ?[553]553
См. гл. 6, 132.
[Закрыть]
– Вы говорите только о живописи…
– Потому что она, так же как и скульптура, как и музыка, – международный язык искусства. Вы думаете, что в поэзии дело обстоит иначе? К сожалению, Хлебников для вас пустой звук:[554]554
Крученых вспоминал о совместном с Хлебниковым сборнике «Тэ-ли-лэ» в письме к А. Г. Островскому от июля 1929 г.: «Из эпохи приезда Маринетти в Россию помню такой случай: я показывал ему книгу «Тэ-ли-лэ» с необычайными цветными рисунками О. Розановой и спросил: «Было ли у вас (итальянцев) что-нибудь подобное по внешности?» – Он сказал: «Нет!» – Я: «Как не было ничего подобного по внешности, так не имеется подобного и по содержанию!» Маринетти и его друзья-итальянцы были шокированы…» (Wiener slawistischer almanach. Band 1, Wien, 1978, S. 7 – публикация Р. Циглер).
[Закрыть] он совершенно непереводим в тех своих вещах, где с наибольшей силой сказалась его гениальность. Самые отважные дерзания Рембо – ребяческий лепет по сравнению с тем, что делает Хлебников, взрывая тысячелетние языковые напластования и бесстрашно погружаясь в артикуляционные бездны первозданного слова.
– Для чего нужна эта архаика? – пожимает плечами Маринетти. – Разве она способна выразить всю сложность современных темпов?
– Ваш вопрос чрезвычайно характерен. Он только лишнее доказательство того равнодушия к материалу, которое вы тщетно стараетесь прикрыть громкими фразами о лирической одержимости веществом. В самом деле, во имя чего вы предлагаете уничтожить знаки препинания? Во имя красоты скорости, не правда ли? Ну, а нам на эту красоту, извините, наплевать! Лежа на койке sleeping car'a, /Спальный вагон (англ.). – Ред./ мы вовсе не хотим ощущать наше перемещение в пространстве. Максимальный комфорт, к которому стремится современная техника, как раз и заключается в том, чтобы по возможности ослабить всякую тряску, качку и прочие «красоты» скорости. Неужели обладание женщиной доставляет вам наслаждение только в том случае, когда вы делаете половой акт объектом вашего любования? Мы называем это развратом…
– Вы, русские, ленивы и малоподвижны.[555]555
Парафраз известного афоризма Пушкина из «Путешествия в Арзрум». Здесь Маринетти как бы возвращает Лившицу пушкинскую формулу, услышанную, вероятно, от кого-то из своих русских знакомых, и переосмысливает ее, имея в виду основной принцип футуризма – принцип скорости и движения – в духе футуристической экспансии.
[Закрыть] Это, пожалуй, действительно восточная черта…
– Мы последовательнее вас. Еще пять лет назад мы уничтожили знаки препинания, но пошли на это не для того, чтобы заменить их новой пунктуацией, кстати сказать, только замедляющей ваши пресловутые темпы… Мы этим способом подчеркиваем непрерывность словесной массы, ее стихийную космическую сущность. Единственно доступная поэту одержимость веществом есть одержимость материалом его искусства, погружение в стихию слова. Это – не архаика, а практика космологии, не допускающая для себя никакого измерения временем.
– Это – метафизика, – внезапно багровеет Маринетти, – метафизика со всем, что в ней есть наиболее омерзительного: с претензиями на монопольную эксплуатацию всяких «потусторонних» ценностей! При чем тут футуризм? – кричит он уже на весь стол.
– А при чем он в захвате Триполитании? – ору я не менее громко.
Встревоженный Кульбин подходит к нам, решив, что настал момент пролить на бушующие волны примирительный елей. Усадив между нами одну из самых красивых представительниц «итальянского поселка на Неве», он быстро переводит разговор на другую тему. Я великодушно уступаю Маринетти право и впредь распоряжаться судьбой Омар эль Мухтара,[556]556
Омар эль Мухтар – предводитель ливийского племени синусис, боровшегося против итальянцев во время итало-турецкой войны, был захвачен в плен и казнен в 1931 г.
[Закрыть] в которой все равно ничего не могу изменить. Он взамен отдает мне в бесконтрольное пользование первозданные бездны слова, не стоящие, по его мнению, и пяди триполитанской земли.
Снова придя в хорошее настроение, Маринетти преподносит мне свою последнюю книгу – многошумный «Цанг Тумб Тууум», с надписью в виде стрелы,[557]557
В дарственных надписях Маринетти неизменно повторял и варьировал рисунок-стрелу, сохранились другие экземпляры его кн. «Zang Tumb Tuuum» и «Футуризм» с надписями, сделанными в Москве и Петербурге. См. ПС-I, с. 229.
[Закрыть] обозначающей союз итальянских и русских футуристов, направленный против всякого пассеизма.
Мы расходимся с тем, чтобы завтра же, часам к двенадцати ночи, встретиться в «Бродячей Собаке», где назначено чествование знаменитого гостя.
V
Не одну ночь, а несколько ночей кряду провел Маринетти в «Бродячей Собаке».[558]558
Чествование Маринетти в «Бродячей собаке» проходило с 1 по 5 февраля 1914 г. См. в отчете: «Маринетти около пяти раз был в «Бродячей Собаке», просиживая там до раннего утра и ведя беседы с литературной братией Петербурга» («Новь», 1914, 12 февраля); см. ПК 1983, с. 185–186 и письмо Н. Кульбина к А. Лентулову: «В Петербурге Маринетти проводил все ночи в «Бродячей Собаке». Мы с ним очень подружились и по его желанию даже побратались» (собр. М. А. Лентуловой).
[Закрыть] Чествование затянулось почти на неделю, приняв размеры тех продолжительных пиршеств, которые во времена Майн Рида объединяли вокруг бизоньих туш целое индейское племя.[559]559
С лета 1928 г. Лившиц вместе с О. Мандельштамом редактировал переводы ряда романов Майн Рида из его собр. соч., выходившего в изд-ве «ЗИФ». Договор был расторгнут, так как оба поэта не знали английского языка, а пользовались французскими переводами (см. об этом: «Новый мир», 1987, № 10, с. 201–202).
[Закрыть] Засучив рукава, не то как мясник, не то как фокусник, на глазах у менявшейся в своем составе толпы, потрошил Маринетти тушу футуризма.[560]560
Впоследствии Пронин вспоминал: «В «Собаке» была целая неделя Маринетти, она была страшно яркая, и все, кто обложил Маринетти, были побиты. Маринетти сразу почувствовал нашу атмосферу, было решено, что он в «Собаке» будет делать конферанс о Париже и о разных течениях <…>. Читал он на французском языке, мало кто понял, но, по словам Кульбина, это был замечательный, содержательный конферанс. <…> Он читал две поэмы: о маленькой улице в Париже по ту сторону Нотр-Дам, тут и разносчик, который кричит «арикó», и крик точильщика – замечательно сделано! – и еще одну, под названием «Автомобиль». За эту неделю в «Собаке» Маринетти прочел ее раз десять – самая боевая его штука. Я плохо понимаю язык, тем более поэтический, но в этой поэме чувствовалась машина необычайной мощности, которая несется по шоссе, потом постепенно, очень мощно, усиливает ход, и возникает ощущение, что она взлетает на вершину холма, затем спуск. Там были слова «plus de contact», и мне казалось, что машина отделяется от земли и парит в воздухе» (Пронин Б. К. В «Бродячей собаке». Стенограмма воспоминаний. – ГММ).
[Закрыть]
Советом старейшин, восседавшим по обе стороны жречествующего итальянца, оказались мы, отечественные будетляне, к которым обычно Борис Пронин относился свысока. Теперь мы сразу поднялись в цене: горькая радость для «азиатов» – греться в лучах «европейской» славы, но не в «Собаке» же было блюсти ортодоксию! Кроме того, утешением могло служить и то обстоятельство, что акмеисты, воплощавшие в себе последние умопостигаемые пределы «настоящего» искусства, за которыми, по мнению «собачьих» распорядителей, уже зияла пропасть футуристического безумия, были загнаны в темные углы, отлучены негласным декретом Пронина от пиршественного стола.
Маринетти с необычайной легкостью переворачивал с боку на бок громоздкую тушу своей доктрины, извлекая из нее, как ярмарочный чародей самые неожиданные вещи. Он обладал поразительной способностью: скользнув взглядом по окружающей его толпе, безошибочно угадывать, чтó ей нужно, чем ее можно взять наверняка.
Здесь, в этом подвале, где стуком вилок и ножей заглушались интереснейшие доклады, где месяцем позже Поль Фор,[561]561
Об акмеистах и П. Форе см. гл. 8, 17, 22, 29.
[Закрыть] введенный в заблуждение обстановкой, морил своими «конферансами» ни в чем не повинных «фармацевтов», Маринетти не прочел ни одной лекции, не сделал ни одного сообщения, хотя в любой час дня и ночи мог говорить без конца на тему о футуризме, ставшем единственным содержанием его жизни.
В «Бродячей Собаке» он ни разу не взошел на эстраду, чтобы изложить перед публикой, занимавшей столики, свой символ веры. Он сам сидел за столом, осушая бокал за бокалом, безразличный ко всему, что происходило в двух шагах от него. Однако достаточно было кому-либо, подойдя к роялю, взять несколько тягучих аккордов, возвещавших неизбежное в том сезоне танго, чтобы Маринетти, сразу стряхнув с себя сонливость, разразился громовой речью.
За десять дней до приезда в Россию он выпустил манифест «Долой танго и Парсифаля!»[562]562
Манифест «Долой танго и Парсифаля!» в переводе В. Шершеневича был напечатан в «Нови» («Новый манифест Маринетти». – «Новь», 1914, 28 января).
[Закрыть] и теперь цитировал из него на память наиболее хлесткие места.
– Обладать женщиной – не значит тереться об нее, а проникать телом в тело! – грозно выкрикивал он.
– Вставлять одно колено между ляжек? Какая наивность! А что будет делать второе? – обращался он к окаменевшей паре, только собиравшейся стать в позицию.
Сраженные такими афоризмами, самые отъявленные тангисты примерзали к своим стульям. Маринетти победоносно осматривался по сторонам и снова погружался в дремоту, пока произнесенное кем-нибудь имя Пушкина не заставляло его опять вскакивать из-за стола.
– Я слышу – Пушкин! – негодующе набрасывался он на неосторожного «фармацевта», некстати вспомнившего о традициях великого прошлого. – Долго ли мертвые еще будут хватать живых![563]563
«Долго ли мертвые еще будут хватать живых!» – французская пословица. Ср. использование этой пословицы Маринетти в «Речи, произнесенной на футуристических митингах в Триесте, Милане, Турине, Неаполе» (апрель—июнь 1910): «Да, могилы в ходу. Зловещее выступление кладбищ. Мертвые овладевают живыми» (Маринетти Ф. Т. Футуризм, с. 21).
[Закрыть] Вы говорили вчера, – поворачивается он ко мне, – что не хотите упускать своих провиденциальных выгод, своего исторического счастья быть максималистами в искусстве! Попробуйте доказать это, ссылаясь на отсутствие у вас музеев, библиотек и прочих страшилищ! Вашим Пушкиным вам затыкают рот не хуже, чем нам – нашими покойниками!
Эти короткие выпады стоили часового доклада, так как могли служить наглядными уроками применения доктрины в действии. Нуждались ли мы в таких уроках? Не думаю, хотя порою мы и грешили излишним тяготением к наукоподобию и типичной для русской интеллигенции оторванностью теории от практики.
Во всяком случае Маринетти был уверен, что выполняет в России некие наставнические функции: ушаты холодной воды, вроде нашей листовки, ненадолго охлаждали его апостольский пыл.
VI
Я убедился в этом на другой день, когда зашел к нему в «Регину»,[564]564
«Регина» – гостиница, находилась на набережной Мойки, 61. Вторая лекция Маринетти, состоявшаяся 4 февраля, была посвящена футуристической «живописи, скульптуре, пластическому динамизму» («Речь», 1914, 5 февраля).
[Закрыть] чтобы вместе с ним поехать на его вторую лекцию в зал Калашниковской биржи.
Я застал его в довольно странном виде: уже в смокинге, с повязанным галстуком, он стоял посреди номера в одних кальсонах и грустно разглядывал свои брюки, только что лопнувшие в самом критическом месте. Другой пары черных брюк у него не было, а выступать перед столичной публикой в пиджачном костюме ему казалось совершенно невозможным.
Напрасно уговаривал я его не обращать внимания на такие пустяки, напрасно старался я пробудить в нем футуристическое бесстрашие и равнодушие к мнению окружающих, напрасно подзадоривал желтой кофтой Маяковского и разрисованными щеками Бурлюка: он был непоколебим. Нечего делать – пришлось вызвать коридорного и предложить ему каким угодно способом в четверть часа исправить повреждение.
Слуга, очевидно, решил помочь горю собственными силами, но явно переоценил свое портняжеское дарование: едва Маринетти натянул на себя злополучные брюки, как они снова расползлись на том же месте.
Ждать больше было невозможно: до начала лекции оставалось каких-нибудь двадцать минут. Кое-как скрепив прореху английскими булавками, глава европейского футуризма устремился вниз по лестнице к поджидавшему нас автомобилю.
Еще в номере я заметил на столе у Маринетти кучу нераспечатанных конвертов и спросил его, что это за корреспонденция.
– Женские письма, полученные здесь. В Москве их набралось вдвое больше, – не без гордости ответил он.
– Почему же вы даже не вскрыли их? Из презрения к женщине?
– Не только. Я ведь не знаю русского языка, а они почти все пишут по-русски… Как это характерно для вас, славян, и как непохоже на нас…
– Что – «это»? И о ком вы говорите: об итальянцах или о футуристах?
– Странные люди вы, русские, – продолжал он, не отвечая на мой вопрос. – Заметив, что вам нравится женщина, вы три года копаетесь у себя в душе, размышляете, любите ли вы ее или нет, затем три года колеблетесь, сообщить ли ей об этом и как это сделать наилучшим образом… Потом наступает пора жениховства, которую вы стараетесь растянуть на возможно более долгий срок… Когда же вы наконец становитесь мужем и женой, оказывается, что у вас обоих любовь давным-давно выветрилась и что вы опоздали на добрый десяток лет!
– Откуда вы взяли эту ерунду?
– Вся ваша литература полна этим… Тургенев… Толстой… То ли дело мы (опять это неопределенное «мы»!)… Если нам нравится женщина, мы усаживаем ее в авто, спускаем шторы и в десять минут получаем то, чего вы добиваетесь годами.
Что можно было противопоставить этому фаллическому пафосу в сто лошадиных сил?
Я ничего не возразил.

Сочтя мое молчание за одобрение, Маринетти потерял последнее чувство меры. Впав в менторский тон, он принялся поучать меня, вернее, в моем лице всех русских футуристов.
– Не понимаю, отчего между вами идет нескончаемая грызня! Неужели вы не в состоянии выработать общую платформу и открыть по неприятелю ураганный огонь? Мы, итальянские футуристы, поступились личными разногласиями ради общей идеи. Почему бы и вам не отказаться от раздирающих вас распрей и не объединиться по нашему образцу?
У меня не было ни времени, ни охоты посвящать моего собеседника в историю возникновения будетлянства. Пришлось бы перетряхивать слишком многое – вплоть до случайного происхождения нашего наименования, от чего у Маринетти, вероятно, дыбом бы встали волосы на затылке, единственном месте, где они у него сохранились. Я предпочел уклониться от прямого ответа и слушать дальнейшие разглагольствования «вождя».
По его словам, ему и его товарищам было очень трудно найти помещение для организованной ими «дирекции».[565]565
Маринетти ставил на собственных изданиях, а также на книгах своих соратников адрес «дирекции» – «Direzione del Movimento Futurista. Milano, Corso Venezia, 61».
[Закрыть] Домовладельцы один за другим расторгали с ними контракты, так как кошачьи концерты, устраиваемые зачинателям футуризма студенческой молодежью, не давали спать остальным жильцам.
– Я был принужден купить дом: иного выхода не было, – заключил свое повествование Маринетти.
«Многие ли из наших маститых писателей, – подумал я, – имеют возможность с такою легкостью устранять препятствия на своем пути? И какая непосредственность нравов сохранилась у них, в их индустриальном Милане: студенты, кошачьи концерты! Кому в России взбрело бы в голову бороться такими способами с футуризмом!»
Словно задавшись целью поразить меня патриархальной простотою этого быта, противоречившей моим представлениям о промышленном центре, Маринетти рассказал мне о Медардо Россо,[566]566
Pocco Медардо (1858–1928) – итальянский скульптор, работавший в русле импрессионизма.
[Закрыть] итальянском Родене, которого, несмотря на расхождение во взглядах, футуристы чтили как гордость своей страны.
Россо зарабатывал много, но никогда не был уверен в завтрашнем дне, так как не привык отказывать себе в своих прихотях. Чтобы застраховать себя от безденежья, он изобрел оригинальное средство: получив деньги, он разбрасывал их горстями по всем углам мастерской, а потом, в трудную минуту, ползал по полу на карачках, отыскивая завалившийся золотой.
Его одолевали кредиторы. Однажды они устроили настоящую осаду дома, в котором он жил. Желая пробраться в кафе, где у него было назначено свидание, и опасаясь встречи с заимодавцами, сторожившими у подъезда, он предложил друзьям вынести его из дому в ящике, в котором доставлялась покупателям его скульптура. Кредиторы, решив, что реализация заказа приблизит момент расплаты, сами помогли установить тяжелый ящик на тележку. Таким же образом Россо вернулся к себе домой, обогатив свою биографию еще одной занимательной легендой.
VII
В строе миланской жизни, картина которой мало-помалу вырисовывалась в моем сознании, сохранилась, очевидно, достаточная доза провинциальности, не чуждой и облику самого Маринетти, – таков был вывод, естественно напрашивавшийся из моей последней беседы с ним.
Действительно, чем, если не простодушием провинциала, можно было объяснить такую пресную пошлятину, как тезисы, с которых Маринетти, появившись на кафедре, начал свою лекцию о живописи, скульптуре и музыке?
Объявлять, что следует относиться с презрением ко всем видам подражания и что надлежит славить оригинальность, в чем бы она ни обнаруживалась; ополчаться против тирании слов «гармония» и «хороший вкус»; утверждать, что художественная критика бесполезна или даже вредна и что надо рассматривать как почетный титул звание безумца – в четырнадцатом году было непростительной наивностью. О таких вещах уже нельзя было говорить, не краснея. Это казалось тем более ненужным, что именно в изобразительных искусствах итальянские футуристы достигли зрелости раньше, чем в других областях. И Боччони, и Карра, и Руссоло, и Балла, и Северини, выдвинувшие еще в десятом году теорию пластического динамизма,[567]567
Речь идет о «Манифесте художников-футуристов» – см. гл. 2, 57.
[Закрыть] ушли далеко вперед от былых ребяческих лозунгов.
Излагая основы нового живописного мировосприятия, Маринетти тревожным взором, смысл которого был ясен лишь мне одному, поглядывал время от времени на английскую булавку, удерживавшую его от чрезмерно пылкой жестикуляции.
– Вместо закрепления предмета в определенной точке пространства, футуристы, – широко рассекал он воздух рукой и, спохватившись, опускал глаза ниже пояса, – стремятся представить его в движении. Первоначальный поверхностный подход к трактовке движения, выразившийся в известной формуле: «у бегущей лошади не четыре ноги, а двадцать ног»,[568]568
«У бегущей лошади не четыре ноги, а двадцать ног…» – формула из «Манифеста художников-футуристов»: «Ввиду устойчивости образа в сетчатой оболочке, предметы множатся, деформируются, преследуя друг друга, как торопливые вибрации, в пространстве, ими пробегаемом. Вот каким образом у бегущих лошадей не четыре ноги, а двадцать, и их движения треугольны» («Манифесты итальянского футуризма», с. 11).
[Закрыть] сменяется более широким пониманием динамических задач, стоящих перед современной живописью.
Форма в движении (движение относительное) уже не удовлетворяет итальянских футуристов: они пытаются передать движение формы (движение абсолютное), так как только деформация тела в движении приводит к преодолению силуэтизма, позволяет говорить об истинном динамизме.
В тесной связи с этой теорией стоит своеобразная концепция, которую Боччони называет физическим трансцендентализмом. Боччони открыл, что все предметы устремлены в бесконечность своими сило-линиями, протяженность которых измеряется только интуицией художника. Чтобы вернуть живопись в лоно подлинного искусства, – опять энергичный жест и вслед за ним смущенный взгляд под пюпитр, – художник должен изображать на холсте физические тела как начала или продолжения ритмов, которые они, эти тела, вызывают в нашей душе. Мы воспроизводим не звуки, а их вибрирующие интервалы, нас интересуют не болезни, а их симптомы и последствия…[569]569
Об этих идеях скульптора и живописца Умберто Боччони см. в его «Техническом манифесте футуристической скульптуры» – «Манифесты итальянского футуризма», с. 28–35; см. также манифест «Экспоненты к публике» в сб. «Союз молодежи» (Спб., 1912, № 2, с. 29–35), подписанный Боччони, Kappa, Руссоло, Балла и Северини.
[Закрыть]
Мне не нравился этот указательный перст в виде сило-линий, направленный из предмета в пространство. Он знаменовал для меня и недоверие к моему восприятию, и беспомощность живописца, не сумевшего уложить ритм в пределы изображаемого предмета, ритмизировать пространственно-ограниченную форму его и подавшегося в сторону наименьшего сопротивления, продолжая договариваться с этой формой где-то по пути в бесконечность.
Одно было для меня бесспорным: лучизм, которым Ларионов пробовал «перекрыть» итальянцев, весь помещался в жилетном кармане Боччони.[570]570
Впервые лучистские картины Ларионов показал в декабре 1912 г. сразу на двух выставках – «Союз молодежи» (Петербург) и «Мир искусства» (Москва). По мысли Ларионова, лучизм должен был оторвать живопись от предметности, превратить ее в самоценное и самодовлеющее искусство цвета. Основные положения теории лучизма, достаточно наивной, сводились к тому, что зритель не видит самих предметов, а воспринимает пучки лучей, исходящие от них, которые в картине изображаются цветными линиями. Практика лучизма оказалась гораздо интереснее и плодотворнее его теории. Лившиц слишком категоричен в утверждении, что весь лучизм «помещался в жилетном кармане Боччони». Лучизм возник независимо от итальянского футуризма, и корни его нужно искать в русской почве. В частности, в поздних рисунках и картинах Врубеля можно обнаружить пластические структуры, которые как бы предвосхищают лучистские построения Ларионова (цикл «Пророки», «Шестикрылый серафим» и др.). Лучистские холсты Ларионова высоко оценил Г. Аполлинер: «Михаил Ларионов, в свою очередь, принес не только в русскую, но и европейскую живопись новую утонченность – лучизм» (G. A. Exposition Natalie de Gontcharova et Michel Larionov. – «Les soirees de Paris», 1914, № 26–27, p. 71). Противоположность лучизма абстрактному искусству и беспредметности супрематизма подметил Н. Пунин, считавший, что теория лучизма была выдвинута Ларионовым «в качестве барьера против некоторых рационалистических тенденций кубизма» и на практике явилась «плодом очень тонких реалистических сопоставлений» (Пунин Н. Импрессионистический период в творчестве М. Ф. Ларионова. – В сб.: Материалы по русскому искусству. Л., 1928, т. 1, с. 291).
[Закрыть]
Впрочем, не одно это. Я думал также о том, что если футуризму суждено войти в историю искусства не только как попытке выразить новое видение мира, но и в качестве опыта построения новой эстетики, он будет обязан этим главным образом Боччони. Ибо лишь в его формулировках футуризм приобретал некое подобие системы.
Как будто сознавая это, Маринетти старался держаться как можно ближе к высказываниям своего друга.
Боччони-скульптор представлял собою фигуру еще более примечательную, чем Боччони-живописец. В его слоновьем одиночестве было нечто хлебниковское. В его творчестве теория шла рука об руку с практикой, она не забегала вперед, опасаясь предварить практику чисто декларативными положениями. Все его тезисы уже были воплощены в его работах.
Не только стремление запечатлевать в линии жест, но также и однородность материала, которым обычно пользуется художник, превратили, по мнению Боччони, ваяние в искусство статическое. Таким образом, введение в скульптуру различных материалов уже само может сдвинуть ее с мертвой точки, внеся в нее известный динамизм.
Однако было бы ошибкой полагать, что статичность скульптуры преодолевается одним лишь разнообразием материала. Еще важнее – трактовка формы. Скульптор должен стремиться к отвлеченному воспроизведению поверхности объемов, образующих внешнюю форму предмета, а не к рабскому копированию этой формы. Как и в живописи, существенным вспомогательным средством здесь является сило-линия, указующая направление и возможности формы, призванной выразить длительность движения в пространстве.
Основным пороком всей предшествующей, традиционной трактовки формы был отрыв изображаемого предмета от окружающей его среды, изоляция его в пространстве. Необходимо потому, заключает Боччони, любою ценою добиться обратного эффекта: слияния объекта со средою. Гений Медардо Россо уже постиг неизбежность этого единственно правильного пути. Но, пытаясь передать незримые связи, соединяющие предмет с его окружением, Россо не сумел довести это до конца. Его скульптура, к которой он подошел с чисто живописной точки зрения, его своеобразные горельефы и барельефы отмечены всеми достоинствами и недостатками импрессионистического метода. Удар его резца – тот же ренуаровский мазок.
В отличие от Медардо Россо, итальянские футуристы поняли, что искомое слияние предмета со средою может быть достигнуто только взаимопроникновением поверхностей. Колесо мотора должно вырастать из-под мышки механика, плоскость стола – пересекать голову человека, читающего книгу, а самая книга – веером своих листов врезаться ему в живот. Необходимо совершенно позабыть фигуру, заключенную в традиционные линии, и дать вместо нее фигуру как центр пластических направлений в пространстве, направлений, обусловленных сило-линиями.
Здесь возникает весьма серьезное затруднение, кажущееся на первый взгляд непреодолимым.
Мертвая, статическая линия упразднена – прекрасно!
А как же быть с периферией скульптурного целого? Надо ведь где-нибудь остановить бесконечное вхождение в предмет окружающей его среды? Не включать же и Млечный Путь в череп ночного сторожа!
Боччони разрубает гордиев узел, сводя на нет периферию скульптурной массы окрашиванием ее крайних выступов в черный и серый цвета с постепенным посветлением к центру. Он создает вспомогательную светотень, обращаясь для этого к средствам живописи. Бояться таких экспериментов нечего. Что может быть нелепее опасения переступить пределы одного какого-либо искусства! Недаром же в первом своем манифесте он заявил, что не существует ни живописи, ни скульптуры, ни музыки, ни поэзии, а что подлинно реален только творческий акт.
И хотя в том же манифесте, отдавая дань фетишистскому преклонению перед машинизмом, Боччони утверждал, что закрывающийся и открывающийся клапан рождает ритм, несравненно более прекрасный и новый, чем веко животного, мне становилось ясным даже в изложении Маринетти, что все эти движущиеся поршни, зубчатые колеса, вращающиеся пропеллеры привлекают к себе Боччони не как символы сверхиндустриальной современности, а как пластические элементы, от использования которых не вправе отказаться скульптор-футурист.
Напротив, в «искусстве шумов»,[571]571
«Искусство шумов» – название футуристического манифеста, написанного художником Луиджи Руссоло (11 марта 1913) – см. Манифесты итальянского футуризма, с. 51–58.
[Закрыть] которому Маринетти посвятил вторую часть доклада, наивный урбанизм представал во всей своей неприглядности.
– Современный человек, в особенности горожанин, – уверял нас Маринетти, – ищет более сложной полифонии, большего разнообразия тембров, большей звуковой колоритности, чем те, какие ему может дать классическая музыка, исключая Вагнера: чистый звук своей недостаточной силой и своей монотонностью уже не вызывает в нас никакого волнения. Нам нужны диссонирующие аккорды или, по крайней мере, звукошумы, как переход к беспримесным шумам, призванным завершить собою эволюцию музыки, идущую параллельно с ростом индустриализма.
Так как каждый шум имеет известную тональность, а иногда является даже аккордом, господствующим над совокупностью нерегулярных вибраций, это дает нам возможность искусственно воспроизводить их, варьируя высоту шума, но сохраняя его тембр. Такое воспроизведение отнюдь не должно быть простым подражанием звону трамваев, пыхтению моторов, гуденью аэропланов и т. д., а идеальной комбинацией этих шумов, которые изобретатель нового вида искусства Луиджи Руссоло даже разбил на шесть категорий.
Как известно, Руссоло никогда музыкантом не был: пожалуй, именно это обстоятельство позволило ему оказаться «футуристичнее» самого короля футуристической музыки, Балилла Прателлы,[572]572
В этом манифесте Л. Руссоло обращался к Б. Прателле: «Дорогой Прателла, представляю на рассмотрение твоего футуристического гения эти новые идеи и приглашаю тебя обсудить их со мною. Я не музыкант. Стало быть, у меня нет никаких акустических предпочтений, и мне нет надобности защищать какие-либо произведения. Я живописец-футурист, который выбрасывает из себя по поводу глубоко любимого искусства свою волю все обновить. Вот почему, более безрассудный, чем самый безрассудный из профессиональных музыкантов, ничуть не заботясь о своей кажущейся некомпетентности, зная, что смелость дает все права и все возможности, я задумал обновление музыки посредством Искусства Шумов» (Маринетти Ф. Т. Футуризм, с. 217).
[Закрыть] которому он великодушно переуступил свое открытие. Прателла хотя первый заговорил о том, что музыка должна выражать «душу толпы, душу крупных заводов, поездов, трансатлантических пароходов, броненосцев, автомобилей и т. п.»,[573]573
Цитата из «Манифеста музыкантов-футуристов» (1911) Б. Прателлы (там же, с. 139).
[Закрыть] однако сам дальше платонических пожеланий не пошел, ограничившись требованием замены хроматизма энгармонизмом.
Вытеснение хроматической гаммы энгармоническим рядом, с его бесконечными возможностями дробления тона на какие угодно доли, по существу подводило музыку к тому же «искусству шумов», но, так сказать, изнутри: переступая в нашем слуховом восприятии пределы, за которыми звук неизбежно переходит в шум.
Переворот, вносимый в музыкальную традицию Балилла Прателлой, оказывался, таким образом, глубже шумовых экспериментов Руссоло. Вероятно, поэтому он вызывал такое негодование Артура Лурье, сидевшего рядом со мною и нервно заерзавшего на стуле с тех пор, как Маринетти перешел к изложению музыкальных теорий итальянских футуристов.
Быть может, это надо отнести за счет того, о чем я упоминал неоднократно, – за счет моего невежества в музыке, – но я действительно не понимал, в чем же заключается новаторство Лурье, если его «тезисы» еще в одиннадцатом году были опубликованы в манифесте Прателлы, притом в гораздо более связной форме, чем мне это приходилось слышать из уст моего соратника.
– Это нельзя оставить без ответа, – горячился он, шлепая губами, в углах которых поминутно вскакивали пузыри слюны. – Я непременно прочту лекцию!
Мы тут же решили, что выступим сообща с публичным ответом Маринетти: я возьму на себя полемику по части поэзии и изобразительных искусств, а он – в плане музыкальном. Запад надо было «осадить», и мы, незадолго перед тем выпустившие свой трехъязычный плакат, считали себя обязанными сделать это еще до отъезда итальянского гостя.
VIII
Прежде чем приниматься за составление доклада, необходимо было позаботиться о приискании председателя диспута, так как полиция, умудренная опытом наших вечеров, почти всегда завершавшихся скандалами, не разрешала футуристам выступлений иначе как под поручительство почтенных профессоров, бравших на себя ответственность за могущие произойти беспорядки.
Найти такого поручителя было нелегко, ибо, после короткой полосы оживленного «флирта» между будетлянами и маститыми жрецами академической науки, увенчанные лаврами старцы быстро убедились, что общение с футуристами – слишком рискованный способ омоложения и что нет никакого смысла делить с ними единственное, что мы могли им предложить: всероссийский позор.
Для того чтобы не отпугнуть такого свадебного генерала, приходилось прибегать ко всяким ухищрениям: являясь к нему для переговоров, запихивать куда-нибудь подальше вынутую из петлицы деревянную ложку, смывать со своих щек лошадок и собачек,[574]574
Здесь намек на К. Малевича и Д. Бурлюка, использовавших такие эпатажные приемы.
[Закрыть] любовно расписанных акварелью, словом, прикидываться паиньками, никогда не слыхавшими ни о каких скандалах.
Однако с каждым разом это становилось труднее и труднее. Даже Бодуэн де Куртенэ,[575]575
Бодуэн де Куртенэ И. А. (1845–1929) – выдающийся языковед, основатель так называемой Казанской лингвистической школы, в 1900–1915 гг. профессор Петербургского университета. Проявлял интерес к футуризму, написал две статьи об этом: «Слово и „слово“» и «К теории „слова как такового“ и „буквы как таковой“» («Отклики», приложение к газ. «День», 1914, № 7 и 8—20 и 27 февраля), был председателем на «Вечере о новом слове» в Тенишевском училище (3 февраля 1914 г.) с участием футуристов.
[Закрыть] одно время с готовностью откликавшийся на наши просьбы, в конце концов пришел к заключению, что ни чести, ни корысти его отзывчивость ему не принесет. Так как моя внешность и манера держаться ничем не выдавали моей принадлежности к будетлянскому лагерю, именно на меня в ту пору возлагалась нелегкая задача улещивания старцев. Я выполнял ее не за страх, а за совесть, но, поскольку положено сапожнику ходить без сапог, к своему собственному вечеру я остался без председателя. Случилось это следующим образом.
За пять дней до моей лекции в Тенишевке был назначен «Вечер о новом слове»[576]576
Кроме Шкловского и Пяста, на «Вечере о новом слове» выступил с докладом Кульбин, а также – поэты А. Ахматова, Г. Иванов, В. Гнедов, Р. Ивнев, А. Крученых и др. (см. Пяст В. Встречи, с. 276–279; Шкловский В. Жили-были, с. 100–101 и ПК 1983, с. 226). См. также подробный отчет – «Скандальный диспут» («Речь», 1914, 10 февраля).
[Закрыть] с двумя докладами: Шкловского «О воскрешении вещей» и Пяста «О будущем в прошлом». Председателем диспута, к которому были привлечены представители всех литературных направлений, решили пригласить С. А. Венгерова.[577]577
Профессор С. А. Венгеров (см. о нем гл. 6, 31) жил на Загородном пр., д. 21.
[Закрыть]
Оставив дома черное жабо, которое я носил вместо галстука и которое одно могло меня скомпрометировать, я отправился на Загородный к прославленному историку литературы. Он принял меня любезно, пожалуй, даже слишком любезно – как принимает президент Французской республики вождя какого-нибудь африканского племени.
Венгеров явно присматривался ко мне, как к вестнику из другого мира, и я уже начинал испытывать сожаление, что не пришел к нему с расписанными щеками: не для того, чтобы эпатировать его, а из вполне понятного желания подчеркнуть свою независимость.
Дыша мне в лицо только что съеденным обедом, он придвигался ко мне вплотную. Обилие перхоти, усеивавшей воротник и плечи его сюртука, вызывало у меня невольную дрожь брезгливости. Как знать, быть может, именно эта перхоть еще в большей мере, чем та, которую он обрушивал на листы пушкинских рукописей, внушала священный ужас ученикам, не сумевшим отделить эту существенную деталь его наружности от всего образа учителя? Мы ведь нередко сообщаем свойства имманентности совершенно случайным атрибутам, вклиняя в представление о геометрии запах таинственного лекарства, вырывавшийся из распахнутой полы вицмундира преподавателя математики, или сосредоточивая в бородавке, вдвое больше сологубовской и почтительно объезжаемой парикмахером, всю полноту директорской власти, подобно тому, как в средние века видели в gianduia pinealis /Шишковидная железа в головном мозге (лат.). – Ред./ седалище души.
Я окончил юридический факультет, а не филологический, и не в Петербурге, а в Киеве: не потому ли со свободой, недоступной ни Коле Бурлюку, ни Пясту, я отчленил accidentalia от essentialia /Здесь оппозиция философских понятий: случайное, преходящее – существенное, внутреннее (лат.). – Ред./– устрашающие вихри перхоти от тех сокровищ, которые Венгеров на протяжении десятилетий обметал своей бородой Черномора?
Они лежали за плоскими витринами – собственно, не они, а фотографические снимки с них, – черновики пушкинских стихов и прозы, отделенные от их обладателя не стеклом – о, нет! – невзрываемыми пластами той абсолютной чужеродности, какая только мыслима между насельниками двух планетных систем. Они находились в плену у человека, чье любовное отношение к ним само по себе казалось мне надругательством над ними, и хотя мне, товарищу тех, кто сбрасывал Пушкина с «парохода современности»,[578]578
Знаменательно, что главный ниспровергатель Пушкина Хлебников посещал в 1909 г. Пушкинский семинарий Венгерова.
[Закрыть] меньше всего приличествовала роль освободителя – Руслана, я, позабыв о цели своего прихода, неожиданно произнес целую речь, дерзость которой могла сравниться только с ее искренностью.
Венгеров оторопел: вероятно, первый раз в жизни ему приходилось подвергаться нападению со стороны, в неуязвимости которой он сомневался меньше, чем в собственном существовании.
Привлеченные моим громким голосом, в дверях столпились «адъюнкты», должно быть корпевшие в соседней комнате. В их улыбках и отрывочных замечаниях мне почудилась не ирония, а сочувствие, умеряемое только пиететом к учителю, и я, поощренный этой перекличкой молодости с молодостью, окончательно закусил удила.