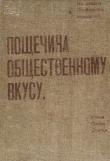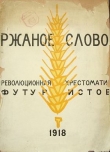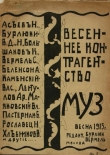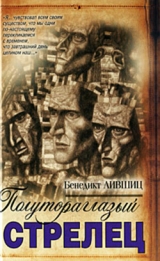
Текст книги "Полутораглазый стрелец"
Автор книги: Бенедикт Лившиц
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира. Вместо квадрата, вместо круга, к которым Малевич уже тогда пытался свести свою живопись, он получил возможность оперировать их объемными коррелятами, кубом и шаром,[420]420
К. Малевич был создателем супрематизма – нового направления в беспредметной живописи. В 1928 г. Малевич отмечал в письме в редакцию журнала: «Супрематизм возник в 1913 г. (плоскостное явление) <…>. С 1918 года начинается развитие объемного супрематизма, элементы которого возникли еще в 1915 году» («Современная архитектура», 1928, № 5, с. 156). Эскизы к «Победе над Солнцем» действительно предварили «исступленную беспредметность супрематизма», но тогда, в декабре 1913 г., сам Малевич еще, вероятно, не догадывался о свершившемся в его творчестве решительном переломе. В 1915 г., вспоминая свою работу над оформлением оперы, он писал М. Матюшину: «То, что было сделано бессознательно, теперь дает необычайные плоды» (ЕРО 1974, с. 186).
[Закрыть] и, дорвавшись до них, с беспощадностью Савонаролы[421]421
Савонарола Джироламо (1452–1498) – флорентийский монах-проповедник, обличал папство, фанатически преследовал в искусстве проявления «соблазнов дьявола», призывал церковь к аскетизму, организовывая сожжения произведений искусства.
[Закрыть] принялся истреблять все, что ложилось мимо намеченных им осей.
Это была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма, но как разительно отличалась она от той зауми, которую декламировали и пели люди в треуголках и панцирях! Здесь – высокая организованность материала, напряжение, воля, ничего случайного, там – хаос, расхлябанность, произвол, эпилептические судороги…
Постановка Малевича наглядно показала, какое значение в работе над абстрактной формой имеет внутренняя закономерность художественного произведения, воспринимаемая прежде всего как его композиция. Расслаивая огульное представление о зауми, она отметала в одну сторону хлебниковские «бобэоби», а в другую – хлыстовскую глоссолалию Варлаама Шишкова.[422]422
Хлыстовскую глоссолалию Варлаама Шишкова – здесь намек на заумные стихи Крученых (см. гл. 4, 66). Ср. также оценку постановки «Победы над Солнцем» в статье ее участника М. В. Матюшина «Футуризм в Петербурге» (ПЖРФ, с. 153–157).
[Закрыть]
Живопись – в этот раз даже не станковая, а театральная! – опять вела за собой на поводу будетлянских речетворцев, расчищая за них все еще недостаточно ясные основные категории их незавершенной поэтики.
VI
Спектакли на Офицерской подняли на небывалую высоту интерес широкой публики к футуризму. О футуризме заговорили все, в том числе и те, кому не было никакого дела ни до литературы, ни до театра. Только флексивные особенности фамилии Маяковского помешали ей превратиться в такое корневое гнездо, каким оказалось слово «Бурлюк», породившее ряд производных речений: бурлюкать, бурлюканье, бурлючье и т. д.
Но, связав вдвойне судьбу своей «трагедии» с собственной фамилией,[423]423
Крученых вспоминал: «Маяковский до того спешно писал пьесу, что даже не успел дать ей название, и в цензуру его рукопись пошла под заголовком: «Владимир Маяковский. Трагедия». Когда выпускалась афиша, то полицмейстер никакого нового названия уже не разрешал, а Маяковский даже обрадовался: «Ну, пусть трагедия так и называется – „Владимир Маяковский“» (ГММ).
[Закрыть] Маяковский бил наверняка: его популярность после спектаклей в Луна-парке возросла чрезвычайно. Одевайся он тогда, как все порядочные люди, в витринах модных магазинов, быть может, появились бы воротники и галстуки «Маяковский». Но желтая кофта[424]424
Ср. в дневниковой записи И. В. Евдокимова от 30 ноября 1913 г., сделанной после диспута футуристов: «Бродил в Соляном городке <…> хотелось выступать на этой высокой эстраде, хотелось желтой кофты. Костюм этот положительно элегантен, гораздо лучше подлого пиджака. И плохо делают футуристы, что не ходят в нем постоянно – это был бы символ их группы…» (ЦГАЛИ).
[Закрыть] и голая шея были неподражаемы par excellence /По преимуществу (франц.). – Ред./…
Маяковскому не хотелось уезжать в Москву: он как будто не мог всласть надышаться окружавшим его в Петербурге воздухом успеха. Мы встречались с ним ежедневно: у Бурлюков, у Кульбина, у Пуни, в «Бродячей Собаке», где он сразу стал желанным гостем: барометр Бориса Пронина прекрасно улавливал все «атмосферные» колебания.[425]425
Следует отметить, что в эти дни состоялись два знаменательных литературных вечера, в определенной мере связанные с Маяковским и Лившицем. 7 декабря 1913 г. В. Пяст в своей лекции «Поэзия вне групп», посвященной в основном футуристам, назвал Маяковского «крупным талантом», а Лившица – «талантливым» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 426; ПК 1983, с. 218–219). 10 декабря Лившиц выступил на диспуте после лекции Н. Кульбина «Футуризм и отношение к нему общества и критики». Объявленный в программе Маяковский выступить, вероятно, не мог, так как в печати появились сообщения, что совет Училища живописи, ваяния и зодчества запретил ученикам участвовать в диспутах («Санкт-Петербургские ведомости», 1913, 10 декабря; «Голос Москвы», 1913, 13 декабря). В те дни петербургские газеты поместили фотографию участников этого диспута (среди них – Лившиц), с издевательской подписью, поясняющей, что это «герои» из «коллекции известного исследователя вырождения профессора Ч. Ломброзо» («Биржевые ведомости», 1913, 13 декабря, веч. вып.; «Петербургская газета», 1913, 12 декабря). Футуристы подали в суд на газеты («Златоцвет», 1914, № 2, с. 15). После этих вечеров диспуты с участием обоих поэтов продолжались в «Бродячей собаке». 11 или 12 декабря 1913 г. Маяковский вернулся в Москву. Пуни И. – см. гл. 6, 93.
[Закрыть]
Но едва ли не лучшим показателем высокого курса будетлянских акций было начавшееся в том же декабре сближение наше с эгофутуристами, вернее, с Игорем Северянином.[426]426
Сближение кубофутуристов с И. Северянином произошло, вероятно, несколько ранее, так как уже 2 ноября 1913 г. Н. Бурлюк, Хлебников выступали вместе с И. Северянином, В. Гнедовым и др. на вечере в Петербургском женском медицинском институте (см. «День», 1913, 4 ноября). Переговоры о совместных выступлениях шли еще в начале 1913 г., И. Северянин сообщал А. Н. Чеботаревской в письме от 14 января 1913 г.: «Д. Бурлюк вчера прислал приглашение: читать и спорить» (ЦГАЛИ).
[Закрыть]
К тому времени Северянин уже порвал с группой «Петербургского Глашатая», возглавлявшейся И. Игнатьевым, но для всех эгофутуристов «северный бард»[427]427
Игнатьев И. В. (Казанский – 1892–1914) – поэт, критик, глава (с 1913 г.) группы петербургских эгофутуристов, основал изд-во «Петербургский глашатай» (см. также гл. 2, 59, 60). «Северный бард» – автохарактеристика И. Северянина из ст-ния «Поэза о Карамзине» (сб. «Громокипящий кубок»).
[Закрыть] оставался признанным вождем и единственным козырем в их полемике с нами.
Эгофутуристы были нашими противниками справа, между тем как левый фланг в борьбе против нас пыталась занять группа «Ослиного Хвоста» и «Мишени», выступившая зимою тринадцатого года под знаменем «всёчества». Собственно на фронте живописном Ларионов и Гончарова именовали себя лучистами, но на том участке, где у нас происходили с ними «теоретико-философские» схватки и где Илья Зданевич заживо хоронил благополучно здравствовавший футуризм, они называли себя «всёками».[428]428
Зданевич И. М. (1894–1975) – поэт-заумник, художественный критик, теоретик искусства, автор монографии «Наталия Гончарова, Михаил Ларионов» (М., 1913), изданной под псевдонимом Эли Эганбюри. 5 ноября 1913 г, в Москве на закрытии выставки Н. Гончаровой выступил с обоснованием «всёчества», отвергавшего футуризм и являвшегося своеобразным предшественником дадаизма (см. КИРА, с. 80). Основные положения «всёчества» – использование и комбинирование всех прошлых форм искусства; «всёки», «победившие время и пространство <…> черпают источники вдохновения, где им угодно» («Русское слово», 1913, 6 ноября). Сохранился автограф на книге С. Боброва «Вертоградари над лозами» (М., 1912, с иллюстрациями Н. Гончаровой): «Его Всёчеству Всёку Всёковичу Зданевичу за Гончарову М. Ларионов, пришла сама и расписалась тоже Всёка Гончарова» (собр. А. Е. Парниса). 31 марта 1914 г. в Петербурге в Петровском училище выступил И. Зданевич с докладом о творчестве Н. Гончаровой, в диспуте по докладу должны были принять участие Лившиц, О. Мандельштам, А. Лурье, М. Ле-Дантю и др., однако диспут не состоялся (см. «День», 1914, 31 марта; «Петербургский курьер», 1914, 3 апреля).
[Закрыть]
Сущность всёчества была исключительно проста: все эпохи, все течения в искусстве объявлялись равноценными, поскольку каждое из них способно служить источником вдохновения для победивших время и пространство всёков. Эклектизм, возведенный в канон, – такова была Америка, открытая Зданевичем,[429]429
Намек на эпатажное заявление И. Зданевича о том, что «американский башмак прекраснее Венеры Милосской», которое он неоднократно прокламировал в своих публичных выступлениях, – см. ПК 1983, с. 224.
[Закрыть] вся «теория» которого оказывалась лишь многословным парафразом истрепанной брюсовской формулы:
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И господа и дьявола
Хочу прославить я.[430]430
Строфа из ст-ния Брюсова «Непоколебимой истине» (1901), впоследствии озаглавленного «З. Н. Гиппиус» (Брюсов В. Urbi et Orbi. М., 1903). Об обстоятельствах создания этого ст-ния см.: Гиппиус 3. Н. Живые лица. Прага, 1925, с. 89.
[Закрыть]
Опасность, угрожавшая футуризму «слева», страшила нас не больше, чем смехотворные наскоки «Глашатая» и «Мезонина Поэзии».[431]431
«Мезонин поэзии» – группировка московских эгофутуристов: В. Шершеневич, Л. Зак (выступавший под псевдонимами – Хрисанф и М. Россиянский), С. Третьяков, Р. Ивнев и др., просуществовала около года (1913–1914).
[Закрыть] Будетляне прочно занимали господствующие высоты, и это отлично учел Северянин, когда через Кульбина предложил нам заключить союз.
Кульбин, умудрявшийся сохранять дружеские отношения с представителями самых противоположных направлений, с жаром взялся за дело. Так как наиболее несговорчивыми людьми в нашей группе были Маяковский и я, он решил взять быка за рога и «обработать» нас обоих. Пригласив к себе Маяковского и меня, он познакомил нас с Северянином, которого я до тех пор ни разу не видел.[432]432
Однако С. С. Шамардина (1894–1980), близкая знакомая Маяковского и адресат его ранних ст-ний, свидетельствует в своих неизданных воспоминаниях о поэте, что именно она осенью-зимой 1913 г. познакомила его с И. Северянином (ЦГАЛИ). О взаимоотношениях поэтов см.: Харджиев. Маяковский и Игорь Северянин. – Russian Literature, Amsterdam, 1978, № VI—4, pp. 307–346.
[Закрыть]
Северянин находился тогда в апогее славы. К нему внимательно присматривался Блок, следивший за его судьбою поэта и сокрушавшийся о том, что у него нет «темы». О нем на всех перекрестках продолжал трубить Сологуб, подсказавший ему заглавие «Громокипящего кубка» и своим восторженным предисловием немало поспособствовавший его известности. Даже Брюсов и Гумилев, хотя и с оговорками, признавали в нем незаурядное дарование.[433]433
Блок записал в дневнике 25 марта 1913 г.: «Отказываюсь от многих своих слов, я преуменьшал его, хотя он и нравился мне временами очень. Это – настоящий, свежий, детский талант. Куда пойдет он, еще нельзя сказать: что с ним стрясется: у него нет темы. <…> Футуристы прежде всего дали уже Игоря-Северянина» (Блок А. Собр. соч., т. 7. М., 1963, с. 232). Сохранилась книга А. Блока «Ночные часы» (М., 1911) с дарственной надписью: «Игорю Северянину – поэту с открытой душой. Александр Блок.
Декабрь 1911» (см. С[уперфин] Г. Автограф А. Блока. – газ. «Тартуский государственный университет», 1982, 26 ноября). Кроме известного предисловия к книге И. Северянина «Громокипящий кубок», Ф. Сологуб посвятил ему также триолет «Восходит новая звезда…» и организовал весной 1913 г. совместное турне с выступлениями по городам России. В 1911 г. И. Северянина «приветствовал» Брюсов, а в 1915 г. он писал о своем двойственном отношении к его стихам в статье «Игорь Северянин» (см.: «Критика о творчестве Игоря Северянина», М., 1916, с. 9—26). Гумилев одним из первых откликнулся на публикацию стихов И. Северянина (см. «Аполлон», 1911, № 5), а в рецензии на «Громокипящий кубок» писал: «Нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности» («Аполлон», 1914, № 1–2).
[Закрыть] Маяковскому, как я уже упоминал, нравились его стихи, и он нередко полуиронически, полусерьезно напевал их про себя. Я тоже любил «Громокипящий кубок» – не все, конечно, но по-настоящему: вопреки рассудку.[434]434
Об этой манере Маяковского читать стихи И. Северянина, пародируя авторскую мелодекламацию, вспоминала Л. Ю. Брик: «Ему доставляло удовольствие произносить северянинские стихи. Он относился к ним почти как к зауми. Он всегда пел их на северянинский мотив (чуть перевранный), почти всерьез» (МВС, с. 334). См. также статью Маяковского «Поэзовечер Игоря Северянина» (ПСС, I, 338). Я тоже любил «Громокипящий кубок» – ср. замечание С. Боброва о том, что стихи Лившица из CC–II написаны «под явным влиянием И. Северянина» (сб. «Руконог». М., 1914, с. 43).
[Закрыть]
Мы сидели вчетвером в обвешанном картинами кабинете Кульбина, где, кроме медицинских книг, ничто не напоминало о профессии хозяина. Беседа не вязалась. Говорил один Кульбин, поочередно останавливая на каждом из нас пристальный взор, в котором мне всегда мерещилась немая мольба. Он, казалось, постоянно молил о чем-то своими глубоко запавшими, укоризненно-печальными глазами. О чем? О любви, о нежности, о снисхождении – не только к нему, пугавшемуся собственных парадоксов сейчас же после того, как он с вымученно-наглым видом изрекал их, но ко всему на свете и, в первую очередь, к нам самим, к молодежи, не привыкшей щадить друг друга и крайне подозрительно относившейся ко всяким попыткам сгладить существовавшие между нами противоречия.
Теперь он тоже обволакивал нас троих просящим взглядом, в котором наряду с бескорыстием присяжного миротворца угадывалась заинтересованность страстного экспериментатора. Я рассеянно слушал его и рассматривал сидевшего напротив меня Северянина.
Он, видимо, старался походить на Уайльда, с которым у него было нечто общее в наружности. Но до чего казалась мне жалкой русская интерпретация Дориана![435]435
Дориан – главный герой романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891). Для русской литературно-художественной богемы начала XX в. была характерна стилизация «под Оскара Уайльда» и героев его произведений. По свидетельству В. Каменского, Маяковский в одном из своих выступлений так охарактеризовал И. Северянина: «Самый модный дэнди, вроде Оскара Уайльда из Сестрорецка» (Каменский В. Жизнь с Маяковским. М., 1940, с. 39). См. также «ассосонет» И. Северянина «Оскар Уайльд» (сб. «Громокипящий кубок»).
[Закрыть] Помятое лицо с нездоровой сероватой кожей, припухшие веки, мутные глаза. Он как будто только что проснулся после попойки и еще не успел привести себя в порядок. Меня удивила неряшливость «изысканного грезэра»: грязные, давно не мытые руки, залитые «крем де виолетом»[436]436
«Крем де виолет» («Creme de Violette») – название французского ликера, образ из ст-ния «Фиолетовый транс» (сб. «Громокипящий кубок»). Впоследствии И. Северянин выпустил сборник с таким заглавием – «Creme de Violette» (Юрьев, 1919).
[Закрыть] лацканы уайльдовского сюртука…
На вопросы, с которыми к нему иногда обращался Кульбин, он многозначительно мычал или отвечал двумя-тремя словами, выговаривая русское «н» в нос, как это делают люди, желающие щегольнуть отсутствующим у них французским произношением. Ни одного иностранного языка Северянин не знал; уйдя не то из четвертого, не то из шестого класса гимназии,[437]437
В неопубликованной анкете (1912), написанной для профессора С. А. Венгерова, И. Северянин указывает, что он «окончил 4 класса» реального училища в Череповце (ИРЛИ). Этот и другие малоизвестные факты биографии И. Северянина Лившиц заимствовал, вероятно, из рукописной книги «Футуристы», подготовленной к печати А. Г. Островским.
[Закрыть] он на этом и закончил свое образование. Однако надо отдать ему справедливость, он в совершенстве постиг искусство пауз, умолчаний, односложных реплик, возведя его в систему, прекрасно помогавшую ему поддерживать любой разговор. Впоследствии, познакомившись с ним поближе, я не мог надивиться ловкости, с которой он маневрировал среди самых каверзных тем.
Северянин стоял в стороне от всего, что нас волновало, с чем у нас были большие, запутанные счеты, – в стороне от французской живописи, от символизма.[438]438
Вопреки утверждению Лившица, поэзия И. Северянина, как он сам признавался в своих декларациях, тяготела к поэтике символизма и в отличие от кубофутуристов была ориентирована не на живопись, а на музыку (см. ст-ние «Я – композитор» из сб. «Златолира», М., 1914; о воздействии «любимых композиторов» на его творчество см. в «Автобиографической справке» – «Критика о творчестве Игоря Северянина», с. [5]).
[Закрыть] Для него этих вопросов не существовало. Он еще не подошел к порогу раннего символизма, бродил в предрассветных его сумерках и, вопреки собственному заявлению:
застыл на культе Лохвицкой и Фофанова,[440]440
Ранний период И. Северянина прошел под значительным воздействием поэтов-предтеч декадентства и символизма, адептов «чистой поэзии» М. А. Лохвицкой (1869–1905) и К. М. Фофанова (1862–1911), которым он посвятил многие свои ст-ния.
[Закрыть] то есть на «Ниве» девяностых годов, на еще не разрыхленном «новыми веяниями» макарте, окопавшемся где-то в провинциальной глуши Владивостока и Харбина.
Двадцать лет, отделявшие нас от первого сборника русских символистов,[441]441
Первый выпуск «Русских символистов» вышел в Москве в 1894 г. (2-й и 3-й выпуски – в 1894 и 1895 гг.) и включал ряд ст-ний и переводов Брюсова и несколько ст-ний А. Л. Миропольского (А. А. Ланг, 1872–1917).
[Закрыть] были для Северянина прожиты впустую: он отталкивался от Надсона,[442]442
Однако сам И. Северянин противопоставлял свои стихи поэзии С. Я. Надсона, см., например, в ст-нии «Поэза вне абонемента»: «Я сам себе боюсь признаться, Что я живу в такой стране, Где четверть века центрит Надсон, А я и Мирра – в стороне…». Ср. о Надсоне в позднем ст-нии «Поющие глаза» (1927).
[Закрыть] как мы отталкивались от Брюсова.
Девяностые годы наступали на нас из плюшевых с бронзовыми застежками семейных альбомов, где затянутые в рюмочку дальневосточные красавицы еще не успели расстаться с турнюрами, чтобы превратиться в столичных «кокотесс»; где мечтательные почтово-телеграфные чиновники, в блаженном неведении торпедо и лимузинов, вдохновенно опирались на слишком высокий руль слишком тонкошинного велосипеда; где будущие защитники Порт-Артура[443]443
Будущие защитники Порт-Артура… – имеются в виду темы и мотивы ранних ст-ний И. Северянина, навеянных событиями русско-японской войны 1904–1905 гг. (сб. «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры», Спб., 1904; «Гибель „Рюрика“», Спб., 1904; «Подвиг „Новика“», Спб., 1905 и др.).
[Закрыть] еще щеголяли в юнкерском мундире, держа руку у пояса на штыке новейшего образца, только что выпущенного Тульским оружейным заводом.
Никакие неологизмы, никакие «крем де мандарины», под прикрытием которых наползал на нас этот квантунский пласт культуры,[444]444
«Крем де мандарин» – название французского ликера, образ из ст-ния И. Северянина «Каретка куртизанки» (1911). Квантунский пласт культуры – метафорическое определение провинциализма поэзии И. Северянина, который провел всего семь месяцев в 1903 г. в порту Дальнем (так называемая Квантунская область Ляодунского полуострова), где служил его отец.
[Закрыть] не могли ввести ни меня, ни Маяковского в заблуждение. Но рецидив девяностых годов до того был немыслим, их яд до такой степени утратил свою вирулентность, что перспектива союза с Северянином не внушала нам никаких опасений.
Однако выгоды этого блока представлялись нам слишком незначительными. Мы медлили, так как торопиться было незачем. Тогда Кульбин предложил поехать в «Вену»,[445]445
«Вена» – ресторан в Петербурге на ул. Гоголя № 13/8, популярный в среде «газетной» богемы и литераторов, см.: «Десятилетие ресторана „Вена“» (Спб., 1913).
[Закрыть] зная по опыту, что в подобных местах самые трезвые взгляды быстро теряют всякую устойчивость. Действительно, к концу ужина от нашей мудрой осторожности не осталось и следа.
Кульбин торжествовал. Он размяк от умиления и договорился до того, что в лице нас троих, отныне, несмотря на все наши различия, тесно спаянных друг с другом, он видит… Пушкина.[446]446
Об отношении И. Северянина к Пушкину см. в его ст-ниях: «Для нас Державиным стал Пушкин, – Нам надо новых голосов» (цикл «Пролог», 1911); «Да, Пушкин стар для современья. Но Пушкин – Пушкински велик!» («Поэза истребления», 1914); «Я Пушкиным клянусь…» («Разбор собратьев», 1918). Северянин посвятил Пушкину ст-ние «О том, чье имя вечно» (1933 – «Кодры», 1983, № 4, с. 62) и написал онегинской строфой роман в стихах «Рояль Леандра» (Бухарест, 1935). Ср. в газетном отчете о вечере футуристов 29 ноября 1913 г. в Соляном городке: «Кульбин договорился до того, что у И. Северянина очень много общего с Пушкиным» («Петербургская газета», 1913, 1 декабря).
[Закрыть] За Пушкина обиделся я один: и Северянин и Маяковский явно обиделись каждый за себя.
Но новорожденный союз выдержал это первое испытание.
VII
Неделю спустя мы уже выступали совместно в пользу каких-то женских курсов.[447]447
Точных сведений об этом выступлении не обнаружено, возможно, речь идет о вечере 16 ноября 1913 г. на Высших женских курсах – см. Катанян 1985, с. 76.
[Закрыть]
Во второй половине дня Маяковский зашел за мною и предложил отправиться к Северянину, чтобы затем втроем поехать на вечер.
Северянин жил на Средней Подьяческой,[448]448
И. Северянин жил на ул. Средняя Подьяческая, № 5, кв. 8. Описание помещения и визита к И. Северянину у Лившица напоминает подобный эпизод в воспоминаниях Г. Иванова «Петербургские зимы» (Париж, 1928).
[Закрыть] в одном из домов, пользовавшихся нелестною славой. Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин. Одна из них, скрытая за облаками пара, довольно недружелюбно ответила на мой вопрос: «Дома ли Игорь Васильевич?» – и приказала мальчику лет семи-восьми проводить «этих господ к папе».
Мы очутились в совершенно темной комнате с наглухо заколоченными окнами. Из угла выплыла фигура Северянина. Жестом шателена он пригласил нас сесть на огромный, дребезжащий всеми пружинами диван.
Когда мои глаза немного освоились с полумраком, я принялся разглядывать окружавшую нас обстановку. За исключением исполинской музыкальной табакерки, на которой мы сидели, она, кажется, вся состояла из каких-то папок, кипами сложенных на полу, да несчетного количества высохших букетов, развешанных по стенам, пристроенных где только можно. Темнота, сырость, должно быть от соседства с прачечной, и обилие сухих цветов вызывали представление о склепе. Нужна была поистине безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем воздушных «озерзамков» и «шалэ».[449]449
Шателен (франц.) – владелец замка. «Озерзамки» и «шалэ» – образы, встречающиеся в ст-ниях И. Северянина «Поэзоконцерт», «В шалэ березовом», «Янтарная элегия» и др.
[Закрыть]
Мы попали некстати. У Северянина, верного расписанию, которое он печатал еще на обложках своих первых брошюрок, был час приема поклонниц. Извиняясь, но не без оттенка самодовольства, он сообщил нам об этом.
Действительно, не прошло и десяти минут, как в комнату влетела девушка в шубке. Она точно прорвалась сквозь какую-то преграду, и ей не сразу удалось остановиться с разбега. За распахнувшейся дверью, в облаках густого пара, призванных, казалось, обеззараживать от микробов адюльтера всех северянинских посетительниц, там, в чистилище прачечной, слышалось сердитое ворчанье.
Девушка оглянулась и, увидав посторонних, смутилась. Северянин взял из рук гостьи цветы и усадил ее рядом с нами. Через четверть часа – еще одна поклонница. Опять – дверь, белые клубы пара, ругань вдогонку, цветы, замешательство…
Мы свирепо молчали, только хозяин иногда издавал неопределенный носовой звук, отмечавший унылое течение времени в склепе, где томились пять человек. Маяковский пристально рассматривал обеих посетительниц, и в его взоре я уловил то же любопытство, с каким он подошел к папкам с газетными вырезками, грудою высившимся на полу.
Эта бумажная накипь славы, вкус которой он только начинал узнавать, волновала его своей близостью. Он перелистывал бесчисленные альбомы с наклеенными на картон рецензиями, заметками, статьями и как будто старался постигнуть сущность загадочного механизма «повсесердных утверждений»,[450]450
«Повсесердные утверждения» – формула из ст-ния «Эпилог» (1912). Свидетельство Лившица о том, что И. Северянин собирал вырезки из столичной и провинциальной прессы о своем творчестве, подтверждается подробнейшим библиографическим списком статей на 10 страницах, которым И. Северянин сопроводил анкету, посланную С. А. Венгерову (1912, ИРЛИ).
[Закрыть] обладатель которого лениво-томно развалился на диване в позе пресытившегося падишаха.
В том, как Маяковский прикасался к ворохам пыльной бумаги, в том, как он разглядывал обеих девушек, была деловитость наследника, торопящегося еще при жизни наследодателя подсчитать свои грядущие доходы. Популярность Северянина, воплощенная в газетных вырезках, в успехе у женщин, будила в Маяковском не зависть, нет, скорее – нетерпение.
Эта нервная взвинченность не оставляла его и на концерте, превратившемся в турнир между ним и Северянином. Оба читали свои лучшие вещи, стараясь перещеголять друг друга в аудитории, состоявшей сплошь из женщин. Инициатива вечера принадлежала, если не ошибаюсь, Северянину: эти курсы были одним из мест, где он пользовался неизменным успехом. Русский футуризм все еще находился в стадии матриархата.
Я впервые слышал чтение Северянина. Как известно, он пел свои стихи[451]451
С. С. Шамардина, тесно общавшаяся с обоими поэтами в это время, вспоминала: «Бывали вместе у Северянина. Помню один вечер у него: слушала Маяковского и Северянина, по очереди читающих свои стихи. Маяковский под Северянина «поет» какие-то стихи Северянина и спрашивает: похоже ли» (ЦГАЛИ).
[Закрыть] – на два-три мотива из Тома: сначала это немного ошарашивало, но, разумеется, вскоре приедалось. Лишь изредка он перемежал свое пение обыкновенной читкой, невероятно, однако, гнусавя и произнося звук «е» как «э»:
Северянину это, должно быть, казалось чрезвычайно шикарным: распустив павлиний хвост вовсю, он читал свои вещи на каком-то фантастическом диалекте. Однако, несмотря на эти многократно испытанные приемы покорения наивных сердец, успех Маяковского был ничуть не меньше. Это само по себе следовало признать уже победой, так как обычно после автора «Громокипящего кубка» публика крайне холодно принимала других поэтов.
В поединке на женских курсах, закончившемся вничью, уже проступили грозные для Северянина симптомы: на смену «изысканному грезэру», собиравшему дань скудеющих восторгов, приближался уверенной походкой «площадной горлан».[453]453
«Изысканный грезэр» – т. е. И. Северянин. «Площадной горлан» – т. е. Маяковский, образ восходит к поэме «Во весь голос». Ср. название гл. 6 в отдельной публикации – «Грезэр и горлан» («Стройка», 1931, № 36).
[Закрыть]
VIII
Помимо совместных публичных выступлений, блок с Северянином ознаменовался выпуском «Рыкающего Парнаса»,[454]454
В РП напечатаны ст-ния И. Северянина «Письмо О. С.» и «Поэза возмездия».
[Закрыть] в котором рядом с нашими вещами были напечатаны стихи Северянина. Из художников, кроме обоих Бурлюков, приняли участие в сборнике Пуни, Розанова и Филонов.[455]455
Пуни И. А. (1894–1956) – живописец, организатор выставок «Трамвай В» и «Последней футуристической выставки картин 0,10 (ноль – десять)». Филонов П. Н. (1883–1941) – ведущий живописец «Союза молодежи», еще в 1912 г. выступил против французского кубизма и русского кубофутуризма, противопоставив им концепцию аналитического искусства, которую он изложил в неопубликованной статье «Канон и закон» (1912, ИРЛИ). См. гл. 6, 49.
[Закрыть]
Из-за рисунков Филонова, в которых цензура, относившаяся спокойно к голозадым женщинам Давида, усмотрела порнографию, «Рыкающий Парнас»

был конфискован сразу по выходе в свет.[456]456
РП вышел из печати в феврале 1914 г. В нем были воспроизведены два рисунка П. Н. Филонова, вызвавшие запрет цензуры. Редактор сборника М. В. Матюшин писал: «В феврале 1914 г. я был вызван в Окружной суд как ответчик за изданный мною и Пуни сборник «Рыкающий Парнас». В помещенных в сборнике рисунках Филонова и Бурлюка цензура усмотрела нарушение благопристойности» (КИРА, с. 155). Матюшину удалось распространить около 200 экз. сборника.
[Закрыть] Это было тем более прискорбно, что сборник открывался декларацией, которой мы отмежевывались как от символистов, так и от эгофутуристов и акмеистов. Ввиду того что «Рыкающий Парнас», за исключением десятка экземпляров, вынесенных тайком из типографии, совсем не получил распространения, мне кажется нелишним привести этот документ полностью:[457]457
Манифест «Идите к черту» еще до перепечатки в ПС-I был напечатан во второй раз (после РП) вместе с черновой редакцией в книге Крученых «15 лет футуризма» (М., 1928), впоследствии – в трех изданиях Полного собр. соч. Маяковского (1935, 1940, 1961), а черновик манифеста – в СП, V, 249. См. также в сб. «Манифесты и программы русских футуристов» (Мюнхен, 1967), составленном профессором В. Марковым.
[Закрыть]
ИДИТЕ К ЧЕРТУ.
Ваш год прошел со дня выпуска первых наших книг: «Пощечина», «Громокипящий кубок», «Садок Судей» и др.
Появление Новых поэзий подействовало на еще ползающих старичков русской литературочки, как беломраморный Пушкин, танцующий танго.
Коммерческие старики тупо угадали раньше одурачиваемой ими публики ценность нового и «по привычке» посмотрели на нас карманом.
К. Чуковский (тоже не дурак!) развозил по всем ярмарочным городам ходкий товар: имена Крученых, Бурлюков, Хлебникова… Ф. Сологуб[458]458
Резкий выпад против Ф. Сологуба связан с организованной им и А. Н. Чеботаревской широкой кампанией по признанию И. Северянина; см. также гл. 6, 71.
[Закрыть] схватил шапку И. Северянина, чтобы прикрыть свой облысевший талантик.Василий Брюсов привычно жевал страницами «Русской Мысли»[459]459
Речь идет о статье Брюсова «Новые течения в русской поэзии. Футуристы» («Русская мысль», 1913, № 3, с. 124). «Ошибка» в имени Брюсова – намеренный прием (см. далее). «Это тебе не пробка…» – намек на купеческое происхождение Брюсова, дед которого занимался пробочной торговлей.
[Закрыть] поэзию Маяковского и Лившица.Брось, Вася, это тебе не пробка!..
Не затем ли старички[460]460
Ср. с образом Старика с кошками из трагедии «Владимир Маяковский» (ПСС, I, 156) и с тезисом из доклада Маяковского «Перчатка» (гл. 5, 39).
[Закрыть] гладили нас по головке, чтобы из искр нашей вызывающей поэзии наскоро сшить себе электропояс для общения с музами?..Эти субъекты дали повод табуну молодых людей, раньше без определенных занятий, наброситься на литературу и показать свое гримасничающее лицо: обсвистанный ветрами «Мезонин Поэзии», «Петербургский Глашатай» и др.
А рядом выползла свора Адамов с пробором – Гумилев, С. Маковский, С. Городецкий, Пяст, попробовавшая прицепить вывеску акмеизма и аполлонизма на потускневшие песни о тульских самоварах и игрушечных львах,[461]461
Адамы с пробором – т. е. «адамисты» или акмеисты. Пяст В. А. – см. о нем гл. 8, 16. Песни о тульских самоварах и игрушечных львах – здесь выпады против Городецкого (ст-ние «Нищая» с упоминанием «тульских самоваров» – из сб. «Ива», 1913) и Гумилева, у которого неоднократно в «африканских» ст-ниях варьируется образ льва (ср. стихотворный экспромт о Гумилеве-охотнике на львов в кн.: Пяст В. Встречи, с. 288–289).
[Закрыть] а потом начала кружиться пестрым хороводом вокруг утвердившихся футуристов…Сегодня мы выплевываем навязшее на наших зубах прошлое, заявляя:
1) Все футуристы объединены только нашей группой.
2) Мы отбросили наши случайные клички «эго» и «кубо» и объединились в единую литературную компанию футуристов:
Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Игорь Северянин, Виктор Хлебников.
Составили мы этот манифест вшестером, на квартире у четы Пуни, взявших на себя расходы по изданию сборника. Николай Бурлюк отказался присоединить свою подпись, резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к черту людей, которым через час будешь пожимать руку. Действительно, ни одна из наших деклараций еще не вызывала в литературной среде такого возмущения, как этот плод нашего совместного творчества. Каждое слово в нем как будто было рассчитано на то, чтобы кого-нибудь оскорбить.
Василий – не опечатка, а озорство: поэт любил свое имя, вводил его в стихи, злоупотреблял его благозвучием, что даже дало Потемкину повод в ходившей тогда по рукам пародии вложить ему в уста горделивое утверждение:
…Так наслаждаюсь в полной мере я,
Вертясь, как слон на вертеле,
Чтоб имя Брюсова Валерия
Увековечить на земле.[462]462
Цитата из пародии, напечатанной в «Альманахе молодых» (Спб., 1908, кн. I, с. 110) под псевдонимом «Жак»; сведений о том, что этот псевдоним принадлежал поэту П. П. Потемкину (1886–1926), обнаружить не удалось.
[Закрыть]
Ладно – назовем его в таком случае Василием! Пробка – тоже неспроста; это – намек на принадлежащий Валерию Яковлевичу, а может быть, и никогда не существовавший, пробковый завод.
Больше всего вознегодовал Сологуб – на Северянина, которого он «вывел в люди», и Гумилев – на нас всех: особенно задело его выражение «свора Адамов».
Из текста манифеста ясно, что, вступая в блок с Северянином, мы и не думали включать в свою «литературную компанию» ни «Петербургский Глашатай», ни «Мезонин Поэзии». Что произошло вслед за тем в Москве, каким образом удалось «мезонинцам» сблизиться с Маяковским и Бурлюком, чем руководствовался «отец российского футуризма», доверяя одному из «табуна молодых людей без определенных занятий» переиздание «Дохлой Луны» и наблюдение за выпуском «Первого журнала русских футуристов»,[463]463
Вместе с кубофутуристами в ДЛ-II и ПЖРФ участвовали «мезонинцы» – поэты В. Г. Шершеневич и К. А. Большаков.
[Закрыть] – не знаю. Но вскоре после выхода обеих книг Давид писал мне из Ростова-на-Дону:
«Очень жаль, что ты не живешь в Москве. Пришлось печатание поручить Шершеневичу и – мальчишеское самолюбие! – № 1–2 журнала вышел вздор!..»[464]464
Н. И. Харджиев, скопировавший в 1930-х гг. это письмо, датирует его 16 марта 1913 г. (см. VM, р. 142). ПЖРФ был задуман в Москве как периодическое издание (6 вып. в год), редактор – В. Каменский, издатель – Д. Бурлюк; вышел только один сдвоенный номер (№ 1–2, март 1914). Журнал был подготовлен Д. Бурлюком к печати в январе 1914 г., но так как к моменту его выхода он вместе с Каменским и Маяковским находился в турне, то наблюдение за печатанием перешло к В. Шершеневичу, заведовавшему в журнале отделом библиографии и критики.
[Закрыть]
В самом деле, для того, чтобы поместить свои жалкие подражания Маяковскому, Шершеневич не постеснялся выбросить из «Дохлой Луны» пять вещей Хлебникова,[465]465
В. Шершеневич, выступая в музее Маяковского 9 октября 1938 г. и отвечая на эти обвинения Лившица, отрицал свое участие в редактировании ДЛ-II (стенограмма – ГММ). Но оно очевидно: стихотворная часть ДЛ-II открывалась текстами Шершеневича (в ДЛ-I он не участвовал); вероятно, в связи с этим из ранее напечатанных в ДЛ-I одиннадцати произведений Хлебникова в ДЛ-II не было включено четыре текста; из трех ст-ний Лившица перепечатаны только два, а в его статью «Освобождение слова» внесена редакционная, неприемлемая для Лившица поправка (название группы «Гилея» заменено словом «футуристы»). Какие тексты Хлебникова были изъяты из ПЖРФ – неизвестно. Шершеневич признавался: «Вещи Хлебникова были действительно изъяты и не без моего настояния из „Первого журнала“» (там же). Поводом для изъятия текстов послужило якобы открытое письмо-протест Хлебникова, датированное 1 февраля 1914 г. (напечатано лишь в 1933 г. – СП, V, 257).
[Закрыть] в том числе «Любовника Юноны» и «Так как мощь мила негуществ». А с журналом получилось еще хуже: он весь оказался нафарширован безответственными писаниями каких-то Эгиксов, Гаеров, Вагусов, превозносивших гений Вадима Шершеневича, упрекавших Пастернака в том, что он душится северянинскими духами, поучавших его рифме и ассонансу, пренебрежительно окрестивших Асеева «Неогальперином»[466]466
В рецензии Ю. Эгерта на сб. В. Шершеневича «Экстравагантные флаконы» (М., 1913) автор провозглашается «незаурядным поэтом» и «единственным, чье место может быть определено сейчас на долгие годы» (ПЖРФ, с. 135). Некий Egyx (Едух?), рецензируя первый сб. Б. Пастернака «Близнец в тучах» (М., 1914), называет его эпигоном символистов, пытающимся «надушиться северянинскими духами», и заявляет, что книга вряд ли «войдет в современную русскую поэзию» (ПЖРФ, с. 140). Рецензент первого сб. Н. Асеева «Ночная флейта» (М., 1914), скрывшийся под псевдонимом «Георгий Гаер», в издевательском тоне обвиняет автора в эпигонстве и называет «Неогальперином» (М. П. Гальперин, 1882–1944 – третьестепенный поэт и драматург). Ранее под псевдонимом «Георгий Гаер» печатался Шершеневич, однако в упомянутом выступлении он утверждал, что для этой рецензии будто бы «уступил» псевдоним К. Большакову (стенограмма – ГММ). Вагус – под этим псевдонимом (в ПЖРФ, вероятно, искажено – Uagus) напечатана рецензия на сб. Р.-М. Рильке «Книга часов» (М., 1914. Перевод Ю. Анисимова).
[Закрыть] и заявлявших, что у него, быть может, много скрытых талантов, но что к поэзии они не имеют ни малейшего отношения.
Не надо было обладать особой прозорливостью, чтобы заметить, что все эти статейки если не писаны одной рукою, то инспирированы одним лицом – кем, у меня не оставалось никаких сомнений.[467]467
См. выпад Шершеневича против Лившица: «Участие в сборниках этой группы Б. Лившица кажется простым недоразумением. Как в своей книге, так и в последующих стихах он к футуризму не имеет никакого отношения» (Шершеневич В. Футуризм без маски. М., 1913, с. 82). См. также в его «Открытом письме к M. М. Россиянскому»: «Б. Лившиц предлагал сломать грамматику; но это нелепо и бесцельно» (сб. «Крематорий здравомыслия», М., 1913), а в кн. «Зеленая улица» (М., 1916, с. 44) он между тем разбирает ст-ние Лившица «Целитель» как пример «немногочисленных опытов диссонансов».
[Закрыть] К сожалению, это обнаружилось слишком поздно, когда два объемистых сборника, внешне изданные прекрасно, были вконец испакощены самовлюбленным графоманом, опьяневшим от неожиданного раздолья.
IX
Между тем как в Москве столь своеобразно пополнялись наши ряды, в Петербурге происходило то, что в будущей истории нашего движения получит, вероятно, название второго призыва футуристов.
Как я уже упоминал не раз, будетляне представляли собою замкнутый кружок, центром которого была «Гилея». Хотя мы и провозгласили себя единственными футуристами мира, это, однако, не означало монополии даже в пределах России: каждый, кому захотелось бы, мог объявить себя футуристом. Но «Гилея» продолжала оставаться настоящей кастой: несмотря на неоднократные попытки расширить это основное ядро, в «Гилею» после Маяковского уже никто не вошел до самого ее распада.
В связи с присоединением к нам Северянина поднялся вопрос о включении в нашу группу и Василиска Гнедова:[468]468
О В. И. Гнедове см. гл. 8, 39.
[Закрыть] среди эгофутуристов он был белой вороной и неоднократно выражал желание перейти в наш лагерь. Разумеется, это имело бы гораздо больший смысл, чем допущение Шершеневича, но Гнедову помешала болезнь, вынудившая его спешно уехать на юг.
Добивался принятия в «Гилею» и Александр Конге,[469]469
Конге А. А. (1891–1915) – поэт, автор сб. «Пленные голоса» (Спб., 1912 – совместно с М. Долиновым), см. о нем ПК 1983, с. 207, 254; см. также отзыв Н. Гумилева об этом сб. – «Аполлон», 1911, № 10.
[Закрыть] молодой, талантливый поэт, находившийся под комбинированным влиянием французов и Хлебникова: его стихи были бы уместнее многих иных на страницах наших сборников, но я – сейчас мне даже трудно вспомнить, по каким соображениям, – отклонил его домогательства.
Да вопрос, в сущности, заключался уже не в формальном вхождении в нашу группу. Те, кто желал работать с нами, могли это делать, не именуя себя футуристами. Так поступил Виктор Шкловский,[470]470
Шкловский В. Б. (1893–1984) – писатель, литературовед, один из создателей и теоретиков формальной школы. В статье «Из филологических очевидностей современной науки о стихе» (1918) писал о «затрудненном» стиле современных поэтов: «Таким же литературным [приемом], ничуть не менее органическим и ничуть не более стилизационным, являются как, с одной дороги, произвольные и производимые слова футуристов и прежде всего Хлебникова и Петникова, так, с другой, субъективные варианты «драгоценного стиля» (precieux) Осипа Мандельштама, Бенедикта Лившица, Владимира Маккавейского» («Гермес», II паг., с. 70).
[Закрыть] с которым меня в декабре тринадцатого года познакомил Кульбин.
Кульбин был слишком любвеобилен и медоточив и слишком легко раздавал патенты на гениальность, чтобы к каждой его рекомендации можно было относиться с полным доверием. Однако розовощекий юноша в студенческом мундире, тугой воротник которого заставлял его задирать голову даже выше того, к чему обязывает самый малый рост, действительно производил впечатление вундеркинда.
Кроме того, у Шкловского была филологическая

культура, отсутствовавшая у нас всех, за исключением, конечно, Хлебникова. Но высказывания «короля времени» были, во-первых, аутентическими толкованиями, а не констатацией литературного феномена и его исследованием со стороны, и, во-вторых, носили слишком случайный и лирический характер. В лице Шкловского к нам приходила университетская[471]471
Шкловский поступил в 1913 г. на историко-филологический факультет Петербургского университета, но в 1914 г. оставил его.
[Закрыть] – никогда не слишком молодая – наука. Это было уже интересно: взглянуть на свое отражение в только что наамальгамированном стекле, которое мы, вероятно, постеснялись бы признать зеркалом истории.
В последних числах декабря Шкловский прочел в «Бродячей Собаке» свой первый доклад:[472]472
Доклад Шкловского в «Бродячей собаке» состоялся 23 декабря 1913 г. Оппонентом выступил поэт и ученый В. К. Шилейко (1891–1930). Положения доклада, которые приводит Лившиц, легли в основу первой книги Шкловского «Воскрешение слова» (Спб., 1914). Подробнее о тезисах доклада см. ПК 1983, с. 221 и статью А. П. Чудакова «Начало» (ВЛ, 1984, № 2).
[Закрыть] «Место футуризма в истории языка». Он говорил о словообразе и его окаменении, об эпитете как средстве подновления слова, о «рыночном» искусстве, о смерти вещей и об остранении как способе их воскрешения. На этом он основывал теорию сдвига и в возвращении человеку утраченной остроты восприятия мира видел главную задачу футуризма. Противопоставляя «полированной поверхности» Короленко «тугой язык» Крученых,[473]473
Остранение – способ описания явлений, преодолевающий автоматизм восприятия; или, по Шкловскому, «создание „виденья“ <…>, а не „узнаванья“», т. е. прием описания предмета как бы впервые увиденного. Термин введен Шкловским в статье «Искусство как прием» («Сборники по теории поэтического языка, вып. 2, Пг., 1917), но основная идея была высказана им уже в докладе 1913 г. в «Бродячей собаке». Остранение эпитета – вероятно, тогда же Шкловский развивал идею этого термина, окончательно сформулированного позже, ср. в тезисах доклада: «Эпитет, как средство подновления слова. «История эпитета, как история поэтического стиля» (А. Веселовский)» (ПК 1983, с. 221). Сохранилась «Гилея» с надписью Бенедикта Лившица «Виктору Борисовичу Шкловскому – память общих боев за… за… за… неужели за «тцанг-туум-туумб-ца-ца-ца»? 24.V.1901. Ленинград». (ЦГАЛИ).
[Закрыть] вскрывая процесс образования бранных и ласкательных слов, ссылаясь на полупонятный язык древней поэзии, он устанавливал связь между будетлянским речетворством и приемами общего языкового мышления.
Во всем этом для гилейцев было мало нового. Каждый из нас только тем и занимался, что «воскрешал вещи», сдвигая омертвевшие языковые пласты, причем пытался достигнуть этого не одним лишь «остранением эпитета», но и более сложными способами: взрывом синтаксической структуры, коренною ломкой традиционной композиции и т. д. Разве теперь, когда отшумели опоязовские бури[474]474
Опоязовские бури – речь идет о дискуссиях середины 1920-х гг. вокруг ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка).
[Закрыть] в стакане воды, уже не стоило бы, положа руку на сердце, признаться, что пресловутая формула «искусство – совокупность стилистических приемов»[475]475
«Искусство – совокупность стилистических приемов» – один из основных принципов формальной школы, рассматривающий произведение как «сумму приемов», сформулирован Шкловским в кн. «Розанов» (Пг., 1921, с. 15).
[Закрыть] заключена in nice /В зародыше (лат.). – Ред./ в определении поэзии, данном вступительной статьей к «Дохлой Луне»?
Еще весною тринадцатого года я писал: «Для нас безразлично, реалистична ли, натуралистична или фантастична наша поэзия: за исключением своей отправной точки она не поставляет себя ни в какие отношения к миру, не координируется с ним никак, и все остальные точки ее возможного с ним пересечения заранее должны быть признаны незакономерными».[476]476
Цитата (с поправкой) из ранней статьи Лившица «Освобождение слова» (ДЛ-I, с. 8).
[Закрыть]
Повторяю: я нисколько не горжусь этим, ибо смешно гордиться воздухом, которым дышал… Но здесь уместно вспомнить об этом, чтобы объяснить, почему выступление Шкловского никем из нас не рассматривалось как событие. Новым, пожалуй, было лишь то, что Шкловский пришел к нам со стороны, из университетского семинария, как филолог и теоретик: до тех пор к нам доносились оттуда только пренебрежительные насмешки да брань. Кроме того, он был хороший оратор: говорил с неподдельным задором, горячо и плавно, не заглядывая ни в какие бумажки. Нам оставалось только поздравить себя с таким союзником.
X
Едва ли не на лекции Шкловского неутомимый Кульбин свел меня с Артуром Лурье,[477]477
Лурье А. С. (1893–1966) – композитор, в 1910-е гг. примыкал к футуристам, о нем см. ПК 1983, с. 225.
[Закрыть] окончившим в том году Петербургскую консерваторию. К музыке, как я уже говорил, у меня никогда не было особенного влечения: в этой области мне до конца моих дней суждено быть профаном.
Я должен был поэтому верить на слово и Кульбину и самому Лурье (мог ли я в ту пору, без риска скомпрометировать свое футуристическое «лицо», полагаться на другие авторитеты?), что не кто иной, как он, Артур Винцент Лурье, призван открыть собою новую эру в музыке. Скрябин, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Стравинский – уже пройденная ступень.[478]478
Впоследствии Лурье развивал эти идеи в докладе «На распутье (Культура и музыка)», прочитанном в ноябре 1921 г. в Вольфиле в Петрограде (см. текст доклада в сб. «Стрелец», № 3, Спб., 1922, с. 146–175). Лурье в воспоминаниях «Наш марш», написанных в 1965 г. по нашей просьбе, рассказал о своей тогдашней теории «Театр действительности»: «Теория моя заключалась в том, что все в мире включалось в искусство, до звучания предметов. Эта теория была именно тем, что в последнее время стали называть «конкретной музыкой» и что затем выродилось в электронные опыты» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1969, кн. 94, с. 127–142).
[Закрыть] Принципы «свободной» музыки (не ограниченной тонами и полутонами, а пользующейся четвертями, осьмыми и еще меньшими долями тонов), провозглашенные Кульбиным еще в 1910 году, в творчестве Лурье получали реальное воплощение.[479]479
Эти принципы Кульбин изложил в брошюре «Свободная музыка. Применение новой теории художественного творчества к музыке» (Спб., 1909), в статье «Свободное искусство, как основа жизни» (СИ, с. 3 – 26) и в докладе на съезде художников в 1911 г. В «Нашем марше» Лурье этот период «поисков новых форм в музыке» назвал «исступленными юношескими опытами новаторства» (см. также его заметку «К музыке высшего хроматизма» – «Стрелец», I, Пг., 1915, с. 81–83).
[Закрыть]
Эта новая музыка требовала как изменений в нотной системе (обозначения четвертей, осьмых тонов и т. д.), так и изготовления нового типа рояля – с двумя этажами струн и с двойной (трехцветной, что ли) клавиатурой. Покамест же, до изобретения усовершенствованного инструмента, особое значение приобретала интерпретация.
И Лурье со страдальческим видом протягивал к клавишам Бехштейна руки, с короткими, до лунок обглоданными ногтями, улыбаясь, как Сарасате,[480]480
Сарасате Пабло (1844–1908) – испанский скрипач-виртуоз, композитор.
[Закрыть] которому подсунули бы трехструнную балалайку.
Впрочем, не один лишь «Wohltemperierte Klavier»[481]481
«Wohltemperierte Klavier» (нем.) – «Хорошо темперированный клавир», произведение выдающегося немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).
[Закрыть] вызывал саркастическую усмешку на преждевременно увядших губах моего нового приятеля: она не покидала его никогда, прочно расположившись над огромной, от уха до уха распяленной бабочкой черного галстука, тревожившей воображение бирзульского денди[482]482
Бирзульский денди – от названия местечка Бирзула Одесской губ.; здесь: ироническое прозвище провинциального сноба. До поступления в Петербургскую консерваторию А. Лурье учился в одесском коммерческом училище.
[Закрыть] еще на школьной скамье частного коммерческого училища.
Ибо, вопреки всему, что он прочел у Барбэ д'Оревильи и что должно было бы заставить его отказаться навеки от неосуществимых мечтаний, Артур Винцент Лурье продолжал считать себя вторым Джорджем Бреммелем, хотя обращался со своим цилиндром, как с дароносицей, и вкушал, как причастие, развесной салат оливье.
Стесняясь своего происхождения, он, словно упорно не заживающую, уродливую культяпку, обматывал собственную фамилию бесконечным марлевым бинтом двойных имен, присоединяя к экзотическому Артуру Винценту (Артуру – в честь Шопенгауэра, Винценту – в честь Ван Гога) Перси Биши (в честь Шелли), и облюбовал к очередному приезду папского нунция[483]483
По сообщению А. С. Лурье, по достижении совершеннолетия он принял католичество (был крещен в Петербурге в Мальтийской капелле).
[Закрыть] в Петербург еще Хозе-Мария (в честь Эредиа), но этому помешала война.
Став футуристом из снобизма, Лурье из дендизма не называл себя им. Но он заполнял в рядах будетлян место, бывшее до него пустым, и в нашем противостоянии развернутой фаланге Маринетти именно он, а не тишайший Матюшин, мог – хотя бы только декларативно – «перекрывать» Балилла Прателлу.[484]484
Прателла Франческо Балилла (1880–1955) – итальянский композитор-футурист.
[Закрыть] Впрочем, это не мешало ему писать романсы на слова Верлена и Ахматовой, которые вскоре под маркой «Табити»[485]485
В издательстве «Tabiti» Лурье выпустил ноты к двум ст-ниям П. Верлена (в переводе Ф. Сологуба) и к другим поэтическим текстам. Табити – не хлебниковское «название», а «царица скифов», богиня огня, персонаж из поэмы Хлебникова «Внучка Малуши» (СП, II, 66, 70).
[Закрыть] (название, придуманное Хлебниковым и означающее по-эскимосски «Полярная звезда») выпускал под обложками в стиле «пудреной розы» его самоотверженный издатель Семичев.

Сговориться с Лурье мне было нетрудно, ибо сговариваться, правду сказать, было не о чем: я без колебаний отдавал ему на съедение всего Баха с потрохами, а он, хотя в своих литературных вкусах не шел дальше акмеистов, ни за что не решился бы не только выступить против воинствующего будетлянства, но даже признаться в своем равнодушии к Хлебникову или Маяковскому.[486]486
Замечание Лившица о «равнодушии» Лурье к «будетлянам» не соответствует действительности. Со многими левыми художниками и поэтами-футуристами он был в приятельских отношениях: он создал музыку к пьесе Хлебникова «Ошибка Смерти» и к ст-нию Маяковского «Наш марш», а П. В. Митурич, Л. А. Бруни, Ю. П. Анненков написали портреты Лурье. О своих взаимоотношениях с «будетлянами» он рассказал в воспоминаниях, знаменательно озаглавленных – «Наш марш» (см. гл. 6, 116).
[Закрыть]
В ту многоречивую пору одного такого сердечного согласия было вполне достаточно, чтобы совместными усилиями родить манифест о чем угодно и против кого угодно. Если же принять еще во внимание, что мы оба, каждый по-своему, тяготели к расовой теории искусства, искушавшей нас примитивным противопоставлением Западу Востока, станет ясно, что мы не могли не выпустить нового «универсала».[487]487
Расовая теория искусства – см. вступит. статью с. 17. «Универсал» – так называлось на Украине в период Центральной рады и гетманщины правительственное письменное распоряжение или объявление, адресованное учреждениям или народу.
[Закрыть]
Среди живописцев у нас нашелся единомышленник в лице Якулова,[488]488
Якулов Г. Б. (1884–1928) – художник, разработавший собственную теорию цвета в живописи. Ее основные положения изложены в статьях Якулова «Голубое солнце» («Альциона», кн. I, М., 1914) и «Art solis. Спорады цветописца» («Гостиница для путешествующих в прекрасном». М., 1922, № 1).
[Закрыть] незадолго перед тем приехавшего из Парижа, где Делоне на лету перехватил у него идею одновременной совместноцветности – ядро симюльтанэ. На берегах Невы апостолом этого течения явился молодой приват-доцент А. А. Смирнов, тоже недавно возвратившийся из Парижа. Вместо «последней песни Беранжера»[489]489
Цитата из поэмы Пушкина «Граф Нулин».
[Закрыть] Смирнов привез писанную от руки Делоне и его женою, Соней Терк, на длинных полосах бумаги сандраровскую «Prose du Transsiberien et de France».[490]490
22 декабря 1913 г. А. А. Смирнов (1883–1962) – филолог, друг художницы С. Делоне-Терк (1885–1980) и Робера Делоне, сделал в подвале «Бродячей собаки» доклад «Simultane» «с демонстрацией снимков и оригиналов, любопытный как сообщение о самом новейшем течении во Франции, исходящем от Р. Делоне. <…> Будто бы уже сформировавшееся в живописи новое течение проявляется и в других областях – в скульптуре, прикладном искусстве, давая пока только намеки в поэзии, хотя появились уже издания „Simultane“» (Ростиславов А. В подвале «Бродячей собаки». – «Аполлон», 1914, № 1–2, с. 134). Первая книга «Simultane» названа в тезисах А. А. Смирнова, отпечатанных на программе вечера, но автор заметки в «Аполлоне» не описывает ее демонстрации в «Бродячей собаке». Какие еще «оригиналы» показывал Смирнов во время доклада, – установить не удалось. О демонстрации книги Б. Сандрара на докладе Смирнова пишет Н. И. Харджиев (КИРА, с. 82), см. также: ПК 1983, с. 221. Лившиц неточен, говоря, что книга написана «от руки Делоне и его женою Соней Терк». Поэма Блеза Сандрара «La Prose du Transsiberien et de la Petite Jehanne de France» («Проза Транссибирского экспресса и Маленькой Жанны Французской») отпечатана типографским способом, расписана акварелью С. Делоне-Терк и вышла в свет в конце сентября 1913 г. Сомнения в том, демонстрировалась ли эта книга на вечере в «Бродячей собаке», возникают из-за того, что Смирнов, как пишет и Лившиц, «недавно вернулся из Парижа», а дарственная надпись Блеза Сандрара на книге, вышедшей в сентябре и подаренной А. А. Смирнову (этот экземпляр хранится в Эрмитаже), датирована 1 января 1914 г., т. е. 19 декабря 1913 г. ст. ст. Но имея в виду дату самого вечера – 22 декабря 1913 г. ст. ст., можно предположить, что книга была подарена Смирнову в Париже осенью, – при склонности Блеза Сандрара к разного рода мистификациям, это вполне допустимо (см. гл. 8, 3). Подробнее о книге см. статью А. С. Кантор-Гуковской «„Симультанная книга“ Сони Делоне-Терк и Блеза Сандрара. (К вопросу о французско-русских художественных связях)». – В кн.: Западно-европейская графика XV–XX веков. Л., 1985, с. 132–144.
[Закрыть]
Подобно тому как в живописи речь шла об одновременном восприятии всех элементов картины, вместо последовательного их восприятия одного за другим, основным принципом симюльтанистской поэзии было вытеснение последовательности одновременностью. В отличие от упрощенного разрешения этой задачи теми, кто, как Барзён,[491]491
Барзён Анри-Мартен (1881—?) – французский поэт; первым сформулировал идеи симультанизма в кн.: «L'ere du drame; essai de synthese poetique moderne». Paris, 1912 («Эра драмы; эссе о синтезе современной поэзии»). Впоследствии он боролся за признание своего приоритета в создании этого течения в искусстве – см. ПК 1983, с. 220, 255.
[Закрыть] сводил все дело к одновременному чтению произведения несколькими голосами (то есть подменял одновременность поэтическую одновременностью декламационной), Блэз Сандрар в сотрудничестве с женой Делоне сделал попытку добиться искомого эффекта выделением отдельных слов посредством разноцветных букв и раскраски фона.
Параллельно с ним Гийом Аполлинер печатал свои симюльтанистские поэмы,[492]492
Речь идет о лирических идеограммах Аполлинера, которые он затем включил в сб. «Каллиграммы» (1918). Они были набраны таким образом, что образовывали рисунки (дом, косые линии дождя и т. п.), это был новый путь в поисках синтеза искусств.
[Закрыть] располагая слоги и обрывки фраз по всей странице с таким расчетом, чтобы геометрические фигуры, образуемые беспорядочно разбросанными типографскими знаками, схватывались глазом одновременно. Это уже мало чем отличалось от внешнего начертания футуристических стихов, практиковавшегося Маринетти и Палацески.[493]493
Палацески Альдо (Джурлани, 1885–1974) – итальянский поэт и прозаик, входил в группу футуристов, из которой вышел в 1914 г.
[Закрыть]
Вообще одновременность такого восприятия следовало признать довольно относительной. Нам, поэтам, ломать копья тут было не из-за чего. Но Якулов не мог спокойно слышать о симюльтанэ и надсаживал себе глотку, крича, что Делоне ограбил его,[494]494
Якулов разрабатывал свою теорию света, начиная с 1905 г., независимо от Р. Делоне, который между тем, при создании теории симультанизма, по-видимому, использовал некоторые идеи русского художника. Хотя нет никаких оснований не доверять свидетельству Лившица, в статьях и документах Якулова отсутствуют прямые выпады или недружелюбные замечания по отношению к Делоне. В автобиографии Якулов писал: «В Париже я был представлен Роберу Делонэ, занимавшемуся решением проблем ритмического и темпового движения света и цвета, обозначаемого им словом «симюльтанизм» <…> Мы провели в работах и беседах лето – я познакомил его на иллюстрациях с некоторыми положениями своей теории солнц, близкой ему как колористу» («Георгий Якулов. 1884–1928». Каталог выставки. Ереван, 1967, с. 49). Чтобы доказать свой приоритет, Якулов сразу же после доклада Смирнова о симультанизме выступил 30 декабря 1913 г. в «Бродячей собаке» с докладом о своей теории «Естественный свет (архаический солнечный), искусственный свет (современный электрический)» – см. подробнее ПК 1983, с. 219–220 (в датировке доклада допущена ошибка). Через день, 1 января 1914 г., Якулов вместе с Лурье и Лившицем написал и вскоре выпустил манифест «Мы и Запад. (Плакат № 1)» и вслед за этим напечатал статью «Голубое солнце», где излагал свою теорию «разноцветных солнц». После смерти Якулова в 1930-х гг. Делоне возглавил комитет по изданию монографии о нем, в который входили П. Пикассо, Б. Сандрар, А. Глез, М. Шагал, С. Прокофьев и др. (проект не реализован) – см. бюллетень Общества друзей Георгия Якулова: «Notes et documents», № 3, Paris, juillet 1972, p. 35.
[Закрыть] так как он, Якулов, первый своим «вращающимся солнечным диском» показал, каким образом можно достигнуть единства впечатления путем единства технических средств.