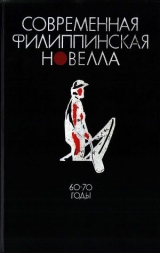
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Вирхилио Крисостомо
ВЬЕТНАМ НЕ ЗА МОРЯМИПеревод Г. Рачкова
…война многолика,
и в каждом ее лице – горе…
Вьетнам… Вьетнам…
Твой стон звучит в городах и селах,
твои слезы текут в реках и морях,
твой гнев жжет сердца твоих детей.
Я не слышу, о чем говорят, прощаясь, папа и мама. Папа обнимает маму и улыбается ей, как ребенку, а у мамы глаза кажутся пустыми, плечи ее трясутся. Сквозь захватанное нашими пальцами оконное стекло я в последний раз вижу папу перед его отъездом во Вьетнам. Для этого мне, семилетнему малышу, приходится стоять на цыпочках и, вцепившись слабыми пальцами в подоконник, тянуть изо всех сил шею и таращить глаза.
У меня затекли ноги. Я опустился на пятки и толкнул локтем Дэнни, своего старшего брата, уткнувшегося носом в окно.
– Дэнни… Дэнни! Почему плачет мама?
Но он даже не повернулся. Заглянув ему в лицо, я оторопел. Я впервые увидел, как Дэнни плачет. И кажется, в последний раз. Тогда я еще не понимал, что взрослые тоже могут плакать. Когда я сам реву, он говорит мне, что мужчина не должен хныкать. Вот мама – совсем другое дело: она женщина. Или наша сестра Салинг. Или наш младший братишка Литс. Или я сам. Мы еще маленькие. Плаксы. Салинг только девять лет. Мне семь. А Литсу и вовсе три годика. Но вот Дэнни – он не чета нам. Он уже кончает школу. Он уже большой. Почти взрослый.
Я оглянулся на Салинг и Литса. Они были тут же – играли на лестнице – со смехом карабкались по ступеням и спрыгивали вниз. Поднимались – спускались. Поднимались – спускались. Они забыли и о папе с мамой, и о нас.
Я потянул Дэнни за рубашку. Мне хотелось еще разик увидеть папу.
– Дэнни! Дэнни! Подними меня!
Но он снова не обратил на меня никакого внимания. Вынул платок и стал вытирать глаза.
– Почему ты плачешь? – пристал я к нему.
– Потому что уезжает папа. Уезжает во Вьетнам. Там он будет работать.
У него был такой голос, словно в горле ему что-то мешало. Я невольно сглотнул слюну.
– Ну а чего же ты ревешь?
Я снова встал на цыпочки и сквозь тусклое стекло увидел папу и маму. Мама расправляла на папе куртку, а он гладил ее по волосам.
– Теперь мы не скоро увидим папу. Он уезжает надолго.
– Почему? Разве Вьетнам далеко?
– Далеко… Очень далеко, – проговорил Дэнни, не отрывая взгляда от окна.
И вот мы видим: папа берет в правую руку чемодан, левой крепко обнимает маму за талию, и они оба постепенно, шаг за шагом, скрываются вдали…
В здании аэропорта стоял ужасный шум – шумели мои дядья и тетки, мои двоюродные братья и сестры; Салинг и Литс с визгом крутили огромный глобус в центре холла.
– Что, уезжает отец? – спросила Дэнни тетя Белен.
– Да, – тихо ответил он.
– Не робей, парень! – подбодрил его дядя Кардо.
– А где же самолет? – забеспокоилась тетя Геланг.
– Там, – ответил дядя Кардо и указал на дверь, возле которой толпились люди.
Я уже не помню, сколько заплатил дядя Кардо за такси, которое доставило нас в аэропорт. Но помню, как он сказал Дэнни, вроде бы в шутку:
– Ничего, Дэнни. Когда отец вернется, ты будешь расплачиваться долларами!
«Доллар»! Вот то слово, которое чаще других употребляли в разговорах взрослые с тех пор, как я впервые услышал от них о Вьетнаме. У нас в семье за завтраком речь непременно заходила о долларах.
– Во Вьетнаме, конечно, будет нелегко, – говаривал папа, – зато платить мне обещают долларами. Подумайте только: я стану зарабатывать втрое против тех грошей, что получаю здесь!
И он обычно добавлял:
– Пожалуй, я открою себе счет в банке. Счет в долларах! А то курс песо быстро падает. Падает с каждым годом.
А мама отвечала ему одно и то же:
– Но ведь там опасно. К чему нам доллары, если с тобой что-нибудь случится?
На это папа говорил ей со смехом:
– А ты не думай так – тогда ничего со мной не случится. Если все делать с умом – никогда не пропадешь. Если же без ума, то и в собственном доме от беды не убережешься. Моя матушка любила повторять мне, когда я еще только ухаживал за тобой: «Просто так и шишка не вскочит!»
При этих словах оба они смеялись. И разговор снова заходил о долларах.
Я помню многое из того, что они говорили, хотя я тогда еще не все понимал. Вот один из таких вечеров. Папа и мама сидят на диване. Глаза у них грустные. Мама говорит первой:
– Если бы ты не ушел с той работы…
Папа ее перебивает:
– Ах, оставь… Забудь об этом. Все это уже позади!
– Как я могу забыть? Ты ни в чем не был виноват, а тебя уволили!
– Что ж, не я первая жертва несправедливости, не я и последняя…
– Ты должен был добиться, чтобы тебя восстановили!
– А ради чего? Чтобы терпеть то, с чем я не могу смириться? Делать вид, что не замечаю всей этой подлости? Обманывать товарищей? Нет, такое не по мне!
– Зато ты бы был здесь, рядом с нами. И мы не волновались бы за тебя…
– Ты хочешь сказать, что я должен был пойти против совести, лишь бы только спасти свою шкуру?
– Ну, не совсем так… Я только…
– Пойми же: я еду во Вьетнам, чтобы служить делу Свободы. Да, там опасно. Но мы готовы пойти и на жертвы…
Когда разговор принимал такой оборот, мама наклоняла голову. Едва сдерживая рыдания, она приникала к папе, который ласково обнимал ее за плечи, бережно поднимал с дивана и уводил в спальню, плотно прикрыв за собою дверь – чтобы мы не слышали, о чем они там говорили…
У трапа самолета толпилось множество людей. Все они что-то кричали, махали руками. Издалека я не мог разглядеть, который из них папа – все они были в черных куртках и темных очках.
– Да вот же он! – закричала вдруг тетя Геланг, на плечах которой сидел Литс. – Помаши папе ручкой! Помаши!
Мы все замахали руками: и Дэнни, и Салинг, и наши двоюродные братья и сестры, наши дядья и тетки. Мы махали до тех пор, пока не убрали трап и не закрыли дверцу самолета. Потом раздался чудовищный, оглушающий рев – и гигантская птица двинулась с места. Сначала она осторожно поползла по бетонной дороге, потом заскользила все быстрее и быстрее, приподнялась над землей и взмыла ввысь. Сделала круг над аэродромом и стала удаляться, делаясь все меньше и меньше. И все это время мы продолжали стоять, не двигаясь с места. И хотя мы уже не видели папу, мы знали, что он там, внутри этой большой птицы, которая уносит его в далекий-далекий Вьетнам…
Первые дни мама ходила грустная, как вдова. С нами почти не разговаривала. Тихо сидела одна за столом, за которым они с папой обычно беседовали. Часто слушала радио. Буквально впивалась в газеты.
Однажды я решил поговорить с Дэнни – почему мама вдруг так изменилась? Я нашел его за домом – он что-то копал.
– Почему мама часто плачет? – спросил я у него.
– Потому, – ответил он.
– Почему «потому»?
– Потому что таковы все матери. Волнуются за своих мужей.
– А разве с папой что-нибудь случилось?
– Пока нет. Наверно, что-то прочла в газетах или услышала по радио. Вроде бы вчера бомбили Сайгон.
– А зачем бомбили Сайгон?
– Затем, что во Вьетнаме война! Это там в порядке вещей – бомбежки. А бомба ведь может упасть и на папу! – И он сердито схватился за лопату.
Тогда я не мог еще представить себе все те опасности, которые грозили папе, и не понимал, почему мама то и дело вытирает украдкой слезы. Мне казалось, что война – это так интересно! Сражения! Стрельба! Вот наш сосед Фернандо – он давно воюет, и ничего с ним не случилось! Но однажды на глаза мне попался один из журналов, которые читала мама. И я увидел там фотографии: убитые на улицах Сайгона, окровавленные лица, оторванные руки и ноги… Мне не верилось, что это и есть война. Не верилось, что это война во Вьетнаме. Папа рассказывал об этой войне совсем другое! И потом – все были такие веселые, когда провожали папу во Вьетнам!..
Полевая почта США
Сайгон. Вьетнам
15 июня 1964 г.
Дорогая Ненг прибыл благополучно привет детям всем родным целую – Карлос
Это была первая весточка от папы из Вьетнама. И мама не выдержала – расплакалась. А Дэнни улыбался. И утешал плачущую маму. И тогда я вдруг обнаружил, как здорово они похожи – папа и Дэнни!
Всякий раз, когда приходило письмо из Вьетнама, мы звали маму, и она читала вслух, что пишет папа. Мама садилась на диван, а мы толпились возле нее. И когда в письме упоминались наши имена, мы бурно радовались.
– «Ходит ли Дэнни в школу?» – Мама улыбалась, а Дэнни кричал: – Конечно!
– «Дэнни, учись хорошо, сынок. В свое время мы с мамой были первыми учениками. Теперь твоя очередь».
– «Сол уже, наверно, стала барышней? Может, и кавалеры появились?» – И Сол пряталась за диван, краснея.
– «Как там Тотой? Не забывай пить молоко, сынок. А то будешь слабенький!» – При этих словах Дэнни бросался щупать мои мускулы, которых у меня не было.
– «Ну, а Литс? Научился ли правильно говорить? Вы его поправляйте. И вообще заботьтесь о нем хорошенько – он самый маленький».
И когда мама заканчивала то, что касалось нас, она складывала письмо и уходила в спальню, чтобы там прочитать то, что предназначалось ей одной. Слова ласки. Слова любви. Слова нежности. Клятвы и обещания…
Время от времени папа присылал нам фотографии. Мы жадно расхватывали их и с любопытством рассматривали. Это были групповые снимки – папа был запечатлен на них в обществе американцев, или филиппинцев, или вьетнамцев, с которыми вместе работал. На одной фотографии они копают землю под фундамент из железа и бетона. На другой – сидят в какой-то комнате, окруженные разными приборами, похожими на радио. На третьей – едят палочками лапшу в одном из ресторанов Сайгона.
– По-моему, папа чуточку поправился, – говорила мама, как бы ища у нас подтверждения.
– Похоже, – нерешительно подхватывал Дэнни.
Я внимательно рассмотрел лицо папы. Нет, он не поправился. Вроде бы даже наоборот, похудел еще больше. И почернел. А может, мне это только кажется, потому что рядом на фотографии – рослые, плотные, белые американцы. Так я и сказал маме. Но она не согласилась со мной. Не знаю, ей виднее. Я отметил только про себя, что, хотя папа улыбается обычной своей улыбкой, в глазах его почему-то уже не блестят искорки…
За все время пребывания папы во Вьетнаме он только четыре или пять раз менял место работы. Сначала он был в Сайгоне. Потом его направили в Дананг. Затем в Начанг. В Кантхо. Еще куда-то. Поначалу все эти названия казались мне смешными, но потом я к ним привык. Американская компания посылала папу туда, где была работа. Строить казармы. Сооружать радиомачты. Возводить армейские узлы связи. Оборудовать госпитали. Иногда он работал вместе с американскими солдатами. Иногда с вьетнамскими. А иногда и с филиппинскими. Судя по фотографиям, которые присылал папа, у него во Вьетнаме было много друзей. На лицах всех этих людей я не замечал никаких следов войны. Их улыбки никак не вязались с теми ужасами, о которых кричали газеты. Да и папины письма из Вьетнама всегда были веселые: о товарищах по работе, о встреченных в Сайгоне соотечественниках – все они милые, прекрасные люди; о тамошних пейзажах – они так похожи на наши; о вьетнамцах – они такие же смуглые, как и мы; об американских начальниках – они строгие, но справедливые. Хорошо во Вьетнаме. Весело во Вьетнаме. И война во Вьетнаме кажется приятной прогулкой…
Прошло несколько лет. Наш дом теперь крыт железом, а не пальмовыми листьями, как раньше. Земляной подпол забетонирован. Потемневшие от времени стропила заменены новыми. В гостиной появился небольшой телевизор.
Литс пошел в школу, в которую ходили и мы все. Я кончаю начальный курс и надеюсь на похвальный лист. Салинг перешла в последний класс, у нее уже три или четыре ухажера, и я служу им связным. Дэнни в столице – он учится в университете и живет там в общежитии. Мама почти не изменилась – только несколько морщинок на лбу, несколько серебряных нитей в волосах, очки на носу. Она все так же молчалива, терпелива и заботлива. Но это уже не прежняя мама, которая принималась плакать, услышав любую тревожную новость о Вьетнаме. Либо ее отвлекали от печальных мыслей бодрые папины письма, либо ей просто не о чем было плакать.
Когда Дэнни уезжал в Манилу и, прощаясь, обнял маму, меня словно что-то обожгло внутри – я никогда еще не испытывал такого. Как сейчас вижу: в одной руке у него чемодан, другой он гладит маму по плечу, оба они улыбаются… А мне вдруг стало так тоскливо!
Первые месяцы Дэнни часто приезжал к нам. Обычно он появлялся в субботу утром. Целовал маме руку. Вынимал из чемодана грязное белье. Шел на кухню перекусить. Потом начинал рассказывать. Иногда жаловался. На студентов, которые норовили говорить только по-английски. На придир экзаменаторов. На город, в котором так легко заблудиться. Пообедав, он шел на улицу. Чтобы повидаться со старыми друзьями. С приятелями, которых оставил здесь. С товарищами по школе, у которых не хватило денег заплатить за учебу в университете и которые теперь, помогая отцам, трудились в поле или плели корзины на продажу. Вечером Дэнни занимался. А на другой день утром возвращался в Манилу. Со временем он стал приезжать все реже и реже. Два раза в месяц. Раз в месяц. Раз в два месяца…
За годы учебы в столице Дэнни сильно изменился. Это был уже не тот застенчивый и стыдливый Дэнни, каким я его помнил с детства. Тот не осмеливался вступать в разговоры со взрослыми и лишь коротко и скромно отвечал, когда к нему обращались с вопросом. Он стал уверенным в себе и общительным. Он сам подсаживался к взрослым, заговаривал с ними, шутил. И он был тут как тут, если речь заходила о политике. Он высказывался по всем проблемам – и внутренним, и внешним, обсуждал действия всех и вся – и левых, и правых. Крепко доставалось от него разным проходимцам, выдаваемым газетами за героев Филиппин. Последними словами ругал он тех иностранцев, которые внушали нам, что мы должны по дружбе продать им нашу страну… От него я впервые услышал такие выражения, как «лжеобразование», «колониальное мышление», «американский империализм». Выражения эти я тогда не понимал и часто расспрашивал его о том, что они значат.
– Поговаривают, будто Дэнни стал коммунистом, – жаловались дядья маме. – Уйми его, пока не поздно. Пусть уйдет из университета, иначе все это плохо кончится!
– Я все время твержу ему, что он должен учиться, а не якшаться с бунтовщиками, – робко отвечала мама. – Да куда там, он меня уже не слушает…
Действительно, перед отъездом Дэнни в Манилу мама обычно беседовала с ним. Происходило это примерно так.
…Дэнни отбирает вещи, которые нужно взять с собой, и укладывает их в чемодан. Мама входит в комнату и тихонько садится возле кровати.
– Ты приедешь в субботу, сынок? – тихо спрашивает она.
– Наверно, нет – через неделю у меня экзамен.
Мама долго молчит и смотрит на Дэнни, а он избегает ее взгляда.
– Я спрашиваю просто так, сынок. Об одном прошу тебя – держись подальше от всяких смутьянов. Я слышала, студенты часто устраивают митинги, демонстрации…
Дэнни спокойно отвечает ей:
– Я не вожусь с плохими людьми, мама. Но… но было бы хорошо, если бы ты не думала дурно о молодежи. Молодые хотят, чтобы их поняли, чтобы с их требованиями считались.
– И еще они хотят прогнать с Филиппин американцев – наших союзников, наших освободителей!
– Странно рассуждаете вы, взрослые, – невозмутимо говорит Дэнни, продолжая укладывать чемодан. – А ведь вы сами – жертвы мировой войны. Но нынешняя война во Вьетнаме – это… Ее ведут уже не освободители, а империалисты! – И он смотрит маме прямо в глаза, смотрит с болью и гневом. – Империалисты, завоевывая малые страны, делают богатых еще более богатыми, а бедных – еще более бедными. Американцы воюют не за мир и свободу, а лишь за свое господство над другими. И мы – одна из жертв этой войны…
Дэнни говорил горячо, проникновенно. Его слова как бы обретали плоть и цвет. И мама сникала. Она видела: перед ней ее повзрослевший сын, он распахивает перед ней двери, которые раньше были закрыты, он показывает ей мир таким, каким она никогда раньше его не видела. Но этот мир был ей непонятен.
– Не знаю. Не знаю, сынок. То, что мы сегодня едим и пьем, чем платим за твое обучение, на что покупаем одежду и все необходимое, – все это благодаря Америке. Если бы не американцы, мы были бы лишены всего, мы бы голодали, и твой папа не зарабатывал бы доллары. Пойми, мы обязаны им всем!
– Чем это мы им обязаны? – спокойно вопрошает Дэнни. – Тем, что отец рискует ради них своей жизнью во Вьетнаме? Его потом и кровью, на которых они богатеют?
На миг он замолчал. Торопливо стал швырять белье в чемодан. Потом снова заговорил, почти шепотом:
– Слушай, мама. Однажды я задумался: а зачем, собственно, отец поехал во Вьетнам? Ведь Вьетнам не в Америке. И Вьетнам не затевал войну с Америкой. С какой же стати отец и другие филиппинцы участвуют в этой грязной войне? В войне, которую не мы начали и которую начали не ради нас?
В голове у меня все перепуталось. Раньше я думал, что Вьетнам где-то там, за морями. Далеко-далеко. А он, оказывается, совсем близко. В нашем доме. На меня словно полыхнуло жаром вьетнамской войны…
В подобных беседах верх всегда брал Дэнни. Потому, видно, что мама никак не могла понять его до конца. И мама неизменно заканчивала эти беседы просьбой:
– Думай, как хочешь, но только береги себя, пожалуйста. Не подставляй свою голову под удар. Обещай мне, сынок, что ты не свяжешься с бунтовщиками – иначе я умру от страха за тебя.
Дэнни улыбался тогда и ласково обнимал маму:
– Не волнуйся, мама. Я ведь уже большой.
Потом он брал свой чемодан и прощался. С мамой. С Салинг. С Литсом. И со мной.
Последний раз он приезжал в воскресенье – как раз пришло письмо от папы. В конверте были и фотографии. Папа улыбался. Он был весел. За его спиной виднелись казармы, разрушенные сельские школы, мачты радиостанций… В письме он рассказывал, как встретил в Сайгоне своего старого приятеля-филиппинца – тот женился на красивой вьетнамке, и они вместе с женой шлют маме привет. Скоро они достроят что-то в Дананге, и их, наверно, переведут опять в Сайгон. И скоро им дадут отпуск. Поэтому папа и улыбается, поэтому он и веселый.
– Когда же отец напишет о войне? – спросил неожиданно Дэнни.
Никто ему не ответил. Никто и не мог ответить. Его вопрос как бы растаял в воздухе…
Дэнни пора было ехать. Он присел на корточки и начал искать под диваном свои старые резиновые сапоги. Нашел. Натянул на ноги. Встал. Надел куртку. Пригладил волосы. Взял в руки чемодан и стал прощаться.
– Я пошел, мама.
И быстрыми шагами направился к лестнице. В тех старых резиновых сапогах.
– Приедешь в следующее воскресенье? – крикнула ему вдогонку мама.
Он задержался в дверях, обернулся.
– Наверно, нет.
И закрыл за собой дверь.
…Принесли газеты. В списке раненых и пострадавших во время беспорядков мы нашли имя Дэнни: «Данило Крисол… студент Филиппинского университета… принадлежность к организации не установлена…» А наверху, в левой колонке на первой странице – фотография окровавленного тела: разбитое лицо, студенческая куртка, резиновый сапог на левой ноге… Видно, человек бежал куда-то. Рядом валяется большой плакат, на котором написано:
Ликвидировать американские военные базы на Филиппинах!
Вернуть филиппинцев, отправленных во Вьетнам!
Долой американский империализм!
Мама тотчас одела Салинг, попросила соседку приглядеть за мной и Литсом и побежала к дяде Кардо, чтобы он отвез ее в Манилу.
– Боже мой! Сынок! Сынок! – непрерывно причитала она, спускаясь с лестницы. По-моему, она повторяла эти слова до самой Манилы…
Когда привезли Дэнни, я не сразу узнал его: лицо было изуродовано пулями, пробившими лоб и челюсть. Я неотрывно смотрел на него – с того момента, когда его начали переодевать, и до того, как положили в гроб. И никак не мог свыкнуться с мыслью, что это бледное лицо, это окаменевшее тело – мой старший брат Дэнни… Мама сразу же по приезде ушла в столовую – в нашу маленькую столовую, где все мы обычно обедали. И Дэнни тоже. Живой Дэнни. С собою мама увела Салинг и Литса.
Я оглядываю тех, кто пришел проститься с Дэнни. Соседей. Родственников. У одних лица сочувствующие. У других – недоуменные. У третьих – любопытствующие.
– Бедный мальчик – как ему не повезло! Так рано умереть!
– Жаль парня. Толковый был!
– А я бы своего сына не отпустила одного в Манилу!
– Что значит «не отпустила»? Вот я своему велела бросить университет и вернуться домой!
– Вот она – нынешняя молодежь! Слишком образованные стали…
– Бедная мать! И отец в отъезде…
– Не надо плакать! – говорили они мне. Но я не мог не плакать: я должен был залить слезами пожар, который бушевал в моей груди…
Мама отправила Салинг на почту – послать телеграмму папе. Сообщить, что мы ждем его – ведь прилетит же он на похороны своего старшего сына!
На другой день пришел ответ из Сайгона. Папа телеграфировал, что не сможет приехать. Его не отпускают, поскольку еще не кончился контракт, еще не начислены деньги на обратный проезд. «Прости. Не могу» – так заканчивалась телеграмма.
– Как это «не отпускают»? – впервые за все время возмутилась мама. – Каменные они, что ли? Или у них нет детей?
Дэнни похоронили без папы. Проводить его в последний путь пришло много его товарищей. Мы шли среди них. Они пели. Шли за повозкой, на которой стоял гроб, и пели. А в гробу, в этом деревянном ящике, лежал Мозг. Мозг, который когда-то мыслил, а потом почти весь вытек на асфальт. И еще лежал там Язык. Язык, который осмелился заговорить и который заставила замолчать полицейская пуля. Так у нас становятся жертвами – жертвами любви к собственной стране…
Прошел почти год после гибели Дэнни. Мы уже сняли траур. Мама сильно сдала. Часто смотрит куда-то в пустоту. Подолгу задумывается. Тихо плачет. Такой она была и после отъезда папы. Я понимал ее – она потеряла веру в свои идеалы…
Однажды в субботу к нам постучал почтальон и вручил маме телеграмму. Телеграмму из Вьетнама. Из слов-обрубков мы поняли: папа возвращается. Папа едет домой. Я должен был бы закричать от радости. Обнять маму. Запрыгать. Позвать Салинг и Литса. Но нет. Я лишь тупо смотрел на маму. А она бережно сложила телеграмму и принялась вновь подметать пол. Потом выпрямилась и спросила:
– Ты не рад, сынок? И почему ты ничего не сказал сестре и брату?
Я не стал ей ничего объяснять. Я действительно не знал, что мне делать. Семь лет. Семь лет прошло с тех пор, как папа уехал. Семь лет его не было с нами. Он оставил нас пятерых. Вернувшись, он застанет в живых лишь четверых. Через семь долгих лет ожидания мне хотелось кричать: «Верните! Верните то, что вы у нас украли! Верните наших отцов! Верните! Верните!» Все мое существо бунтовало против жестокой несправедливости жизни…
В голубом небе появилась маленькая точка и стала постепенно увеличиваться. И вот она уже превратилась в огромную птицу, прилетевшую из далекого Вьетнама. В ее железном брюхе сидели люди – семь лет назад они решили искать счастья в чужой стране. Теперь они возвращались на родину, изувеченные войной. В их памяти – ужасы войны. На губах у них – сожаления и проклятия…
Медленно, с ревом протащилась птица по бетонной полосе аэродрома – целого города, принадлежавшего военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки. Маленького, красивого, новенького города белых людей, окруженных грязью и вонью грешного города коричневых людей…
Лишь двоим разрешили пройти за ограждение. Мама взяла меня. Мы стояли под палящими лучами солнца. Мамины руки лежали на моих плечах.
Самолет остановился. Коричневые руки подвели к его дверце железную лестницу. Дверца раскрылась – и я вдруг ощутил тяжесть маминых рук на своих плечах…
Они выходили по одному. Черный. Белый. Коричневый. В военной форме. В штатском. С повязкой на голове. С рукой на перевязи. На костылях. И каждый раз мама все сильнее сдавливала мои плечи…
Наконец появился папа. Его левая рука висит на какой-то железке. Левая нога в гипсе. Его глаза ищут нас в толпе. Мама машет ему рукой. Потом срывается с места и бежит навстречу, чтобы скорее прижать к себе родное лицо, пролить слезы на родную грудь…
Я не слышал, о чем говорили при встрече мама и папа. Я понял только, что Вьетнам дорого обошелся папе.









