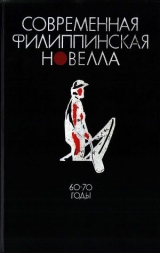
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
ТАГАЛЬСКАЯ НОВЕЛЛА

Эфрен Р. Абуэг
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫПеревод И. Полянина
1. Дядюшка Итой
Дядюшке Итою не хотелось верить предчувствию подстерегавшей его смерти. Гребя к разрушенному мосту, он не переставал твердить про себя, что останется жив, что, избежав всех опасностей, догонит ускользающее счастье, которое, как ему казалось, было так близко. «Я буду жить, потому что Маринг ждет меня. Я никак не могу без Маринг», – думал он, приближаясь к опоре моста.
Поравнявшись с мостом, он продолжал грести вперед, будто не услыхал прогремевший вдруг окрик: «Стой! В сторону!» Все его внимание привлекла тень человека, упавшая с моста на воду. И тут, поняв, что спасение его близко, дядюшка Итой забормотал: «Я смогу пройти через все это. Я вернусь к тебе, Маринг!» Он не переставая быстро работал веслами, а тишину реки разрывали гремевшие выстрелы. «Подождите! Не стреляйте!» – крикнул он беззвучно, не успев даже осознать случившееся – так быстро все произошло…
Сейчас, связанный тонюсенькой ниточкой со всей своей полной невзгод жизнью, он страстно желал, чтобы пришли как можно быстрее эти мгновения и он смог бы отдохнуть на ступеньках своей хижины.
Нет, дядюшка Итой не роптал на судьбу, хотя снова и снова чувствовал, что смерть бродит где-то поблизости, когда раздавался хриплый кашель Маринг. Он молча сносил и слезы его дочери Клемении, совсем уже девушки, которая все время сидела на полу, вытянув ноги, рядом с матерью, не зная, как облегчить страдания больной. Но его ни на минуту не оставляла мысль о том, как помочь жене, как избавить ее от тяжести, сдавившей грудь, и от судорог, пробегавших по всему телу.
Вечером, когда Карьо, как бы невзначай подойдя к нему на берегу, попросил об услуге, дядюшка Итой не сразу ответил согласием. Он уже спустил свою лодку на воду, чтобы осмотреть ловушки на крабов, и ему не по душе было слушать Карьо, говорившего так, будто он привычным движением насаживал на крючок вкусную приманку, собираясь рыбачить.
– Я слышал, у вас жена в тяжелом состоянии, – с деланным участием проронил Карьо.
Хотелось бы дядюшке Итою обмануть самого себя, сказав, что не так уж все страшно. Но в то же мгновение перед глазами его возникли лица близких – страдающей от тяжелого недуга Маринг и заплаканной Клемении.
– Это ее малярия свалила, а у меня есть несколько таблеток атабрина. Я принесу их сегодня.
Какую-то особого рода нерешительность почувствовал дядюшка Итой – нерешительность, которая появляется, когда удача ходит где-то рядом. Один только кивок, и Маринг будет спасена. Вправе ли он отказаться? Неужели от этих двух таблеток зависит будущее – жизнь или смерть?
– Вам ничего особенного не нужно делать – только переправить за разрушенный мост и доставить в Ваву баул, который мы погрузим в лодку, – сказал Карьо.
– А это не опасно? Ведь на мосту патруль! – быстро спросил он, вспомнив, что по ночам там немало макапили[3]3
Макапили – так называли членов одноименной коллаборационистской организации, сотрудничавшей с японскими оккупантами в годы второй мировой войны. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть] и японских солдат.
– Все знают, что там крестьяне часто ловят рыбу. Чего еще тут раздумывать? – рассмеялся Карьо.
Соглашаться? Да, искушение велико. В конце концов, река поможет… Он вдруг подумал о том, как часто в этой реке Маринг мыла свои длинные красивые волосы. Заметит ли она его отсутствие? Да и что с того, что заметит? Лекарство стоит дорого, а Карьо даст таблетки.
Только поэтому он и согласился. Ему было невыносимо чувствовать дыхание смерти каждый раз, когда он слышал хриплый кашель Маринг. И еще Карьо пообещал дядюшке Итою кошелек денег. А на деньги все можно купить! В такое время это, конечно, не богатство, однако достаточно, чтобы вырвать Маринг из когтей смерти.
– Сегодня ночью меня не будет, Клемения, – сказал он дочери за ужином, ничего больше не добавив.
В глазах Клемении дядюшка Итой увидел надежду и страх. Нет, не все еще потеряно. Он еще глава их семьи. «Я заплачу Карьо за таблетки», – решил он, почувствовав уверенность в своих силах.
Опуская в лодку огромный тяжелый баул, дядюшка Итой не сомневался, что там винтовки и патроны.
Большой и круглой, похожей на золотое яйцо, плыла по воде луна, когда он отправился в Ваву.
2. Клемения
Когда дядюшка Итой ушел, Клемения потрогала лоб матери. Он был очень горячим. После выпитого лекарства кашель прошел, и больная перестала дрожать.
Стараясь не шуметь, Клемения встала и подошла к окну. Ночь была удивительно тихой. Высунувшись из окна и взглянув на небо, она увидела, что облаков нет – только луна сияет в окружении звезд.
Она решила прилечь. Откинулась на узкую лежанку и зажмурила глаза. Как ей хотелось хоть на несколько мгновений убежать из этой хижины. Этот мир тяготил ее – в нем не было места для ее мечты. А где-то вдали ей виделось прекрасное будущее.
Клемения давно уже прятала от всех журнал, в котором было много ярких фотографий какого-то города и в котором она читала прекрасные рассказы о любви, надежде и победах. Как часто в течение трех лет войны она пряталась от правды, от всего, что ее окружало здесь, переносясь по ночам в жизнь других, незнакомых людей и народов. Из тех событий, что были описаны в рассказах, она создала для себя некий идеальный мир, в котором с ней происходили удивительные вещи: она встречала элегантных и образованных юношей, завоевывала их любовь… Она не показывала этот журнал отцу, надеясь, что придет время, о котором она мечтала. Бесконечно прятать журнал было хлопотно, а Клемения не любила беспокойства. Но созданный ее воображением сказочный мир она предпочитала таить в себе.
Что и говорить, та жизнь, которой жила Клемения, не имела ничего общего с ее мечтами. Реальный мир начинался у порога ее хижины, на несколько вершков возвышавшейся над землей; отсюда вилась узкая тропинка к реке, где густыми зарослями рос толстый бамбук. И это было все. Вместе с ней в этом мире жили отец и мать, Карьо да еще несколько соседей на другом конце небольшого поля.
Клемения невольно содрогнулась при мысли о Карьо. Недавно она увидела, как ее отец разговаривал с ним у реки. Припомнились вдруг слова, которые она нередко слышала от Карьо: «Красивая ты, Клемения. Если бы я решил жениться, то взял бы тебя за себя!»
Он был уродлив и вел себя развязно. У него не было ничего общего с теми мужчинами, которых видела Клемения в своих грезах. Каждый раз, случайно столкнувшись с ним где-нибудь, она закрывала глаза и быстро уходила. Даже воспоминание о Карьо было ей неприятно.
Поговорив с отцом, Карьо поднялся к дому. Клемения увидела, как он уселся на ступеньках, и догадалась, что он ее заметил. Она отпрянула от окна и укрылась в своей комнате. Но тотчас вышла оттуда, когда он громко сказал: «Вот две таблетки. Их надо выпить сразу». Отец быстрым шагом направлялся от берега к дому. Но прежде чем он подошел, Карьо повернулся и вдруг, в упор взглянув Клемении в лицо, предложил ей: «Если тебе что-нибудь нужно, не стесняйся, заходи ко мне…»
Клемения тотчас поняла, что он имел в виду. Да, значит, она была права. Не случайно она всегда испытывала к нему такое отвращение. Как это гадко! В ушах еще долго звучало: «Если тебе что-нибудь нужно… не стесняйся…»
Долго лежала она на топчане, а губы шептали: «Боже мой!» Провела ладонью по лбу. Сегодня, закрыв глаза, она уже не могла убежать от правды в другой мир, созданный по рассказам из старого журнала. Рядом, в углу хижины, лежала ее мать. Разве можно уйти от этого?
Клемения открыла глаза. Мать спала спокойно. «Надолго ли это спокойствие?» – подумала девушка. Она понимала, что не только из-за малярии страдала мать, у нее ведь болели и грудь, и горло. Можно ли отвернуться от такой правды? И неужели последней надеждой оставался Карьо? «О боже!» – снова прошептала она.
Девушка посмотрела в сторону реки. Отца еще не было видно. Наверное, сегодня он вернется не скоро. Прошла только одна неделя с начала паводка, и река разлилась широко. Всем своим существом девушка ждала возвращения отца. Осторожно приблизилась к лежавшей матери. Тетушка Маринг спала спокойно. Ну что ж, о том, что она собиралась сделать, не узнают ни мать, ни отец.
Какое-то мгновение она еще колебалась. Ей даже показалось, что лицо тетушки Маринг помрачнело под ее взглядом, но она быстро схватила со спинки стула темный платок и покрыла им голову. С бьющимся сердцем спустилась по ступенькам и медленно побрела, освещаемая луной, к дверям дома Карьо.
3. Тетушка Маринг
Сначала будто сладкий сон окутал ее, принеся облегчение. Она уже не кашляла. Спал жар, прошла дрожь, охватывавшая все тело. Сон надолго успокоил ее. Ветер весело играл отсветами керосиновой лампы, висевшей над старым шкафом.
Тетушке Маринг захотелось пить.
– Меньянг[4]4
Меньянг – тагализованная форма имени Клемения.
[Закрыть]… Меньянг… – тихо позвала старая женщина.
Повернувшись на бок, тетушка Маринг посмотрела на бамбуковую лежанку Клемении у окна, но девушки там не было. Тогда она повернулась на другой бок и взглянула на приоткрытую дверь, грубо сплетенную из бамбуковых полос. «Итой, пожалуй, еще на реке», – подумала про себя тетушка Маринг. Решив, что Клемения спит в другой комнате, она закрыла глаза и постаралась снова заснуть. Но вскоре почувствовала, что отсветы пламени керосиновой лампы над старым шкафом пляшут у нее на веках. Движения пламени были очень медленными, и больной вдруг показалось – они что-то говорили ей, в них был какой-то смысл. Она не почувствовала страха, лишь старалась понять этот смысл, пока не открыла глаза. Но там, в другом конце хижины, не было ничего необычного.
Поспешив отогнать от себя дурные мысли, тетушка Маринг стала думать об Итое. Закрыв глаза, представила, что стоит на берегу и смотрит на своего мужа, по пояс в воде тянущего за собой сеть, полную рыбы. «Да, конечно, он придет еще не скоро. Он будет на реке очень долго, до утра, и это все из-за меня», – подумала она.
Тетушка Маринг повернулась на бок и вновь увидела свет над старым шкафом. Пламя едва колыхалось. Снова нахлынули воспоминания, она не хотела гнать их прочь из своей памяти. Она не испытывала страха и терпеливо ждала – скоро кто-нибудь придет. Позвала Клемению, но ее не было. Совсем одна в доме – Итой всегда рыбачит по ночам, да и Клемения стала уже взрослой. «А не часто ли слышал Карьо разговоры о нашей дочери, когда бывал поблизости от дома?» – подумала вдруг тетушка Маринг.
Подумав о тех трудностях, которые ждут ее дочь в будущем, она спросила у бога, сможет ли Клемения остаться непорочной в такое тяжелое, неспокойное время. Не лучше ли было бы, если бы она пока оставалась ребенком, а выросла потом, после этой войны?.. Тетушка Маринг даже усмехнулась про себя такой чуши. Мысли как в бреду – наверное, смерть уже совсем рядом. Она бы рассмеялась, но боль в груди мешала ей это сделать. Она стала напряженно прислушиваться к своим ощущениям и вдруг почувствовала, что ей становится все труднее дышать. Попробовала дышать глубже, но боль быстро распространялась в груди, захватывая горло. Она вдруг закашлялась – отрывисто и сухо, но это продолжалось несколько секунд, и скоро старая женщина снова тихо лежала, прикрыв глаза. Ей хотелось заснуть, чтобы не чувствовать боли в груди. Но, словно в насмешку, по векам тетушки Маринг вновь заплясали отсветы пламени керосиновой лампы. Их движения были медленными, они как будто давили на глаза. Посмотрев на свет, она заметила, что колебания язычков пламени напоминают конвульсии задыхающейся рыбы. «Еще немного, и свет погаснет, – подумала старая женщина. – Только бы Итой вернулся раньше».
Опять стала донимать жажда, которая мучила ее, когда она проснулась. Во рту все пересохло. От кашля пить хотелось еще больше. Она повернула голову к комнате Клемении и позвала: «Меньянг… Меньянг…» Голос ее звучал хрипло и тихо. Снова и снова звала тетушка Маринг, громче и громче, пока не закашлялась. Вдруг свет над шкафом замигал и потух. И в ту короткую секунду, когда она перестала кашлять, словно порыв свежего ветра ворвался в мысли больной женщины, принеся с собой горькое прозрение: она осталась совсем одна! Одна… Но ей так хотелось верить, что Итой уже сидит на ступеньках дома, а Клемения вот-вот проснется и выйдет из комнаты…
Понемногу приступ кашля прошел, выровнялось дыхание, отпустила боль в груди. И луна, спустившаяся с гор, точно опытный искуситель заглянула в раскрытое окно.

Перевод И. Полянина
Вечер полз по крышам зданий, сгущался на больших и маленьких улицах, прислонялся к лицам уставших людей, людей, изо дня в день принимавших без толку все новые и новые лекарства. Вечерняя тьма напоминала тонкое шелковое покрывало, которое едва охватывало пространство между землей и первыми этажами зданий. Вечер был только там, где темнело небо, потому что ночь была безжалостно вытеснена с поверхности земли светом электрических фонарей.
Одиннадцатилетний Адонг не заметил приближения вечера, хотя именно в это время суток район Кьяпо[5]5
Кьяпо – большая площадь в центре Манилы и примыкающий к ней район.
[Закрыть]становился настоящим Кьяпо. Для Адонга не имело значения, что вечер уже наступил, важнее было то, что Кьяпо принимал свой истинный облик. Все равно, вечер сейчас или нет, – главное, Кьяпо начинал жить.
Одно только представляло интерес для Адонга в Кьяпо. Уже не видны были строящиеся здания, исчезли в темноте недавно вырытые котлованы, погасли огни магазинов, бурливших до самой ночи. Только светилась церковь, и толпы людей, выходивших из домов с единственной целью – чтобы приблизиться к красивому алтарю, – не убывали. Да, именно церковь для Адонга была жизнью.
Рядом стояли нищие, продавцы лотерейных билетов, свечей, всевозможных кореньев и трав. Лица этих несчастных, обездоленных людей были обращены к церкви. Среди них был и Адонг. Но церковь не слышала их мольбы. И лишь у некоторых людей еще хватало чувства жалости, чтобы достать из кармана и бросить в грязную ладонь один или два пятака.
Адонг плакал. Он долго смотрел на фонари, и они казались ему разбросанными вокруг огненными брызгами. Вроде бы недавно, в полдень, он ел на грязном церковном дворе. Весь день солнце жгло ему спину, едва прикрытую одеждой, руки онемели до локтей, но слабое позвякивание монет, доносившееся из кармана, не принесло радости, в нем звучало тревожное предупреждение. Адонг чувствовал, как с каждой минутой в нем росло недовольство самим собой, а страх, все усиливаясь, гусеницей полз по телу.
– Тетенька, подайте милостыню, – умолял он.
Лица прохожих были каменно холодными, они проходили мимо, беззаботно отмахиваясь, и торопливые шаги означали одно – поспешное стремление уклониться от всего неприятного, что было рядом.
– Только пятачок, тетенька… Я сегодня ничего не ел, – умоляюще тянул Адонг.
Ответом на его мольбы были угрюмые, брошенные искоса взгляды, брезгливость и раздражение. «Их заставляют попрошайничать, чтобы родители могли играть в карты», – часто приходилось слышать Адонгу. Но ведь он как раз потому и побирался, что у него не было родителей. И все же те люди частично были правы – ему приходилось сносить все это, подчиняясь приказаниям тетушки Эбенг, хромой старухи, стоявшей на другом краю площади. Он почти непрестанно, каждый день плакал, но его слез не замечали не только тетушка Эбенг, но и никто из просящих милостыню. Он знал, что от Бруно ему опять не отвертеться, что придется отдать ему песо. Такая же участь постигнет и всех остальных.
«Подают?» – точно наяву услышал он скрипучий голос Бруно и вспомнил, как алчно блестели его глаза, когда он со злорадством отнимал свою долю. Руки Адонга дрожали, когда Бруно своими жадными руками забирал у него мелочь, долго бренчавшую в карманах мальчика, но так и не избавившую его от вечного чувства голода.
– Подайте, дяденька… тетенька… Мне нечего есть, – снова запричитал он. За слезы никто не платил, они были обычны, как капли дождя в широких трещинах асфальта. Люди уже привыкли к бесчисленным нищим, просящим милостыню. Им ведь тоже часто приходилось нелегко. За собственными заботами никто не замечал других.
Прозвенел колокол, и через некоторое время Адонг услышал, как внутри церкви началось движение. Люди ринулись к выходу с такой поспешностью, что можно было подумать – там, внутри, за все время службы, длившейся не один час, их что-то жгло, заставляя страдать их тела и души. Мальчик обрадовался. Скоро в ладонь будет чаще падать подаяние. Он шагнул навстречу приближающимся людям.
– Вот-вот придет Бруно, – объявила тетушка Эбенг, у которой словно не было других обязанностей, кроме как сообщать об этом всем, кто мог слышать. Радость Адонга мгновенно исчезла. Урчащий живот вновь напомнил ему, что он голоден. От страха по всему телу пробежали мурашки, волоски на руках поднялись, как будто к нему протянулись страшные лапы какого-то злого колдуна. Глядя на бесчувственных, безжалостных прохожих, он чувствовал, как внутри у него все горит. Он даже не понял, почему это произошло, почему чувство голода и опасности вдруг так обострилось. Хотя и сегодня, и в течение нескольких предыдущих дней все его существо ждало какого-то потрясения.
Ему бросили несколько пятаков в ладонь, именно бросили, а не положили, потому что дающие испытывали отвращение от возможного соприкосновения с грязными ладонями – будто бы только их тонкие холеные руки могут быть чистыми. Торопливым движением рассовал Адонг мелочь по карманам. Она глухо звякнула, стукнувшись о лежавшие там медяки. И еще несколько монет бросили ему в ладонь. За этим занятием он не заметил, что поток людей, выходящих из церкви, сильно поредел. И вновь видел Адонг каменно холодные лица прохожих, опять они проходили мимо, беззаботно отмахиваясь, а торопливые шаги означали одно – поспешное стремление уклониться от всего неприятного, что было рядом.
– Адонг, а вот и Бруно, – услышал он голос тетушки Эбенг.
Адонг оглянулся и посмотрел, куда показывала старуха. Это действительно был он, Бруно. Грузная фигура, огромные руки, уродливая маленькая голова в кепи. Адонг засунул руку в карман, нащупал монеты. Они холодили ладонь. Этот холодок вместе с током крови пробежал по всем его венам. Но его было недостаточно, чтобы порушить жар, пылавший внутри. Он сгреб всю мелочь в ладонь.
– Тетушка Эбенг, скажите Бруно, что меня нет! – быстро сказал он старухе.
– Чего?! Да ты с ума спятил, Адонг! Бруно тебе покажет, ведь он тебя уже видел!
Адонг все слышал, но это его не остановило. Он пошел, сначала медленно, а потом, завернув за угол церкви и почувствовав себя в безопасности, побежал что есть духу. Добежав до того места, где медленно ползли джипы, затесался в гущу гуляющих людей, мысленно представляя себе маленькую боковую аллею, где его уже не было. Прислонился спиной к фонарному столбу, ощутив его твердость. И тут в еще детском уме Адонга возникла мысль о бунте. Бежать от Бруно, бежать от Кьяпо, бежать от голода, от непроницаемых лиц, от этой церкви, от жестокости, с которой ему снова и снова приходилось сталкиваться, от брезгливо сторонившихся его людей. Он долго звенел мелочью, перебирая ее в кармане.
– Адонг!
Послышались приближающиеся шаги.
Мальчик вздрогнул. Резкий окрик поверг его в ужас. Ему хотелось бежать, бежать как можно дальше. Но Бруно железными пальцами впился в руку мальчика, вмиг заставив забыть то ощущение собственной силы, которое возникло у него после этого бунта против голода, опасности и жестокости.
– Отпусти меня, Бруно! Отпусти меня! – только и смог прокричать Адонг.
И больше он не слышал резкого голоса. Страшный удар по лицу отбросил его в сторону. Голова закружилась. А еще через какое-то время он вообще перестал что-либо чувствовать.

Ливайвай А. Арсео-Баутиста
ЧУЖАЯПеревод В. Макаренко
– Похожа на кинозвезду. Может, и в самом деле артистка?
Фели приехала рано утром и уже несколько раз слышала, как задавали этот вопрос. Будто видят ее впервые. Как-никак она бывает дома дважды в год: на день всех святых и во время рождества. Или, может, это слишком редко?
Вот и сейчас люди вокруг молчаливо наблюдают за ней, и у нее такое ощущение, что тот же вопрос написан на каждом лице, читается в каждом взоре, в каждой застенчивой улыбке, сопровождающей эти брошенные украдкой взгляды.
А в зеркале перед собой Фели замечает стоящую позади нее тетушку Ибанг. Та тоже критическим взглядом смотрит на ее волосы. И не верит своим ушам, когда Фели вдруг спрашивает у нее пива, чтобы смочить волосы перед укладкой.
– Пива? – удивляется тетушка Ибанг, недоверчиво глядя на нее широко раскрытыми глазами. Племянница улыбается и кивает. Видя, что тетка неодобрительно насупилась, она спешит объяснить:
– Да оно ведь совсем не пахнет, тетя!
Старая женщина пристально разглядывает наряд Фели. Осматривает вырез ее те́рно[6]6
Терно (от исп. «тройка») – женский национальный костюм, состоящий из блузки и длинной юбки, сочетающихся по цвету, рисунку и покрою, а также легкой накидки с широкими прозрачными рукавами.
[Закрыть], оголяющий грудь, стянутую юбкой талию, ставшую еще тоньше, разрез на юбке, без которого вряд ли можно было бы ходить.
– Ну и ну-у… Все теперь стало по-другому.
Фели слышит вздох, вырвавшийся из груди старой тетки. И невольно улыбается. Будь жива ее мать, она сказала бы то же самое. И даже отец, который никогда не отличался разговорчивостью, не похвалил бы ее. Она уже слышала, как о том же говорила и ее старшая сестра Седес. Да и другие родственники не лучше. Даже ее племянники и племянницы сурово выговаривали ей, стоило им увидеть ее в черных облегающих брюках тореадора и розовой рубашке. Односельчане всегда с любопытством оглядывают ее с головы до пят, от платка на голове до пурпурного педикюра на ногах.
– Интересно, кто из наших станет подражать тебе? – будто про себя говорит тетушка Ибанг. – Верно, старшая твоего брата… Шустрая девчонка!
– Я просила Эденг отпустить со мною дочку. Я бы отдала ее в школу в Маниле. Все равно живу одна. Да с ними всегда какие-то сложности… Они, видите ли, не могут разлучиться. Если бы я послушалась тогда мать… если бы поверила слезам… – Она умолкает, чувствуя, что голос предательски выдает муку, терзающую ей грудь.
– Ну… ладно, – говорит тетушка Ибанг, внезапно смягчившись. – Мы тогда все глаза выплакали, как только ты уехала…
– А я ведь еще и тогда знала, насколько мне будет легче жить в Маниле. Разве бы я решилась выступить на том конкурсе красоты, если б не была уверена, что пройду?
Тетушка Ибанг ничего не отвечает. Фели чувствует, что она касается платком ее затылка.
– Ты вся вспотела. Когда Дуардо обещал заехать за тобой?
– Да вроде бы в три часа. У вас по-прежнему это «приблизительно»? Три часа – значит пять?.. О-о, да уже четыре! Знала бы, так взяла свою машину. Жаль, что напялила терно… Обычно-то я сама вожу. Вот в Америке…
– Ты, видно, уже заждалась? – прерывает ее тетушка Ибанг.
– Да нет, не потому. Просто нужно являться в назначенное время. И потом я хотела сегодня же вернуться в Манилу.
– Как? На ночь глядя?
Фели не удержалась от смеха.
– Я одна ездила в Америку и вернулась в целости и сохранности. Разве так уж трудно добраться до Манилы?.. Ох, как давно я не была на Филиппинах! Отвыкла, что ли? Дело в том…
Тетушка Ибанг щелкает языком, и Фели умолкает. У старушки явно портится настроение. Фели тут же вспоминает, как ее встретили. С трудом скрываемые благоговение и изумление, неуклюжее, но сердечное гостеприимство. За завтраком ее обслуживали отдельно от племянниц и племянников. Для нее приготовили особый стол, накрыв его вместо скатерти белой простыней. Ее не пустили в батала́н[7]7
Баталан – часть кухни деревенского дома, в которой стоит бочонок с водой для умывания.
[Закрыть], когда она сказала, что хочет вымыть руки. Принесли тазик с водой, а одна из племянниц поставила рядом блюдечко с куском душистого мыла, купленного для торжественного случая. Она заметила, как переглянулись все вокруг, когда она сказала, что будет есть руками.
– Но у нас есть ложка и… вилка… все серебряное, – начала старшая невестка и тут же смешалась. – Те, что ты привезла домой… тогда. Мы почти не пользовались ими…
Фели беспечно улыбнулась.
– Разве краба едят ложкой или вилкой?
И сразу же пожалела, что так сказала. Она заметила, как помрачнело лицо тетушки Ибанг. Старая женщина не переставала извиняться.
– Мы могли бы зажарить поросенка, но нам сказали, что ты не приедешь…
В самом деле, она не собиралась присутствовать на церемонии. Но потом передумала: ведь у них в ба́ррио[8]8
Баррио (от исп. «квартал», «часть города») – административный центр нескольких деревень, волости; также – большая деревня.
[Закрыть]впервые должно было состояться такое торжество. Пятидесятилетняя годовщина школы Плариделя[9]9
Пларидель – псевдоним Марсело дель Пилара (1850–1896), лидера прогрессивной филиппинской интеллигенции периода подготовки революции 1896 г.
[Закрыть] – «Пларидель Хай-скул». Она почувствовала, что не может отказаться от чести, предложенной ей ассоциацией бывших питомцев ее родной школы. Ей запали в душу слова президента: «В честь первой женщины-судьи, выпускницы нашей школы…»
Фели вздрагивает от резкого автомобильного сигнала, раздавшегося перед самым домом. Это значит, что прибыл эскорт, который должен доставить ее в школу в баррио. Фели решает не надевать туфель: каблуки слишком высокие и тонкие.
– Я возьму их с собой в машину, – говорит она тетушке Ибанг, а про себя думает: «С такими каблуками как раз застрянешь между планками. Я в них и не сойду по этой бамбуковой лестнице».
Она нагибается за туфлями, но старушка опережает ее. С туфлями в руках тетка провожает ее до машины. Множество глаз впивается в Фели. На какое-то мгновение она застывает у машины, силясь припомнить имя человека, лицо которого ей так знакомо. Он предупредительно распахивает перед ней дверцу автомобиля.
– Я – Дуардо. – Молодой человек застенчиво улыбается.
Фели с трудом сдерживает вздох удивления, готовый вырваться из ее груди. Когда она усаживается в машину, тетушка Ибанг подает ей туфли и подхватывает протянутые шлепанцы. Дуардо захлопывает дверцу и, обойдя вокруг, садится рядом с шофером.
– Почему вы не сели здесь, со мной? – спрашивает Фели. Сердце ее бешено колотится. – В конце концов, вы ведь президент…
– Ну, видите ли… – Дуардо не оборачивается, но по тому, как он запинается, Фели догадывается, что губы его дрожат. – Это… это может п-показаться… не совсем п-приличным…
Лицо Фели делается непроницаемым. Зубы сжаты. Дуардо был единственным мальчиком, с которым она дружила здесь когда-то. Теперь он учитель той школы в баррио, в которой они оба учились, президент ассоциации выпускников.
– Мы все очень рады, что вы приехали, – говорит Дуардо, немного помолчав. – Прошло лет двадцать…
– О, пожалуйста, не вспоминайте о годах, – усмехается Фели. – Я чувствую себя сразу такой старой.
– О, что вы! Вы совсем не изменились! Вы выглядите сейчас гораздо моложе… Жалко, что Менанг не сможет повидать вас…
– Менанг? – Фели приподымается на сиденье.
– Да, наша одноклассница… – тут же поясняет Дуардо. – Мы…– Он засмеялся. – Недавно она родила нам шестого ребенка.
– О-о! Поздравляю! – Она пытается улыбнуться. Ей вдруг сразу становится не по себе: и от духоты, и от черепашьего хода машины.
– Вы удивитесь, когда увидите сегодня нашу школу, – снова начинает Дуардо после некоторого молчания. – Она совсем не та, что была прежде.
– Я уверена в этом, – бормочет Фели. – У меня все как-то не было времени остаться в баррио подольше, когда я приезжала сюда прежде. Всегда такая спешка…
– У меня тоже, к сожалению, не было никогда случая повидаться с вами…
Здание школы оказалось совершенно новым. Она бы его ни за что не узнала. Из окна машины Фели увидела толпу зевак и поспешила надеть темные очки. Нет, она не может больше выносить эти взгляды, видеть эти лица. Пугливые, восхищенные, исполненные благоговения – каких только нет.
Когда Дуардо открывает ей дверцу, она вдруг явственно испытывает ощущение пустоты, которое преследовало ее сегодня с самого утра. Ей сразу становится очень одиноко. К глазам подступают слезы. Нет, кажется, она больше не узнаёт своего родного баррио, и баррио больше не знает ее…









