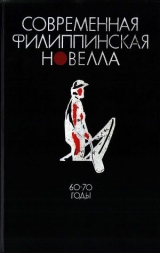
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Я прибежал к себе домой и разбудил дядюшку Сатора.
– Ну, что там еще? – недовольно проворчал он, потирая глаза.
– Нашему игорному дому грозит опасность, дядюшка Сатор, – объяснил я ему. – Теперь не время спать.
Дядюшка Сатор прямо подпрыгнул на травяной циновке и схватил свою знаменитую трость.
– Это кто там, начальник городской полиции, что ли? – поинтересовался он.
– Он самый, – подтвердил я его догадку.
– Знаем, знаем. – В его голосе не было заметно никакого волнения. – Я поставлю его на место. Пошли, племянничек. Посмотришь, как умный и богатый человек будет обращаться с бедным, но честолюбивым маленьким человеком. Мир полон маленьких людишек.
Придя на место, мы застали дядюшку Серхио в расстроенных чувствах. Он едва не плакал. Начальник полиции уже распорядился приостановить игру, потому что дядюшка Серхио не соглашался отчислять ему пятьдесят процентов доходов. Дядюшка Сатор направился прямо к начальнику и что-то прошептал ему на ухо. Строгий начальник расплылся в блаженной улыбке, и они, как добрые друзья, прошли в заднюю комнату. Я протиснулся вслед за ними. Начальник полиции вознамерился было турнуть меня оттуда, но дядюшка Сатор не позволил.
– Пусть останется, – сказал он начальнику. – Мастер на все руки. Он может и вам как-нибудь пригодиться.
– Ну тогда ладно, пусть останется, – согласился начальник, – если он действительно может быть мне полезен. А сколько он берет?
– Вы имеете в виду моего милого племянничка? – решил удостовериться дядюшка Сатор. – Песо здесь, и еще одно там. Да вообще-то они ему и не нужны вовсе: он еще не знает цены деньгам. Он играет с ними или попросту раздает. Но скоро он вполне оценит, что они значат.
– Понимаю, – одобрительно прогудел начальник полиции. – Ну так как насчет моих двадцати пяти процентов?
– Двадцати пяти процентов? – удивился дядюшка Сатор. – Да вы вполне заслуживаете тридцати пяти за обеспечение здесь спокойствия и порядка.
Начальник полиции просиял.
– Да, тридцать пять процентов. Я понимаю вас. Всегда легко и приятно иметь дело с джентльменом и богатым человеком.
Дядюшка Сатор многозначительно подмигнул мне и, обратясь к начальнику, продолжал:
– На самом деле я предполагал дать вам даже сорок процентов.
– Я никогда не встречал такого щедрого человека, – растерялся начальник полиции. – А мне такое наболтали про вас…
– Так остановимся на сорока процентах, – подытожил соглашение дядюшка Сатор спокойным голосом. – И вот вам премия в десять песо за сегодняшний день. Можете попытать счастья за карточным столом.
Начальник убрал в карман полученную от дяди бумажку и одобрительно поглядел на меня. Потом повернулся и направился к двери, ведущей к игральным столам, что-то бормоча по моему адресу. Он подошел к тому столу, за которым сражались, не зная поражений, двое полицейских, перемигивавшихся друг с другом. Не обратив на это внимания, их шеф начал ставить на карту. Они позволили ему выиграть понемногу раз пять, а на шестой предупредили, что он может расстаться с собственным домом. Начальник сгреб свой выигрыш и поспешно удалился.
Дядюшка Сатор по-прежнему пребывал в задней комнате. Я застал его в глубокой задумчивости. Он сжал руками мою голову и посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд выдавал непоколебимую решимость.
– Вот что, племянничек, – обратился он ко мне, – навести-ка своего бандита-дядю. Передай ему, пусть тут же приходит сюда. Улавливаешь, кого я имею в виду?
– Дядю Соёка, – не раздумывая, ответил я.
– Молодец, племянничек, – похвалил меня дядюшка Сатор.
– Я, правда, не знаю, где его можно найти в эту минуту. А что, ему будет чем поживиться?
– Сынок, – проговорил дядюшка Сатор очень серьезно. – Как я догадался в разговоре с начальником полиции, твой дядюшка-картежник утаил кучу моих денег.
– Я тоже догадывался об этом, – радостно сообщил я ему.
– Так вот, – продолжал он, – сейчас самое время загрести их и смыться со всей наличностью, понял?
– Но вы же обещали сорок процентов начальнику полиции, – запротестовал я по неопытности. – И добрый кусок комиссионных дядюшке Серхио. Что же они скажут, обнаружив, что вы ограбили и обманули своего собственного брата?
– Все это только слова, пустые слова, племянничек, – поучал меня дядюшка Сатор. – Приятные, добрые, красивые. Людям известны только два способа их применения. Я предпочитаю тот, который мне ближе. Ты постигнешь это несколько позже.
– Я бегу, дядюшка Сатор, – согласился я. – Жаль только, что мы не успели заполучить некоторые крестьянские поля.
– Как-нибудь в другой раз, племянничек, – успокоил меня дядюшка Сатор. – Неожиданный оборот событий требует от нас самых решительных действий, и мы должны действовать немедленно и без колебаний. Таковы люди.
– Вы правы, дядюшка Сатор, – поддержал я его, выходя из игорного дома на поиски дядюшки Соёка, моего дядюшки-бандита.

Лигайя Викторио-Фруто
ТУПАДАПеревод В. Макаренко
Слово «тупада» распространилось по плантациям Оаху[37]37
Оаху – наиболее крупный из островов Гавайского архипелага, на котором расположен его главный город Гонолулу.
[Закрыть] с быстротой ветра, пробегающего по кисточкам камыша. Во время коротких перекуров и после работы коричневые баяу, плантационные рабочие-эмигранты, собирались группами и вполголоса на своем диковинном языке взволнованно обсуждали слухи о чудесном бойцовом петухе из Мехико, который, как говорили, должен был появиться на петушиных боях в это воскресенье. Рассказывали, что у этой птицы ноги покрыты золотыми чешуйками, оперение чеканного серебра, а гребешок на голове горит ярким пламенем. Ради такого чуда здешний люд мог побросать работу, рискуя навсегда потерять надежду обеспечить себя собственным клочком земли на родине, ради чего трудились столько лет.
Каждый вечер Матео прислушивался к разговорам в хижине своего дяди, пользуясь не столько ушами, сколько глазами, чтобы освоить получше тот невообразимый говор, который старшие позаимствовали на родине и за который они держались с упорством безграмотных и безземельных людей. Мальчик догадывался о значении слов по жестам, движениям головы, красноречивому взлету бровей. Медленно, одно непонятное, странное слово за другим, жест за жестом, он восстанавливал картину благородной отваги, неповторимой красоты и непревзойденной храбрости – картину происходящего на площадке не шире расставленных рук человека.
– Говорят, что привезти этого петуха сюда обошлось дороже, чем платят за билет на пароход до Филиппин, – проговорил однажды вечером дядя Матео, – и что он стоит этого, и даже больше.
– Да, он стоит этого, и даже больше, – подтвердил один из мужчин. – Я его сам видел.
Все прочие поглядели на него так, будто ему удалось увидеть что-то невероятное.
– Это настоящий король среди других птиц, – продолжал мужчина. – Приделай ему шпоры, и он сможет выпустить кишки любому петуху на Гавайях.
На некоторое время воцарилось молчание, потом один из собравшихся сказал:
– Нужно будет в воскресенье прийти туда пораньше. Иначе не протолкнемся.
– Да и путь отсюда немалый, – подхватил другой. – Надо отправиться поутру, как только перекусим.
Все согласно закивали головами. Матео вылез из своего угла и подошел к календарю, пришпиленному на одной из стен. Воскресенье – до него оказалось всего лишь два листочка.
– А ты пойдешь с нами, Матео? – спросил один из них с улыбкой.
– Тупада – это не для маленьких, – ответил за Матео дядя.
– Он сразу повзрослеет и станет мужчиной, если посмотрит хоть один раз, – не то в шутку, не то всерьез сказал другой. Остальные засмеялись.
Дядя взглянул на горевшее надеждой лицо мальчика и неодобрительно сдвинул брови.
– Петушиные бои – это не для маленьких мальчиков, – повторил он снова. – Нам не следовало бы даже в шутку говорить о том, что он может пойти. Там, на петушиных боях, всегда опасно, и Матео пусть даже думать об этом не смеет.
Его гости почему-то опять засмеялись, но видно было, что они устыдились своих слов, потому что сразу же поспешили перевести разговор на то, как проходят петушиные бои тут и дома. Матео сделал вид, будто ничего не понял.
Воскресенье выдалось с самого утра безоблачным. В лагере плантации множество глаз, едва открывшись, обрадованно устремились к небу – оно обещало теплый солнечный день. Даже горы, возвышавшиеся невдалеке, сбрасывали вуаль багровой туманной дымки. Гребни гор застыли в свете раннего утра, их вершины четко вырисовывались на фоне голубого неба.
Матео прислушивался к тому, как пятеро взрослых, собравшись в хижине его дяди, говорили о погоде, о том, как тепло будет там, на зеленой поляне, где состоятся сегодня петушиные бои. Настроение у всех было хорошее; закусывая перед дорогой, они со смехом вспоминали, как вспарывали подушки, в которых хранились их скромные сбережения.
Мальчик вел себя в это утро спокойнее, чем обычно. Он не хотел привлекать к себе внимание. Вскоре после завтрака ему удалось незаметно исчезнуть и спрятаться в тайном убежище среди огромных листьев позади домика. Темная голова, коричневое тело и зеленая рубаха позволили ему почти совершенно слиться с тенистой зеленью. Ему не хотелось снова и снова выслушивать наказ оставаться дома, не отходить от него далеко, не бегать на шоссе и на море во избежание несчастья. «Ты должен вырасти и уехать домой, – часто говаривал дядюшка. – Ты последний из нашей семьи, поэтому тебе нужно будет в один прекрасный день воротиться на землю твоих покойных родителей, чтобы рассказать там нашим, что в этой гавайской ссылке мы кое-что заработали».
Земля родителей как-то не облекалась ни во что конкретное в мозгу Матео, и возвращение на родину, которым то и дело бредил дядя, не представлялось ему реальным даже в отдаленном будущем. Когда-нибудь потом, может быть, когда он станет совсем взрослым… Но это будет так не скоро. А сегодня во что бы то ни стало он должен посмотреть тупаду во всем ее великолепии, пусть даже это опасно.
Он проследил, как дядюшка и его друзья вышли из дому и, наскоро посовещавшись, двинулись в тот проулок, который всегда считался тупиком. Следуя за ними на безопасном расстоянии, он увидел, как они один за другим пролезли в небольшое отверстие в живой изгороди из гибискуса, отгораживавшей от дороги поля сахарного тростника. Мальчик потерял их из виду, как только дядя и его спутники углубились в заросли высоченного тростника, уже пожелтевшего на солнце, но он шел дальше, внимательно прислушиваясь к их голосам. Идти пришлось долго, казалось, этому тростнику и конца никогда не будет, но вот неожиданно поле осталось позади, и все направились прямо в горы.
Тропинка, которая шла в гору, вывела их наконец на узкую грунтовую дорогу. И тут перед ними открылась такая красивая поляна, что Матео даже замигал глазами от невыразимого восторга. Окаймленная со всех сторон желтым тростником, эта поляна, зеленая и свежая, выглядела словно гигантский изумруд, сверкающий посреди горной ложбины. Нежная зелень травы, какой мальчику еще не доводилось видеть, опоясывала по краю большой круг коричневой земли под сенью огромного мангового дерева. Его ствол раскинул далеко в стороны свои ветви, которые в свою очередь разрастались вниз, к земле, и вверх, к небу. Плотно сомкнутая листва образовала некое подобие навеса, прикрывавшего площадку утрамбованной земли от солнца и дождя.
Вокруг дерева уже собралось множество людей. Матео подождал, пока дядя и его друзья присоединились к одной из групп на самом краю манговой тени, где шел оживленный обмен мнениями, и осторожно пробрался к стволу. Он постоял там, прячась за спинами, пока все взгляды не устремились к появившимся здесь людям с петухами на руках. Тогда он, не раздумывая более, быстро взобрался на дерево. Мальчик карабкался вверх до тех пор, пока не примостился на одной из веток, достаточно густо покрытой листьями, чтобы укрыть его, и прочной настолько, чтобы не сломаться под тяжестью его тела.
Со своего насеста он хорошо видел все, что происходило внизу. Люди сгрудились вокруг четырех субъектов с петухами в руках. Птицы нервно кудахтали и время от времени пытались освободиться из рук, лишивших их свободы, несмотря на то, что они ласково поглаживали их. Гребешки птиц вздрагивали, а сережки тряслись при каждом стремительном движении головы. Хозяева пробовали ставить петухов на землю, демонстрируя силу их ног. Какие-то люди с деньгами в руках обходили группы зрителей, собирая ставки.
Внезапно наступила непривычная тишина, и Матео, раздвинув пошире листья и пренебрегая опасностью, с затаенным дыханием стал наблюдать за происходящим, как и все люди внизу. Вперед вышел человек, в руках у него был белый петух. Он поднял петуха высоко над головой и гордо показал всем, поворачиваясь из стороны в сторону.
Длинные перья белого блестели как серебро, отбрасывая маленькие радужные блики солнечных лучей, проникавших сквозь густую листву. Покрытые чешуйками ноги казались двумя молотками в руках хозяина, а когти глубоко впивались в коричневую кожу. Гребешок у петуха был такой огненно-красный, что будто источал искры над полными презрения глазами, сверкающими как бриллианты, а розоватые сережки мелко подрагивали при каждом движении благородно посаженной головы. Грациозный хвост, покрытый красивыми перьями, довершал великолепие гордого подъема груди и прямой спины. Словом, это действительно был король птиц.
Человек выпустил белого петуха, и тот, легко и красиво вспорхнув, приземлился на площадке. Петух прошелся с гордым видом, как будто измерял шагами землю, – голова его то и дело поворачивалась направо и налево, а тело важно покачивалось в такт шагам. Он бил ногой и скреб землю, кудахтал низким тоном, перекрывая невнятное благоговейное бормотание восторженной публики.
Немного погодя хозяин приподнял белого петуха и приладил ему на одну ногу блестящий кусок стали. Другой птице благородного вида с красновато-коричневым оперением тоже прикрепили на ногу такую же шпору. Затем противников поднесли поближе друг к другу. Белый и красный петухи свирепо воззрились один на другого, перья у них поднялись дыбом.
Матео смотрел словно зачарованный, как двух птиц сдвинули еще ближе, так, что их клювы уперлись один в другой и головы слегка пригнулись. Затем петухов поставили на землю, ярость вспыхнула в них пламенем, обдавшим каждого стоявшего на поляне.
Птицы замахали крыльями и налетели друг на друга, зазвенели скрестившиеся стальные шпоры. Ко всеобщему удивлению, красный пустился было наутек, но белый умело кинулся в погоню. Бегство красного взбесило белого петуха, и вскоре они уже опять стояли, столкнувшись гребешками, сережки их дрожали от ярости, а глотки издавали громкий боевой клич. Неожиданный стремительный выпад, торопливый лязг шпор, и окончательно пришедшие в неистовство птицы взлетели в смертельном прыжке. Упав на землю, они сцепились в яростном объятии, красный петух оказался внизу. Брызнула кровь, из-под клювов и шпор полетели перья, когтистые лапы снова и снова все глубже и глубже погружались в тело под мокрым от крови оперением.
Танец смерти прервался протяжным воплем агонии; красный в последний раз принялся неистово бить крылом, подметая землю. Когда белый петух снова поднялся на ноги, он уже стоял один.
Хозяин осторожно поднял на руки победившую птицу и погладил ее. Сквозь грязные перья сочилась кровь и капала на землю. И хозяин и зрители как будто прозрели, поняв, что это была ее собственная кровь.
Благородный гребешок оказался разодран надвое, кровь густо окрасила один глаз. Приподняв испачканные в земле перья, хозяин белого увидел на его теле глубокие раны – красный петух сражался доблестно.
Матео приник к шершавому стволу мангового дерева, чтобы не свалиться вниз. Он почувствовал какую-то тяжесть в животе, наверное оттого, что поел зеленых плодов манго рано утром. Руки и ноги покрылись холодным потом, дыхание застревало в горле. Глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит.
Внезапно раздался резкий звук ружейных выстрелов в воздух и топот бегущих ног. «Никто ни с места! – прокричал кто-то. – Полиция!»
«Облава! – заорали в толпе. – Бежим! Спасайся!»
Матео, застыв на дереве, смотрел, как жестоко разгоняли людей. Ему был хорошо виден хозяин белого петуха, который явно колебался, поглаживая окровавленные перья, а затем схватил птицу за ноги и изо всей силы закинул ее в заросли сахарного тростника подальше от поляны. Потом он вытер испачканные в крови руки носовым платком и остался спокойно, даже с каким-то безразличием, ждать, когда полицейская сеть загребет их всех.
Раздалось беспорядочное кудахтанье петухов, которых засовывали в один большой мешок, – «вещественное доказательство», как сказал кто-то. Его потащил здоровенный детина в униформе. Послышалось шарканье босых ног по земле и мягкой траве. Матео был доволен, что поднявшийся ветер заглушал все это шелестом листвы. Это помогло ему унять волнение.
Вскоре в долине снова наступила тишина. Матео спустился вниз со своего насеста, постоял немного под деревом, чтобы перевести дух. Ему казалось, что он остался совсем один в этом странном зеленом мире. Ничто не говорило о том, что всего полчаса назад неистовство и смерть царили здесь, в этой зеленой чаще, если не считать темных пятен, испещривших коричневую землю, покрытую мозаикой солнечных бликов и листьев.
Солнце приятно согревало мальчика, когда он вышел из тени мангового дерева и медленно побрел по зеленой траве. На краю тростникового поля он остановился. Раздвинув высокие стебли тростника, ступил в пугающее глубиной переплетение растений, ноги утопали в сухих листьях, заполнивших все внизу.
Матео продвигался осторожно сквозь эту буйную растительность, покуда не наткнулся глазами на то, что разыскивал – сверкающие белые и красные пятна. Он опустился на колени и медленно пополз дальше.
За шаг от упавшей птицы он остановился, его руки уперлись во что-то влажное. Крошечные радужные блики играли на белом оперении там, где лучи солнца проникали сквозь плотно растущие стебли. Рассматривая птицу, мальчик старался не глядеть на небольшую лужицу крови, образовавшуюся под ней. Вдруг крылья неистово застучали по земле – он даже подпрыгнул от неожиданности. Жизнь упорно не хотела покидать израненное, агонизирующее тело. Некоторое время спустя он набрался храбрости и погладил умирающую птицу. Все еще красивые перья излучали тепло, а ноги, теперь беспомощно торчавшие в воздухе, по-прежнему выглядели упругими и сильными. Ему становилось как-то не по себе, когда птица шевелилась, открывая большую рану на голове, полученную, наверное, от падения на твердые стебли тростника. На изуродованный гребешок и жалко вздрагивавшие сережки страшно было смотреть.
Матео осторожно поднялся – ноги плохо его слушались – и подобрал с земли птицу. Он держал в руках дрожавшее тело петуха и нежно гладил окровавленные перья. Ему бросилась в глаза шпора, красновато сверкнувшая на ноге, потом его взгляд снова вернулся к безвольно поникшей голове. Он осторожно поворачивал эту голову до тех пор, пока ему не удалось заглянуть в полузакрытые глаза петуха.
Он не выдержал, отвернул голову птицы, чтобы не видеть больше ее глаз, горло его сдавили рыдания.

Перевод Т. Каргановой-Мальян
Все служащие маленькой конторы сидели в ожидании. Они ждали не звонка своего беззвучного стража – электрических часов на стене, не гула кондиционера, за матовым стеклом которого вода как бы застыла в неподвижности. Семь мужчин и женщин ждали решения своей судьбы.
«В соответствии с программой строжайшей экономии, которая является единственным средством спасения нашей страны…» – Теофило легким движением прочеркнул пустое место на листе бумаги с отпечатанным текстом. Наверное, именно так будет сформулирован этот документ – торжественно, просто, в духе спокойного патриотизма. Никаких высоких фраз. Не то что прежде, когда в Батаане люди сидели в окопах, согнувшись в три погибели, голодные, по пояс в воде. Тогда думали о простых, насущных вещах – о вкусе ароматного адобо[38]38
Адобо – национальное филиппинское блюдо, курица или свинина с уксусом, чесноком и перцем.
[Закрыть], о чистой постели с теплым илоканским[39]39
Илоканцы (илоки) – народ, живущий главным образом на западном побережье острова Лусон.
[Закрыть] одеялом. А теперь требуется служение стране – это добровольный отказ от пищи, от крыши над головой, от спокойствия.
«Глубоко сожалеем, что непредвиденное сокращение бюджета…» – Карандаш Теофило перешел на следующую строчку. Дальше пошло нечто добродушно-доверительное, подслащенное официальным дружелюбием.
Он провел пальцем под воротничком рубашки, чтобы отделить влажную ткань от кожи. Сегодня жарко. Жарко было вчера и позавчера. Теперь нет электрических вентиляторов, комфорт стал обходиться чересчур дорого. Глоток прохладного воздуха теперь пересчитывают на песо и сентаво. А ведь есть место, где всегда свежо и прохладно, куда не долетает городская пыль. Там можно усмирить это спасительное для страны чудовище, имя которому «строжайшая экономия». В тени духатового дерева, на мягкой траве «экономия» становится пустым звуком, вымыслом, облачком в пустынной дали. Главное, чтобы был мир. Мир, мир, мир. Повтори это три раза, с мягким рокотом, с удовольствием, на одном дыхании. Но мира нет, и нет спокойствия.
Боже, думала Лаура, помоги мне вынести это испытание. В этот краткий миг между решающим словом и крушением надежды так нужна чья-то помощь. Пока еще есть надежда, можно мысленно перебирать всякие житейские мелочи, наслаждаться приятными воспоминаниями, дурманом заветной мечты. Можно выискивать утешительные мыслишки в укромных уголках сознания, согреваться теплом случайных комплиментов и похвал. И еще хоть какую-то уверенность придавали натруженные руки и способность забывать обо всем, кроме работы, которую необходимо выполнять.
А сейчас – момент агонии. Ни один из нас не знает, будет ли он уволен, надо ли начинать сначала, или можно будет продолжать прежнюю привычную, хорошо знакомую жизнь.
Наружная дверь резко открылась и тут же с шумом захлопнулась. Семь человек подняли глаза на этот звук, потом вновь вернулись к своим мыслям.
Если продать участок в Кубао, думал Берт, наклеивая адреса на конверты и запечатывая их фиолетовой печатью конторы, то на эти деньги можно отвезти семью в Бенгет или на Минданао. Говорят, в тех местах хорошо с работой и климат как раз для детей. Хорошо бы им расти в более спокойной обстановке, поближе к необузданно щедрой природе. Ведь я вырос именно так, и у меня было счастливое детство. Оно прошло у моря, которое не жалело своих даров и сокровищ. Берт вспомнил ранние утренние поездки с отцом, вспомнил, как их лодка легко скользила по еще темной воде, как стволы мангровых деревьев неподвижно чернели на горизонте, словно безмолвные темнокожие стражи. Берег был усыпан острыми выжженными солнцем ракушками. Они с отцом осторожно, нащупывая дно, входили в воду. Отец шел дальше, а сам он держался ближе к берегу, где бамбуковые шесты лодок тихо шлепались о волну утреннего прилива. Даже сейчас, в этой сонной душной конторе, Берт мог вызвать в себе ощущение запаха устриц, грудой лежавших в лодке, представить, как розовеет вода под лучами солнца. Особый аромат сырых устриц, привкус морской воды во рту – счастье, к которому всегда стремишься и которого уже нет.
А мои дети растут вдали от всего этого, продолжал думать Берт, аккуратно складывая конверты в «исходящую» проволочную корзину. Надо возродить для них чувство дома, чувство семьи. Хватит им задыхаться от духоты в баро́нг-баро́нгах[40]40
Баронг-баронг – хибара, лачуга.
[Закрыть], томиться в темных бараках, изнывать от городской суматохи и грязи. Я продам свой участок – все равно мы не можем сейчас строиться, – и мы уедем из города куда подальше. Здесь нам нечего терять – здесь нет ни счастья, ни надежд.
Во время войны, думала Кармен, на двести песо можно было купить всего один помидор, а сейчас столько стоит дом. Она сложила лист бумаги в узкую полоску и набросала: 20 песо – электричество, 40 – служанкам, 25 – прачечная. Без расходов на питание, без выплаты ссуды за дом уже получалось 85 песо. А обеды Рауля, а плата за школу, а транспорт? 450 минус 200. 250 песо на двоих взрослых (если не считать прислугу) и троих детей. Сейчас Рауль не мог надеяться на повышение, а ее 200 песо… А ну-ка отключись, перестань думать об этом, а то так недолго и спятить. Сейчас 3.15. Интересно, скоро они выяснят, кто достоин этих двух сотен в месяц, а кто их потеряет? Продолжай аккуратно писать и оставь эти мысли… 120 песо – питание. 200 песо – откуда возьмутся эти двести песо? Ну хватит, уповай на бога, он, как всегда, позаботится о нас.
Опять эта болтовня об «экономии», хмыкнул Арсенио. Это для такой мелкой сошки, как мы. Тех, кто купается в роскоши, курит большие сигары, это не касается. Это все для таких, как я, кто не подхалимничает, не пускает пыль в глаза. Нам говорят «урезайте», но урезать почему-то надо с середины и вниз, а гниющая верхушка может разлагаться на солнышке. Главное – не тронуть выжившего из ума политика, придурковатого родственника, подобострастно-самодовольного подчиненного, душечку-секретаршу. Пусть себе получают свои денежки и барахтаются в собственной грязи. Ничтожества, которые кланяются, задирают нос, улыбаются, хмурятся, ухмыляются – как марионетки. Каждая морщинка на их лицах может рассказать историю их порабощения, каждая складка на теле, каждый изгиб суставов повествуют об их неискренности и распущенности.
Как замечательно было бы вновь поверить в Идею, бороться за нее, даже погибнуть. Ты охотишься за кем-то, кто-то охотится за тобой – все лучше, чем вот так ждать, пока на тебя обрушится этот удар, и быть не в состоянии даже поднять руку, чтобы защититься.
Только взглянуть на них… Арсенио переводил сердитый взгляд с одного лица на другое… Вот Род, бледный, испуганный, готовый извиниться за каждый свой шаг, каждый вздох, вечный мальчик на побегушках, которого невозможно представить вне конторы. Мирна, воздушное кремовое создание, кокетливо, как ей казалось, а на самом деле испуганно моргающая глазами. Мартин, который не может сидеть спокойно, потому что дно стула грозит провалиться. Лаура, Берт, Кармен, Теофило – посмотри на них. Или нет, лучше не смотреть, чтобы не уподобляться им, чтобы не приходили на ум их мысли, их слова. Все-таки люди достойны лучшего, гораздо лучшего.
В коридоре послышались шаги, и все мгновенно обернулись к двери. Ручка опустилась, а когда дверь открылась, все уже сидели опустив глаза, занятые работой. Крепко сбитый человек постоял минуту на пороге, потом прошел к ближайшему столу, осторожно облокотился, прокашлялся. Служащие воззрились на него, и на их лицах появилось спасительное выражение смущения, когда в его руках, словно по мановению волшебной палочки, появились четыре запечатанных конверта, тщательно сложенных так, что видна была только наклейка на лицевой стороне.
– Этот Новый год для всех нас невеселый, – сказал человек, и лицо его омрачилось приличествующим случаю почти траурным выражением. – Вот четыре конверта, в них плохие новости для четырех наших сотрудников. Прежде чем я попрошу раздать эти конверты, хочу, чтобы вы поверили, что я не имею к этому никакого отношения. Мы всегда работали как одна семья и вместе добились успеха нашей конторы. Но обстоятельства, как вы знаете… Может быть, когда времена изменятся к лучшему…
– Хочу, чтобы вы поняли, – он заторопился, дабы преградить путь надеждам или обвинениям, – я сделал все, что мог. Но последнее слово сказали там, наверху. Бюджет сократили, и кто именно станет жертвой – не играло никакой роли. Нас призывают жертвовать, и мы в административно-исполнительном отделе надеемся, что вы откликнетесь на этот призыв и проявите должное мужество и силу духа. Вы получите возможность… – Он еще некоторое время бормотал что-то невразумительное, чувствуя себя все более неуютно под ничего не выражающими, но пристальными взглядами служащих. Закончив, подошел к двери и на ходу прошептал, обращаясь к курьеру Роду: – Сейчас только три двадцать. – Потом снова заговорил громко, чтобы его слышали все присутствующие: – До конца дня добрых полчаса. Прошу всех продолжать работу, как будто ничего не произошло и не произойдет. Конверты будут вручены соответствующим лицам без одной минуты четыре.
Дверь открылась, закрылась, и тяжелые шаги затихли на лестнице внизу.
– Пора на гольф, – вымученно пошутил Теофило.
– Или на рыбалку, – подхватил Берт. – День сегодня теплый, ясный, как раз то, что надо.
– Послушай, Род… – отважился Арсенио.
– Да ты что, – сухо вмешалась Лаура. – Род никогда не нарушает приказаний.
– Кого, как ты думаешь…
– Подари нам этот час перед гибелью, – нараспев затянул Теофило, – и пусть в нем не будет ни страха, ни надежды, ни дыхания смерти. – Арсенио горько улыбнулся, остальным даже удалось засмеяться.
Часовая стрелка беззвучно перескочила очередную цифру. Хорошие, старые электрические часы, думал Теофило, считая минуты. Их работа – чудо. Чудо самого времени, которое свято хранит тайну своего движения, и лишь тот, кто имеет мужество поднять на него глаза, узнает эту тайну. Через полчаса можно идти. Можно выйти на улицу, где мальчишки-газетчики выкрикивают сенсации вечерних газет. В их юных ломающихся голосах звучал профессиональный интерес к своему делу, который присущ лишь тем, кто вынужден жить на голом энтузиазме.
– Возьму-ка я газету, – сказал Арсенио, шаря в кармане в поисках мелкой монеты. – Хоть новости пока узнаю. – Он приподнял одну полоску жалюзи и окликнул газетчика. Через минуту он уже разворачивал газету. Все уставились на черные заголовки.
– Как вы думаете, возьмут меня опять в армию? – спросил Теофило, увидев жирные шапки военных сообщений. – У меня все-таки опыт есть.
Арсенио криво усмехнулся, но ничего не сказал. Он вернулся к своему столу. Все вновь занялись делами, раздавались привычные для конторы звуки. Нервно постукивала по клавишам машинистка, карандаш шептал что-то шершавому листу бумаги, кресло резко царапало неровный, выщербленный пол, ящики с шумом выдвигались, громко захлопывались. Но самым нежным и одновременно заглушающим все эти звуки был мягкий шелест бумаги – это Род, съежившись в своем углу, рассеянно тасовал конверты.
«Все мы, – писал Теофило, – мечтали о лучшей жизни. О жизни без войн. Ибо никакая власть не в силах взлелеять ненависть, никакое рабство не в силах убить любовь. Мы мечтали о жизни, полной маленьких чудес – раскрывающийся цветок, трепет листьев, первые крохотные движения новорожденного живого существа. Эти чудеса и есть суть и сердцевина счастья. Трубы звучат на этом маскараде как музыка, в такой жизни нет места огненному колдовству алкоголя, ей не нужен никакой дурман, ибо она сама полна глубокого смысла…»
– Подходим к роковой черте, – заметил Арсенио, но никто не взглянул на часы.








