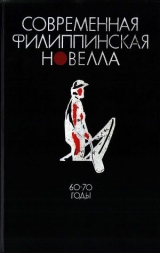
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
После этого один богатый вдовец зачастил к Эден из самого Тарлака. Потом в нее влюбился инженер, который щедро одаривал всю семью рыбой из своих прудов. Когда угольно-черные «хадсон» и «форд» останавливались у их ворот, тетушка Канденг трепеща доставала из закромов довоенные консервы, чаще всего сосиски, и потчевала соперников. Но однажды в городке оказался проездом безработный коротышка-военный, и Эден сбежала с ним. Он был простой лейтенант, и тетушка никогда не простила их. Они поселились в нашем городе, на грязной кривой улочке, и постоянно жестоко ссорились между собой. Поссорившись, Эден увязывала сковородки, подушки, матрасы и альбомы с фотографиями, хватала недельного младенца и переселялась на несколько дней к нам. В последний период оккупации ее муж ушел в партизаны, и Эден стала жить с нами постоянно.
Лина приехала позже. Дикарка расцвела, превратившись в гибкую и тонкую девушку, унаследовавшую от матери умение вести хозяйство. Впрочем, она была несколько нервического темперамента. Она постоянно плела сумки-макраме из манильской пеньки вплоть до того дня, пока на нас не посыпались бомбы. Еще она изготовила специальный широкий пояс с множеством секретных кармашков.
III
Комната моего брата была самой большой в доме, как гостиная и столовая, вместе взятые, – в доброе старое время здесь помещалась бильярдная. Из этой комнаты, в которой стоял рояль, был выход на террасу. Здесь часто собирались друзья брата – Сельсо, Пакито и Нононг, задумавшие издать небывалую книгу стихов. У отца Сельсо был допотопный печатный станок, ржавевший без дела; друзья заволокли его в комнату и колдовали над ним, пытаясь заставить его работать.
Рояль выиграл в лотерею дядюшка Нононга, начисто лишенный музыкального слуха. Он был настолько глух к музыке, что единственным музыкальным произведением, которое он был способен узнать, был национальный гимн – при его исполнении все вставали. И затрат-то всего – расходы на лотерейный билет и транспорт, а Нононг получил на день рождения слегка подержанный, но прекрасный «Стейнвей» вместо давно желанной книги. Комната Нононга оказалась слишком мала для рояля, потому инструмент и дряхлел в комнате Рауля. Мама никогда не запрещала мальчикам тащить все в дом, лишь бы они ничего не выносили на улицу.
Порой они вставляли свечи в бутылки, и мой брат Рауль до глубокой ночи читал Библию. Они называли меня своей музой и позволяли мне слушать их стихи – ведь я читала Дикинсон и Марло[55]55
Эмили Дикинсон (1830–1886) – американская поэтесса. Кристофер Марло (1564–1593) – английский драматург, предполагаемый соавтор Шекспира в некоторых ранних пьесах.
[Закрыть], что, конечно же, укрепляло мой авторитет, а кроме того, меня можно было послать за сладким или за еще одним стулом. Пакито умел играть на рояле «Звездную пыль», Сельсо – показывать шутливые пантомимы, но больше всех мне нравился Нононг – он умел все. Он подарил мне волшебный карандаш, который предохранял от чего угодно; до войны такие давались в придачу к карточке с предсказанием судьбы. На рождество я подарила ему носовой платок, вышив на нем его инициалы.
Нононг всегда старался сделать из меня интеллектуалку. Те немногие книги, что я прочла, – «Отверженные», «Расёмон», «В дебрях Африки» – принес мне он. Я перерыла книжный шкаф отца в надежде отыскать что-нибудь достойное послужить ответным даром, но моей добычей оказался лишь четвертый том энциклопедии «Британика» – от Иоанна Крестителя до леггорнов[56]56
Леггорны – порода яйценоских кур.
[Закрыть].
Я прочла довольно многое из того, что Нононг, можно сказать, впихивал в меня, но больше всего понравился мне как раз тот четвертый том «Британики» от Иоанна Крестителя до леггорнов.
Однажды, после того как мы навестили друга, а Рауль не мог проводить меня домой – мать запретила мне возвращаться одной, – проводить меня отправился Нононг. Мы шли по улице и хохотали: уличные фонари не горели, и велосипедисты шарахались из стороны в сторону, не разбирая дороги.
– Давай зайдем к тебе на службу, Нононг, – сказала я, – и ты возьмешь книгу, которую обещал мне.
– Хорошо, – ответил он, – хотя пригодного чтения там осталось совсем мало – бюро цензуры уже вымарало все лучшие страницы и картинки.
– Ну и прекрасно, – молвила я, махнув рукой с тем скучающим выражением, которое подсмотрела у одной кинозвезды. – Все лучше, чем медленно погибать от скуки.
– Ты одинока, Виктория?
– Нет, – ответила я с вызовом, зная, что сказала неправду.
Мы продолжали идти по улице.
Повернули к ступеням его офиса на улице Р. Идальго, над которым виднелась японская вывеска. Задняя часть здания была разрушена бомбой, но никто не потрудился расчистить обломки. В эту ночь было объявлено затемнение, и в здании царила полная тьма. Мы на ощупь поднялись по лестнице и вошли в комнату. Пять письменных столов, дальний – стол Нононга, под электрическим вентилятором. Нононг открывал каждый ящик и рылся в его содержимом.
– Это где-то здесь, – сказал он.
Я вышла на крошечный балкончик и смотрела вниз на пустеющую улицу. Через четыре дня рождество. Бумажные фонарики висели почти на всех окнах, но ни один не зажегся; они покачивались, печально дрожа, на холодном ветру. Я устала от войны. Мне хотелось, чтобы Нононг обнял меня и поцеловал и всегда любил бы, но я знала: стоит ему позволить себе большее, чем коснуться моей руки, как я дам ему пощечину и никогда не заговорю с ним. Он молча стоял рядом, опершись на подоконник, и я видела вены на его руках. Под нами был совершенный мрак.
– Кем ты собираешься стать после войны, Нононг?
– Хм… писателем, я думаю, или бездельником, или кем-нибудь еще. Мне хотелось бы купить дом на вершине холма и прожить там в одиночестве всю жизнь.
– А если кто-нибудь полюбит тебя?
– Да кто же сможет полюбить меня, глупышка!
Я посмотрела снизу на гордый профиль, гравированный на темном фоне, тонкий, прекрасный, аскетический, словно лик Христа.
– Святое небо, Нононг, – сказала я, – ты похож на божество!
– Не богохульствуй, Виктория, где же воспитание монастырской школы? – Он улыбался. – Я нашел книгу, можем идти.
Мы опять прошли на ощупь по коридору к лестнице – внизу была дверь, освещенная закопченной лампочкой.
Мы – потерянное поколение: мой брат Рауль и его друзья были уже не мальчиками, но еще и не мужчинами, они были людьми без места, без работы, и они мотались по улицам, забыв об отдыхе, лишь бы отыскать какое-нибудь дело. Отец затеял производство керосиновых ламп, и мальчики помогали ему по утрам – резали стекло, разбивали молотками оловянные бидоны, формовали их по шаблону. Но вторая половина дня оставалась свободной. Нононг и я научились отставать после церкви и гулять, грызя жареные орехи, если бывали вдвоем. Иногда я ходила вместе с их компанией в «Фармацию де ла Роса», там можно было заказать пломбир из свежего молока. Хозяйка объясняла нам, что молоко каждый день везут из Пампанги, минуя четыре заставы, потому оно так дорого. Порой мы отправлялись в «Туго и Пуго» на представление, там можно было купить час смеха, чаще же, взяв напрокат велосипеды, катили на окраину, где нас никто не знал, поглядывая через заборы на японские казармы, над которыми развевались флаги с восходящим солнцем.
Однажды я сказала матери, что вечером придет Нононг и я приглашу его к ужину. Я трудилась над пирогом из кассавы у раскаленной печи. Лина была замечательным поваром, но я считала ниже своего достоинства просить ее помощи и советов. На ужин были свежие пресноводные сардины из Батангаса и прекрасная ветчина, приготовленная мистером Соломоном. Прошел уже час, как наступило время ужина, а Нононга все не было. Когда мы все-таки сели за стол, никто ничего не сказал, кроме Бони, который опоздал и, глядя насмешливо на лишнюю тарелку, открывал и закрывал рот, как рыба на песке.
Лил дождь, когда появился Нононг, пахнущий пивом, опоздавший на три часа и виноватый. Я уже убрала тарелки и пирог из кассавы, над которым трудилась полдня, и все еще злилась. Он поместился в широкое кресло из камагонгового дерева, я села напротив, между нами – только ваза с цветами. А потом мы уставились друг на друга и замерли. Мы чувствовали наши сердца, понимали, что в них взрастало нечто – месяц за месяцем, независимо от нас самих, без нашего участия. И словно в печали оцепенения я вымолвила просто:
– Ты мне снился прошлой ночью. Ты сидел на стуле, а я – на полу, обнимая твои колени, и я сказала: «Я люблю тебя», а ты ответил: «Хорошо бы ты сумела справиться с этим».
Он протянул руку и коснулся моей руки, и я отдернула руку. Но через минуту мы опять потянулись друг к другу, и я плакала в его ладонях, а он говорил: «Помоги мне, я так несчастен». А потом мы услышали шарканье ночных туфель, это Эден шла в столовую, чтобы открыть банку с молоком для малыша, и я сказала ему, чтобы он уходил и больше не возвращался никогда.
17 февраля Нононг позвонил мне. Мы долго болтали о том, о сем – о множестве бессмысленных вещей. Потом, уже незадолго до того, как японцы отключили телефон, я услышала его голос на другом конце провода, произнесший отчетливо и нежно: «Выслушай меня и запомни, Виктория, я люблю тебя». И это был единственный раз, когда он сказал мне это.
IV
Мы бежали на церковный двор, но даже здесь лучше всего было бы зарыться в землю. Наш дом сгорел, и Бони получил ожоги, пытаясь спасти мистера Соломона, который впал в панику и никак не мог выбраться из своей запертой комнаты. Отец и Рауль несли Бони на одеяле, превращенном в подобие гамака. Лина и я шли рядом – она нацепила тот знаменитый пояс, в который запрятала все свои богатства, и волокла еще шесть плетеных сумок, набитых одеждой. Я несла любимое платье, подушку и бутылку с чистой водой. Следом шла Эден с двухмесячным ребенком на руках. Последней – мама с котлом вареного риса и кусками жареной свинины. От Тафт-авеню ясно был виден берег с разрушенными до единого зданиями. Японцы заперлись в Колизее имени Рисаля[57]57
Один из крупнейших спортивных залов в Маниле, названный в честь Хосе Рисаля (1861–1896), национального героя Филиппин, ученого, поэта и писателя, казненного испанскими колонизаторами.
[Закрыть], и было слышно, как оттуда с воем вылетали снаряды и взрывались где-то далеко.
Три самолета с ревом снизились прямо над нами. Дрожа, мы с Линой забились в убежище, куда уже забился китайский консул с семьей, но они выразили недовольство нашим вторжением в их тесное пространство. Мама бросилась к другому убежищу и выскочила оттуда, крича, что там человек с наполовину оторванным лицом. Мы слышали, как Бони там, наверху, молил не бросать его… Потом мы разбежались в разные стороны.
Вскоре мы каким-то образом все опять оказались вместе. У отца был план: пробраться на юг, в Пасиг, спасаясь от снарядов, долетавших с севера. Они с Раулем подняли Бони и понесли. В панике я потеряла туфли и осталась босиком. А в убежище я забыла свое любимое платье. Когда снаряды стали падать рядом с нами, мы бросились на землю, зажимая пальцами уши, но все равно слышали их пронзительный свист и страшные крики раненых. После одного из налетов, длившегося дольше других, мы выбрались из убежища, и тут оказалось, что Бони куда-то исчез. Позднее говорили, будто его видели в толпе на Тафт-авеню.
На пути в Пасиг мы заскочили передохнуть в дом Авельяны, единственный сохранившийся в Малате[58]58
Малате – район Манилы.
[Закрыть]. Японский снайпер открыл огонь, и мы укрылись в развалинах, пробравшись между мертвыми и ранеными. Один Рауль сохранял хладнокровие. Он забрал у мамы котел с рисом, и, когда мы падали на землю и рис просыпался, он собирал его, отряхивал грязь с кусков свинины – и все это непринужденно, с шуточками. Он захватил с собою четки и не расставался с ними, повторяя, что, если ни с кем из нас ничего не случится, он сделается священником.
Мы спустились в разрушенный подвал и обнаружили там группу бьющихся в истерике метисов. Дочь сеньоры Бандана, подруга Лины, сообщила ей, что подвал все время под пулеметным обстрелом и поэтому необходимо перебраться в бетонный гараж, где спряталась вся ее семья. Лина ушла с ней. Мы верили в свою удачу и остались. Устроились поудобней, сделали по маленькому глотку воды из бутылки, но до еды никто не дотронулся. Ребенок Эден, сосавший грудь, оказался в крови, и она плакала, роняя слезы ему на лицо. Несколько минут спустя появилась Лина, одна. Она была вне себя. В гараже, куда они с подругой направлялись, взорвалась граната, и она видела, как вся семья Бандана и ее подруга погибли.
Мы бежали, не думая о цели. Наконец мы нашли высокую бетонную стену, возле которой несколько железных листов образовали нечто вроде убежища; правда, от каждого движения листы громыхали, выдавая наше присутствие. Несколько японских солдат впали в безумие: штыками они тыкали в развалины всюду, где им чудился какой-нибудь шорох. Рауль сжал голову руками и посапывал как младенец. Мы слышали, как поблизости ходит японский солдат – его кованые сапоги тяжело стучали по камням. Ребенок Эден захныкал. Эден дала ему грудь, но он не взял – молока у нее давно уже не было. «Успокой его», – прошипела мать. Шаги приближались, потом замерли. Мы услышали, как щелкнул затвор. Потом шаги раздались опять, направляясь к канаве напротив нашего убежища. Теперь ребенок захныкал всерьез. «Размозжить ему голову бутылкой», – предложил кто-то. Бутылка оказалась в руке отца. Он поднял ее для удара и опустил – схватило живот. Потом он попытался стиснуть тонкую детскую шейку, но пальцы у него сделались слабыми, точно из ваты. Солдат был уже совсем рядом. К счастью, ребенок на минуту затих.
Когда шаги стали удаляться, все разом заговорили. «Уходи, Эден, – сказал отец, – уходи с ребенком и спаси нас. А может, ты и сама сумеешь спастись». Эден медленно вылезла наружу, произведя адский грохот листами железа. Через минуту она вернулась. Молча протянула ребенка отцу, словно совершала жертвоприношение. Японец возвращался. Лина бормотала проклятия, шагая взад-вперед, то садясь, то вставая. «Я сделаю это! – закричала она. – Дайте мне!» Она выхватила подушку, которую я несла все это время, и прижала ее к лицу младенца. Потом она села на подушку, села тяжко, всем своим весом. Мать, онемевшая, уставилась в землю, зажав руки между коленей. Под подушкой послышался задыхающийся плач. Лина медленно поднялась, кусая ногти. С ней произошла истерика, и папа дал ей пощечину. Эден взяла на руки мертвого ребенка и принялась его баюкать.
Мы уснули в изнеможении. Смолк грохот шагов. Взошла луна, ясная и светлая, словно обещание другой жизни, и через какое-то время мы смогли выйти наружу. Несколько человек с деревянной тележкой, груженной горшками, сковородами, матрасами и узлами, тащились мимо. «Американцы уже здесь, – сообщили они. – Пришли по мосту Санта-Крус». Отец пересчитал нас. Бони нету, мистера Соломона нету. Эден не найдешь. Оглянувшись назад, мы смогли разглядеть сквозь скрученные стальные балки рухнувших домов одинокую фигуру среди развалин.
– Возможно, она вернется, чтобы похоронить ребенка, – сказала мама.
– Надо идти, – промолвил отец. – Она догонит нас.

Адриан Э. Кристобаль
ПИСЬМО ЭМИГРАНТУПеревод И. Подберезского
I
Вместе с письмом я получил твою новую книгу. Отрывки из нее мы читали на нашей встрече. Что говорить – здесь это настоящее событие. Лет пятнадцать назад все написанное тобою только раскололо бы нас: одни называли бы тебя шарлатаном, другие провозгласили бы гением. Сейчас по-другому: все согласны, что ты гений.
Что ж, можешь ты сказать, давно пора. Но ведь пятнадцать лет не такой уж большой срок… После чтения начались воспоминания, посыпались вопросы. «Предположим, – спросил меня кто-то, – он остался бы здесь. Смог бы он написать эту книгу, да и другие?» Я ответил, что ты был бы писателем где угодно. Один из наших любителей путешествовать на иностранные денежки высмеял мой «романтический идеализм»; он объявил, что все дело в эмиграции: гений не может произрастать в пустыне.
А пустыня, конечно, – наши острова, где ничто живое расти не может. Пятнадцать лет назад я пожал бы руку за такие слова, но ведь пятнадцать лет я жил в этой пустыне и проклинал ее… И я изменился. Нет, я не потерял способность возмущаться, просто я научился видеть в пустыне ростки жизни. Даже камень несет в себе нечто неповторимое, даже из репы можно выжать кровь. Главное – не отчаиваться.
Не усмехайся – я сумею объясниться и защитить себя. Ты чувствовал, что был не нужен: ты уехал. Я восхищался твоей смелостью и завидовал твоим возможностям; ты заставил меня обещать, что скоро я последую за тобой, и я охотно обещал. И вот прошли годы, а я все еще здесь, хотя я, как и ты, не чувствую, что здесь у меня есть корни. Но в отличие от тебя я не мог стать выше своих обязательств. Я не стараюсь быть слишком умным, и, может быть, именно в этом и состоит разница между гением и талантом.
Если хочешь, можешь попробовать сбить меня с моих позиций одной из твоих жестоких сентенций: например, что долг – последнее прибежище неудачника, как патриотизм иногда бывает последним прибежищем подлеца. Мне не удалось сделать крылья и улететь, как ты советовал, у меня не было храбрости Икара – в этом суть. Но дело в том, что теперь меня не так легко сбить с толку. Тут все просто: я пытался и не мог, не мог сам отправиться в изгнание. (Меня надо вышвырнуть, сам я не пойду.)
Что до тебя, то ты совершил свое печальное действо – ты уехал. Ты писал, что наслаждаешься свободой, наконец-то можешь выразить себя. Ну а мне приходилось молчать. Почему я осужден пребывать здесь? Это же оскорбление. Ахилл, униженный Агамемноном, скрывается в своей палатке и отказывается воевать за возвращение Елены… Я, как и многие другие, был оскорбленным Ахиллом (пользуюсь этим образом и как лозунгом, и как щитом), разговаривал только с Патроклом, а кончил тем, что говорил сам с собой. Так бывает со всеми, кто замыкается в узком кругу.
Я бы так и остался в положении Ахилла, если бы мне не пришли на память твои же слова о нем, сказанные в веселую минуту: «Наверное, он был прав, стараясь укрыть уязвимую пяту!» Иронично, но факт: слова эмигранта заставили меня задуматься и в конце концов привели к прямо противоположному выводу. Отъезд – разве это не способ укрыть уязвимую пяту? Да, конечно, не так уж трудно покинуть пустыню ради горных высот, но ведь и горы могут быть пустынными. Конечно, это требует смелости – жить высоко, жить высокомерно, но тут еще есть вопрос о принадлежности (в конце концов, пустыня-то наша). И этот уход со сцены мы называли абсолютной преданностью искусству!
Неизбежно кто-то должен был спросить: сколько предательства по отношению к человеку кроется в абсолютной преданности искусству. Я сам всегда отказывался осуждать современность, ссылался на то, что я пишу для всех времен – все говорят, что стараются писать как можно лучше и не думают о современности. Но ведь еще Гёте говорил, что всякий человек призван оказывать влияние на настоящее.
Конечно, мы никогда не признавали эту простую истину. Мы не оказывали влияния на настоящее. Даже не пытались.
Мы с презрением относились к запросам общества, потому что оно было безразлично к нам.
Теперь я знаю, что Ахилл был не прав; дело не в той женщине, которую взял себе Агамемнон, дело в Елене. Ее нельзя вернуть без сражения с троянцами, а может быть, и со всеми греками.
II
Во все времена лишь немногие создавали красоту и искали ее, остальные должны были просто принимать ее: их принуждало к этому либо время, либо просвещение. Именно поэтому художник всегда стремился адресоваться только к избранным; предполагалось, что силой своего искусства он растворяет прошедшие века и век нынешний, религию, политику, способы мышления и превращает их в архетипы и идеи. Что ж, если мы ограничимся тем, что будем следить исключительно за пульсацией собственной аорты, мы избавимся от выполнения большей части долга. И то, что случилось с нами – с теми, которых ты оставил, – может быть суммировано в образе человека в башне: его едва слышит толпа и не понимает… а может быть, его отверг сам бог, который не слышит вовсе.
Соблазнительно создать из этого образа героическую драму об одиноком и гордом художнике, отвергающем время и отвергнутом им. Впрочем, слово «героическую» лучше убрать – оно применяется только к тем, кого распинает толпа, не принимающая дара; тогда как в нашем случае все по-другому – мы ничего не предлагаем. Единственный дар – это отчуждение, которое принимает сам художник… Перспектива принять страдания от руки ближних вызывает в нем отвращение.
Отсюда печать на всех творениях искусства: изыдите, филистимляне! Искусство, призванное доказать, что оно не враг человеку, начинает с того, что создает врагов.
III
Но все это слишком космично, а я хотел объясниться, не прибегая к теологии. Говоря просто – я освободился от тебя.
Ты был первым голосом нашего поколения. Так уж мы были устроены тогда, что предпочитали монологи диалогам. Никто не выступил против твоего решения покинуть пустыню. Когда ты объявил, что искусство лежит по ту сторону добра и зла, я первый произнес «селям». Забудьте все, есть единственная реальность – Слово.
А наша страна была лабиринтом – сделай себе крылья и лети в экстазе свободы. Но ведь это не что иное, как социальное безразличие, варварство, политический оппортунизм, то есть все то, чем так страдает наше общество. А в самом конце лабиринта – Минотавр, пожирающий людей. И вот Икар, эта чувствительная душа, которая не может пробираться лабиринтом, должен улететь… Икар, конечно же, сошел с ума.
И когда настала очередь Тезея, Минотавр все еще был там. Тезей убил его и нашел путь назад с помощью нити Ариадны. Это ведь тоже способ освободиться, куда лучший…
Извини: мне самому надоели примеры из классики, я их использую, чтобы ты лучше понял меня. Начать с того, что здесь у нас никто не может уподобиться Тезею по той простой причине, что нить, связывающая нас с прошлым, слишком коротка. Это-то и приводит в отчаяние: мы не можем найти выход из лабиринта, ступая по собственным следам. Впрочем, некоторые думают, что у нас есть нить Ариадны – в виде заимствованной культуры, прежде всего испанской. И тогда нужен не Тезей, а Лам-анг[59]59
Лам-анг – герой одноименного эпоса илоканцев.
[Закрыть] – у него хватит силы разрушить лабиринт; или смекалка Хуана Ленивого[60]60
Хуан Ленивый (Хуан Тамад) – излюбленный персонаж филиппинских народных сказок.
[Закрыть], которая, если ее применить с умом, может превратить и сам лабиринт, и чудовище во что пожелаем.
Прощай, Икар!
IV
Первый принцип любого творческого акта – превратить тьму в свет.
Но мы нация бастардов, у нас слишком слабый голос. Кто мы? Никто. Что ж, признаем наше банкротство – признаем вплоть до того, что у нас нет ничего, что стоило бы спасать. Но ведь признать это – значит уже сделать шаг вперед.
Такое признание требует строгой дисциплины. Мы должны отказаться от всех поверхностных определений. Мы не дети Испании и не дети Америки. Мы, строго говоря, побочный продукт завоевания.
И если нечего спасать, то все надо создавать. Мы должны создать самих себя.
Я писатель, и мой долг – создавать образы, взывать к миру, находящемуся вне той тюрьмы, в которую я сам упрятал себя, стараясь выбраться из лабиринта. Значит, надо вернуться в пустыню.
А пустыня совсем не изменилась с тех пор, как ты уехал, разве что стала еще бесплоднее. Вовремя отказавшись от попытки бежать в изгнание, я усвоил кое-какие уроки жизни и борьбы в пустыне. А этому предшествовало осознание того, что мы абсолютно не понимали пустыни, о которой столько говорим.
V
Твоя страна, твоя пустыня не отвергала тебя – тебя отвергло развращенное общество, и ты его отверг. Ты отождествил – как и я тогда отождествлял – бесплодное общество со страной, которую и тебе, и мне еще только предстояло открыть. Я знаю: ты любил свою страну, но ты ее просто не видел.
Чем же еще объяснить ностальгию, которой ты страдал в первые годы изгнания? Ты пытался говорить о ней спокойно, словно невзначай, писал о том, как тебе не хватает адобо, – как будто твоя связь с нами, со мною, была делом вкуса. Это было так не похоже на тебя – писать об адобо и тубе[61]61
Туба – пальмовое вино.
[Закрыть], но ведь смутное чувство связи с родиной должно было найти выход. Так, не имея отца, ты становился своим собственным патриархом. Это был подвиг, подвиг героический и отчаянный, и, может быть, в этом лежит суть твоего гения. И ты ведь не сумел убежать: подобно тому как извращение находит выход из сферы подсознательного, так родные мотивы окрашивали каждую строчку, которую ты писал. Ты говорил нам, ты был с нами – голос без тела.
Да, ты голос без тела, голос невидимого поколения. А сейчас это поколение и его первенцы ищут тело, готовы создать его любой ценой. Время описательства – пустого и ненужного – прошло.
Ты последний изгнанник. Отныне изгнанников больше не будет – будут только дезертиры.
VI
Все это, скажешь ты (я почти вижу твою улыбку), чрезвычайно благородно, очень подходит к случаю. Как мне удастся разрешить практические литературные проблемы, с которыми неизбежно столкнется подобное благородство? Ведь всегда есть угроза скатиться к пропаганде, к социальным нравоучениям.
Да, риск есть, хотя часто пропаганда необходима, чтобы избежать незначительности. Невозможно отрицать, что в моих ранних вещах, да и у других тоже, нельзя узнать, где происходит действие. Я не устану повторять, что Мальро, положив начало «литературе баррикад», не утратил «универсальности», а ведь его вдохновила китайская революция. Да, он всего лишь прокомментировал социальную обстановку, но ведь тем самым он описал человеческие условия: собственно, «Человеческая судьба» вначале называлась «Человеческие условия». И когда китайская революция изживет себя, «Человеческая судьба» все еще будет трогать нас, а может быть, китайская революция сохранит свое значение как раз благодаря «Человеческой судьбе».
Лучшее, что мы можем сделать для человечества (если писатель тешит (себя столь великой надеждой), – это быть преданным каждому человеку, с которым мы встречаемся. А эти люди, уж конечно, не живут в изоляции от тех сил, которые формируют и калечат их. Где эти люди? Здесь, дома. Поместить их всех без разбора в искусственно нами созданную вселенную, где они только делают детей и якобы не ощущают воздействия ни политики, ни этики, ни законов (то есть не ощущают воздействия общества), – это означает в лучшем случае быть преданным искусству за счет предательства человека. Отделять человека от искусства – безумие, так можно прийти к маркизу де Саду, но не к подлинной литературе. (Конечно, ты можешь сказать: я хочу писать, просто писать, не обязательно большую литературу. Но я убежден: если ты отвергаешь любые «практические» обязательства, ты тем самым утверждаешь за собой особые привилегии, а это не что иное, как потуги на величие. Человек скромный всегда принимает обязательства.)
Задача писателя становится ясной: быть верным своему происхождению, своему народу. Анна Каренина, Гарен, Ахав, Касторп прежде всего русские, французы, американцы, немцы. И только поэтому мы узнаем в них человеческие существа. Они не похожи на наших карикатурных героев, взятых неизвестно откуда, вне связи со временем и пространством.
Нам пора отказаться от спиритических сеансов; страна, народ, общество – вот те реальности, которые стоят перед человеком. И мы сами творим эти реальности, как мы творим образы, с помощью которых общаемся с миром. Иногда наше слово должно быть разящим оружием, а не только изящной безделушкой, помогающей провести праздные часы. Нельзя же, если на то пошло, умирать полным невежей, как тот осужденный, который молил палача: «За что меня казнят? Ведь я никогда не занимался политикой». – «Как раз за это», – ответил палач и опустил топор.
VII
Нет, не произноси слово «национализм» с презрением, с каким ты отзывался о всех доктринах. Искусство, не связанное с жизнью, – тоже доктрина.
Европейская история дает нам длинный список художников, которые активно вмешивались в жизнь отнюдь не в ущерб своему искусству; в нашей собственной истории тоже были такие люди, и мы многим обязаны им. Искусство вовсе не такое уж нежное, оно не растворяется, если в него впрыснуть немного крови…
Для простой декларации я наговорил слишком много. Говорить дальше – значит увековечивать социальное безразличие и погоню за призраками… Всегда останутся личности, которые будут гордиться своими непризнанными индивидуальностями как орденами; особая раса мастурбантов, верящих, что они взывают к человечеству, тогда как взывают они только к самим себе. Да, вы редки, вы уникальны, у вас есть талант – стадо святых отшельников всегда полагает, что у него есть талант. С сожалением должен признать, что сам я отнюдь не настолько уверен в своей гениальности, чтобы с презрением отзываться о стремлении приносить пользу.
Я родился в этой стране недаром.









