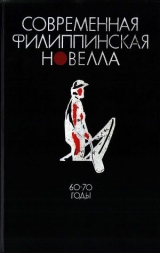
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)

Перевод И. Смирнова
Бог свидетель, мне отвратительно зрелище насилия. Но действительно ли насилие невыносимо для меня? А может быть, невыносима правда?
– Они сложили эти саманные блоки в ряд на лужайке между нашими домами, – сказала Белл.
– Да, знаю, – сказал я. Потом подошел к окну и остановился, глядя на их дом. Оттуда отчетливо доносились громкие звуки пианино. – Я был здесь утром, когда он привез эти блоки. – Рубашка сделалась влажной от пота, и я разделся. – Он сделал три ездки и каждый раз привозил полный багажник. Ему помогали трое парней. – Я помахал рубашкой и прошел в свою комнату. – Я даже знаю, где он их раздобыл. На стройке рядом с инженерным училищем. Там этих блоков навалено – с пирамиду Хеопса. Да ты их видела! Они хорошо заметны из автобуса. – В моей комнате звуки пианино уже не столь отчетливы. Белл вошла следом.
– Они проводят границу, – сказала она. – Они обозначают рубеж.
Я повесил рубашку на спинку кресла.
– Вот именно, – сказал я, – вот именно. – Майка тоже мокрая. Я снял и ее.
– Все идет к тому, что они поставят забор, – сказала Белл.
– Заборы создают добрых соседей, – произнес я. Достал из шкафа зеленое полотенце и тщательно вытерся.
– Это будет что-то вроде Великой китайской стены, – буркнула Белл.
– Ну, вряд ли, – протянул я. – Зачем же так сразу… – Засунул полотенце обратно в шкаф. Поискал глазами сухую майку – ничего похожего. Пришлось отправиться в спальню, там моя гардеробная. Белл пошла следом. В гардеробной нет света. Все никак не можем сменить лампочку, которая перегорела вскоре после нашего переезда. Я рылся в белье на ощупь. В темноте гардеробной звуки пианино опять сделались настойчивыми, сильными, отчетливыми.
– Она ведь не турчанка, что это она все время играет турецкий марш? – сказала Белл.
Я знал, где лежат мои майки, и быстро нащупал их. Вытянул одну и напялил ее на себя, пока шел обратно в комнату.
– Это невежливо, не по-соседски, это просто некрасиво, – продолжала Белл.
Я остановился в узком освещенном коридорчике, ведущем из спальной в гостиную, как раз возле ванной – одна рука в рукаве, а голову я силюсь продеть в узкую горловину рубахи, помогая себе другой рукой.
– Что ты сказала? Я не расслышал. – Я уставился на Белл.
Белл повторила.
Наконец я протиснулся в узкий ворот рубахи, всунул вторую руку в рукав. Прошел в гостиную. И едва коснулся спинки шезлонга, почувствовал, что безумно устал.
Белл придвинула низкую скамеечку и устроилась возле моих ног.
– По меньшей мере они могли бы сначала предупредить нас.
Утомленный, я прикрыл глаза и промолчал.
– Ты не считаешь, что это их долг? – спросила Белл. – Разве просто из уважения к нам они не должны были выяснить наше мнение о заборе?
Звуки пианино вплетались в ее слова как своеобразный лейтмотив.
– Что ты сказала? – переспросил я.
– Они не уважают нас, – повторила Белл. – Их не беспокоит, что мы подумаем. Что им до нас! Они и за людей-то нас не считают!
Слова ее звучали на фоне ликующих звуков пианино.
– Ну, Белл, зачем же ты так?
– А ты не думаешь, что они должны были хотя бы прийти и сказать: так, мол, и так, мы проводим эту границу, вот ваш участок, вот наш – точка! – возмутилась Белл.
– Ты полагаешь? – уточнил я.
– Я – да! Именно так я и полагаю! А ты разве нет?
– Я, право, не знаю, как-то не задумывался об этом, – пробормотал я.
– Тогда начинай задумываться прямо сейчас. Самое время.
Мне было интересно, почему ее слова вдруг зазвенели так пронзительно. Оказывается, умолкло пианино. И установилась ночная тишина, и улегся ветер.
Я встал с шезлонга. Подошел к приемнику, включил его в сеть и открыл крышку. Белл последовала за мной. Я покрутил ручку настройки, ища музыку. Белл протянула руку и захлопнула крышку.
– В чем дело, Белл? – удивился я.
– Да ни в чем.
– Тогда перестань. Оставь в покое и их, и меня.
Белл помолчала, потом произнесла:
– Это она.
– Что она?
– Мне кажется, она не любит меня, – промолвила Белл.
– С чего ты это взяла?
– Я дарила ей подарки – они ей не нравились. В последний раз на день ее рождения я подарила ей сыр – она даже не поблагодарила!
– Да зачем ты вообще приплела сюда подарки?! Может быть, она ненавидит сыр! А может, сыр в день рождения – глупо?!
– Она терпеть меня не может, – твердила Белл. – Как и всякого, кому я нравлюсь. Когда он подарил мне цветы из ее сада, вряд ли ей это пришлось по душе.
– Ну, это мало кому понравилось бы, – сказал я. – Затея с цветами – не самая удачная, как и с сыром.
– Он попросту дружески симпатизирует мне, а я – ему!
– Ну разумеется. – Я не стал спорить.
– Он вел себя по-добрососедски – я верю в такие взаимоотношения!
– Да, да, конечно, – поддакнул я.
– А она не хочет себя так вести и не верит в добрососедство. Вот и ему не позволила!
– Белл, – взмолился я, – но ведь я их совсем не знаю. Это твои знакомые.
– Нет, и твои тоже! Ты иногда катался с ними на автомобиле!
– Только однажды! – Я принялся оправдываться. – Я сидел на переднем сиденье, а она, выходя из машины, хлопнула его по заду. Это и был первый и последний раз!
– И что же, тебя этот ее шлепок возмутил?
– Ну, это их дело. Мне только не понравилась некоторая нарочитость: она словно бы дала понять – он мой, а я – его.
– А то, что она разгуливает по саду в безобразно коротких шортах, – это, по-твоему, не нарочитость?! – вспылила Белл.
– Мне все это не по душе. Но не я же придумал переезжать сюда, – сказал я.
– Ты тоже! Ты и я – мы оба!
– Разве не он привез тебя сюда впервые взглянуть на эти дома?
– Он сам хотел посмотреть свой будущий дом, а меня подвез просто из любезности!
– И во второй раз – из любезности, и в третий?
– Но мы же собирались поселиться рядом! – доказывала Белл.
– В этом квартале – сорок домов. Почему мы выбрали именно этот, рядом с ними?
– Это столько же мой выбор, сколько и твой! – настаивала Белл.
– Ты права, – согласился я. – И теперь ничего поделать нельзя.
– Да, ничего не поделаешь.
– Вот и прекрасно. И отстань. Отстань от них и отстань от меня.
– Но ты обязан что-нибудь предпринять! – заявила Белл.
– Я?
– Да, ты. Они не так ставят этот забор: он ближе к нашему дому, чем к их. К ним отходит большая часть лужайки!
– Неужели? – Я подошел к окну. Было еще достаточно светло, чтобы в призрачном свете можно было различить злополучную границу. Видны были и цветы – розы, циннии, георгины, – они пылали во мраке. Я вернулся в кресло, поглядел на стенные часы. Четверть девятого. Бой часов раздался в тот момент, когда я опустился в шезлонг. Ноги я положил на скамеечку.
– Им досталась большая часть лужайки, – повторила Белл.
– Может быть, она нужна им под цветы? – спросил я.
– Они разделили ее нечестно! – твердила Белл.
– Ты хочешь сказать, что две половины не равны? Что это, в сущности, вовсе не половины?
– Что с тобой? – удивилась Белл.
– Со мной? С ним! Разве не он – доктор математики? Нечего сказать, хорош доктор математики, не умеющий делить пополам!
– Какая муха тебя укусила?
– Может, ему требуется полк землемеров с теодолитами, отвесами и вешками?! Может, тогда он сможет разделить их пополам? Может, он и на десять частей будет тогда в силах разделить?! – Я бушевал.
– Мне-то ты зачем все это говоришь? – возмутилась Белл. – Скажи ему! Скажи им!
– Слишком громко пришлось бы кричать.
– Давай, давай! Выскажи им все! Пусть знают! – Белл подзадорила меня.
– Отстань, Белл, – промолвил я. – Оставь их в покое!
– Пожалуйста, если ты хочешь.
– Отстань от меня!
– Как хочешь, – сказала Белл. – Могу хоть сию минуту! – И двинулась к двери.
– Слишком громко пришлось бы кричать, Белл, – примирительно сказал я. – Да и знаю я их недостаточно, чтобы вообще с ними говорить. Лучше я напишу им.
– Вот и отлично! – согласилась Белл.
Портативная пишущая машинка в специальном чехле стояла под моей кроватью. Я водрузил ее на обеденный стол. После этой операции мои руки оказались покрыты слоем пыли. Я поднял крышку, но не сумел снять машинку с подставки. В углах крышки пауки свили паутину. Между машинкой и краями подставки – тоже паутина. Во всем доме не нашлось ни листочка белой бумаги, поэтому мне пришлось использовать лист желтой почтовой бумаги подходящего размера.
Дату я решил не ставить. Письмо должно быть коротким и сугубо деловым. Как зачарованный я следил за рычажками, сновавшими взад и вперед, оставляя черные значки на желтой бумаге. До меня донеслись вступительные такты «Женитьбы Фигаро» – у соседей включили проигрыватель.
– Математика и Моцарт, – пробормотал я. – Моцарт и математика.
Я напечатал свое имя, но не подписался. Письмо заняло меньше половины листа. Я перегнул лист пополам и оторвал чистую половину. Ее я вставил обратно в машинку, а письмо отдал Белл.
– Вот, – сказал я, – коротко и ясно. Думаю, им понравится.
Белл принялась читать. Молча дочитала до конца.
– Ну как? – поинтересовался я.
– Сойдет, – сказала Белл.
– Так отправь его, – сказал я.
– Хорошо. – Она позвала Ната и велела тотчас доставить письмо.
В тот вечер мне не удалось дослушать Моцарта. Примерно на середине оперы (это соответствует окончанию лицевой стороны долгоиграющей пластинки) музыка прервалась. Потом я увидел, как он вышел из дома.
Я выпрямился в кресле, наблюдая, как его голова поднималась и опускалась в такт шагам, пока он шел к Финчшафен-роуд. Когда он повернул за угол, я уже понял, куда он направляется, и встал. Стоя у входной двери, я смотрел, как он идет по тротуару к крыльцу. Возле лестницы он остановился. Сквозь жалюзи я видел его поднятое лицо.
– Что вам угодно? – не выдержал я.
– Можно вас на минуту?
– Меня?
– Да, вас.
– Может быть, подниметесь? – предложил я.
– Нет, нам лучше поговорить на улице.
– Ну что ж, – согласился я, – если так вам больше нравится.
Я спустился к нему. Мы пошли рядом по тротуару. Едва мы миновали угол дома, холодный ночной ветер полоснул меня по лицу. Левая щека захолодела.
– Ну, – начал я, – что произошло?
Мы шли по Финчшафен-роуд. Он молчал довольно долго. Я посматривал на него. И ждал. Раньше мне не приходилось с ним разговаривать. Он дал мне достаточно времени, чтобы я мог оглянуться на свой дом и разглядеть Белл в окне; он полагал, мне это необходимо.
Когда он заговорил, первые слова его были:
– Вы ссорились с Белл?
Дело было даже не в словах – в тоне, каким он это произнес; моя левая щека до того захолодела, что я почти не чувствовал ее. Он говорил так тихо, так вкрадчиво, что я едва слышал его. Похоже, он не хотел, чтобы нас вообще слышали, словно мы с ним составляем тайный заговор.
– Ссорились? – удивился я. – С чего бы это? Почему? О чем вы говорите? – Я искал на его лице выражение вины – на нем должно было, как в зеркале, отразиться виноватое выражение моего лица.
Мы стояли на Финчшафен-роуд, как раз на полпути между нашими домами. Напряженно ждали и искали следы вины на лице друг друга – и смертельно боялись их обнаружить. Я стоял спиной к моему дому, он – к своему.
– Ваше письмо не очень-то дружелюбно, – промолвил он. – Это не письмо доброго соседа.
– А с чего бы ему быть дружеским? – возмутился я. – С какой стати!
– Да, да, – согласился он, – с какой стати!
– И все дело – в вас.
– Ну, если вы так считаете…
– А как же еще прикажете считать?!
– Раз так, – заявил он, – можете действовать официально, я не сдвину забор ни на дюйм!
– Господи, да при чем тут «официально»?! Кто вообще говорит о заборе? – рявкнул я.
– Не смейте повышать голос!
– Это почему же?
– Не кричите на меня!
– Я буду кричать, коли мне это нравится!
Была чудесная, ясная и свежая, ночь. Небо, чистое и холодное, полно звезд. Небо и звезды казались очень далекими, но воздух был столь прозрачен, что, похоже, можно было различить дорогу в небо, к звездам – это была долгая, бесконечная дорога. Она уходила туда, к бледному диску луны, и ледяной ветер овевал луну и белые облака поодаль, вдоль дороги.
Из домов по Финчшафен-роуд один за другим появлялись люди – они выходили на крыльцо поглазеть и послушать. Я обернулся на наш дом, ища глазами Белл в окне, за шторой, потом взглянул и на их дом.
– Чума на оба дома! – крикнул я.
Белл не было на крыльце, когда я оглянулся; я не слышал, как она сбежала по ступеням, как спешила по тротуару Финчшафен-роуд.
– Мне бы и говорить с тобой не следовало, от тебя зараза исходит! – орал я.
Я не чувствовал присутствия Белл до тех пор, пока не услышал, как ее пронзительный голос взвился над рокотом наших голосов. Она стояла чуть позади меня, прямо перед ним, и орала ему в лицо.
– Бога ради, Белл, – взмолился я, – это мужское дело.
Белл не слышала. Не могла услышать. Она оглохла, оглохла от ярости, которая буквально захлестнула ее всю.
Она наклонилась вперед. Руки крепко прижаты к бокам, словно она старается удержать их от удара. Глаза – ни на миг не отрывались они от его лица – пылали на бледном лице. И голос, и тело ее дрожали.
– Бога ради, Белл, – молил я, – уйди. Это мужское дело.
Она не слышала.
Ее голос, полный ярости и страсти, бился и трепетал в ночном безмолвии. Я схватил ее за руки, силясь повернуть к себе, и постарался приблизить свое лицо к ее глазам.
– Бога ради, Белл, – твердил я, – успокойся. Это мой враг, я сам должен с ним схватиться!
Белл не видела меня сквозь ярость, захлестнувшую ее.
Я ловил ее взгляд, но не в силах был долго смотреть ей в глаза. Я мельком глянул в лицо того, кого только что объявил своим врагом: он был потрясен не меньше меня.
– Бога ради, Белл, уйди. Это мужское дело. Я встретил врага, и он мой. Уходи отсюда. Это не твоя забота. Враг-то мой! – повторял я, волоча ее прочь.

Грегорио С. Брильянтес
Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем… Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу.
Из первого Послания святого апостола Павла к коринфянам
ВЕТЕР НАД ЗЕМЛЕЙ
Перевод К. Чугунова
Было два часа пополудни, когда они переехали мост и миновали дорожный указатель, извещавший о том, что они пересекли границу провинции Тарлак, и предупреждавший об опасности: здесь, на этом потемневшем шоссе с крутыми поворотами, идущем под уклон среди скалистых холмов, погибло десять человек. Потом дорога снова выпрямилась и пошла по равнине, теряясь далеко на западе, за линией горизонта, в моросящем октябрьском дожде; но он все равно уже не гнал машину на прежней скорости, ехал спокойнее и жадно вдыхал прохладный ветер – перед этим пришлось долго ехать по иссохшей пустыне под ослепительным солнцем, он устал от этой езды, к тому же чувствовал, что опоздал к отцу, который скончался, наверное, так и не поговорив и не простившись с ним.
– Минут через двадцать приедем, – сказал он.
Он взглянул на нее искоса и ощутил с чувством признательности ласковое прикосновение ее руки. Ее пополневшая, раздавшаяся в талии фигура придавала ей несколько неуклюжий вид; он с тревогой подумал, что ему, пожалуй, не следовало брать ее с собой. Колеса машины шуршали на мокром от дождя бетоне, ветер, врываясь в кузов, издавал странные воющие звуки, мимо них проплывали желто-зеленые рисовые поля.
Когда машина, приближаясь к городу, проезжала по тому отрезку пути, где шоссе описывало широкую дугу, он увидел среди деревьев цинковые кровли домов – в пасмурную погоду они резко выделялись на фоне лусонских гор.
Вид знакомых мест не взволновал его, испытывал он только досадное малодушие при мысли, что отец, вероятно, уже не сможет поговорить с ним. Он подозревал, что отец хотел сказать ему нечто чрезвычайно важное, что не успел высказать за многие годы; однако он не прибавил скорости даже тогда, когда они, въехав в город, миновали провисшую, мокрую от дождя арку в честь девы Марии (был месяц молитв) и аллею из акаций и кокосовых пальм. В чистом воздухе, напоенном едва осязаемым ароматом земли и листьев, витала какая-то таинственность. Один из прохожих помахал ему рукой, но он не узнал его: наверное, кто-нибудь из друзей детских игр или бывший школьный товарищ, подумал он… Ветер шевелил листву над мощеными улицами, нагонял на ветровое стекло брызги дождя.
Ворота были открыты, и он вывел свой «шевроле» на аллею, ведущую к дому отца. Заглушив двигатель, посидел немного, предполагая услышать сквозь шум ветра в деревьях плач скорбящих женщин. Потом помог Терезе выбраться из машины, и они постояли на посыпанной гравием дорожке. Никто не вышел их встретить. За домом залаяла собака. Все окна по случаю ветреной погоды были закрыты. Он провел Терезу по портику и хотел было толкнуться в дверь, но ее в этот момент открыл его брат Луис. Брат оброс щетиной, под глазами у него темнели круги. Все трое вышли в sala, их шаги в гулкой сумрачной комнате с высоким потолком казались неестественно громкими.
– Что с ним?
– Сердечный приступ. И осложнения. Точно не могу сказать.
Он думал, что встретит в этом затемненном зале людей, но ошибся: все кресла были пусты. Когда они поднимались по лестнице, дедовские часы на площадке пробили половину третьего, Их мелодичный бой, приглушаемый старинными панелями, звучал мягко.
Он сказал:
– Но ведь мама еще в прошлом месяце писала, что он поправился.
– Тут одна неприятность вышла, – ответил брат. – Помнишь господина Рамоса?
– А что?
– Папа едва не убил его. Из револьвера. Поругались они. Из-за каких-то денег, дело чести…
Когда они поднялись наверх, из комнаты больного вышла медицинская сестра; в руках у нее был тазик, из которого сильно пахло спиртом. У двери их ждала мать, она вяло произнесла его имя. Он нагнулся и поцеловал ее в морщинистый лоб. Тереза прижалась к ней, какое-то время они с грустью смотрели друг на друга, потом мать провела всех троих к больному.
В комнате с наглухо закрытыми окнами стоял тяжелый запах болезни и лекарств; у распятия горели свечи, бросавшие колеблющийся свет на кровать с балдахином, где лежал отец. Он дышал ртом, грудь его слегка вздымалась, глаза, устремленные на зажженные свечи, сверкали лихорадочным блеском.
– Папа, – позвал он. – Это я, Тони. Мы вместе с Терезой приехали.
Взгляд отца был обращен теперь вверх, на полог, глаза горели по-прежнему. Тони прислушался к его слабому дыханию.
– Папа, – снова позвал он, – я Тони, твой сын. Тони… – В висках у него застучало, к горлу подступил комок. – Папа!
– У него отнялся язык, – объяснил Луис. – С тех пор как с ним случился приступ, он не сказал ни слова.
Тони выпрямился и еще раз взглянул на отца, на его широко поставленные жесткие глаза, на немые безжизненные губы; он уже сквозь слезы смотрел на этого старого умирающего человека, помня, каким он был гордым когда-то, каким сильным и темпераментным.
Тереза подошла к нему и взяла за руку. Снова появилась медсестра, на этот раз в сопровождении мужчины в очках, который смущенно теребил в руках стетоскоп.
– Тебе надо пойти отдохнуть, – сказала мать Терезе. – Не беспокойся, у меня есть сиделка. Дорога-то дальняя у вас была.
– Я с вами останусь, мама, – предложила Тереза.
– Нет, нет. Ты устала. Тебе полежать надо…
Когда они вышли, донья Пилар села возле кровати на кресло-качалку. Медсестра привела в порядок флаконы на столике. Было слышно, как подрагивают под напором ветра оконные рамы. Она видела, как муж борется за каждый глоток воздуха. Это ее не удивляло, не пугало; она любила мужа, но научилась относиться к больному строго и деловито; перед лицом того, что нельзя изменить, надо сохранять мужество. И все же временами она страдала от одиночества и старческой обособленности: муж с годами все больше отчуждался, дети уходили, обретая другие привязанности, и тоже, в сущности, становились чужими.
Несмотря на неподвижность воздуха в комнате, язычки пламени на свечах дрожали, будто чувствуя, что за окнами бушует ветер. Когда в доме появились Тереза и Тони, она читала «Аве Мария»; теперь же шептала последнюю молитву из десяти – «Распятие Христа». Она попробовала сосредоточиться, представить себе распятое тело, кисти рук и ступни, пробитые гвоздями, подумать о жажде, о пролитой крови, об избитом лице человека, сотворенного богом. Ничего не получалось, в голове роились посторонние мысли. Мануэль. Уехал в Америку и как в воду канул, не дает о себе знать. Снится ли ему умирающий отец? В январе разродится Тереза. Тони не должен ее нервировать. Мануэль, Луис, Тони; и дочери – Нена и Перла. Перла теперь монахиня.
Донья Пилар откинула голову на спинку кресла и опустила веки. Наконец Тони и Тереза приехали, часы томительного ожидания кончились… Вот медсестра вышла в холл… Ветер печально завывает, словно напоминая: жизнь прожита, былого уже не вернешь… Она постепенно расслабилась и впала в полузабытье. Ей вспомнилось, как она, юная девушка, танцевала; раскрасневшаяся, веселая, неутомимая, кружилась в вальсе, музыка играла всю ночь, потому что ночь была новогодняя, кружилась у открытой эстрады на городской площади, украшенной яркими лентами серпантина, молодые партнеры звали ее Пили и домогались ее любви. Они не знали, что она уже обещала свою любовь одному угрюмому парню, который не умел танцевать и только бросал в ее сторону ревнивые, угрожающие взгляды, она же смеялась и танцевала со всеми, кто был влюблен в нее. А когда танцы кончились и померкли звезды в тропическом небе, этот угрюмый парень не отпустил ее домой, взял на руки и понес в свой автомобиль (черный «бьюик» устаревшей марки, реквизированный командованием армии во время войны) и там целовал, несмотря на ее яростное сопротивление. Потом она плакала, когда он вез ее на рассвете в Манилу, хотя знала – лучше, чем когда-либо, – что любит этого неистового парня, которому суждено было стать ее мужем и – спустя много лет – мэром города, затем губернатором, отцом пятерых детей, в том числе трех сыновей – таких же бесстрашных и порывистых, как их отец, и двух красавиц дочерей – хрупких и нежных, но честных и умелых, помогавших матери на кухне, когда муж приглашал на обед гостей (в 1931 году сам президент навестил его во время путешествия по стране), или игравших летними вечерами на рояле в просторной гостиной, исполняя вальсы, которые она, неутомимая и веселая Пили, танцевала когда-то с влюбленными в нее молодыми людьми – ох, сколько еще воды утекло, пока она превратилась в седовласую донью Пилар, что ходит теперь по утрам на литургию, посинев от холода и превозмогая слабость…
Она вдруг встрепенулась и задрожала, словно охваченная чувством вины за эти предосудительные воспоминания; ей казалось, что она изменила своему долгу. Последние отзвуки грез растаяли вдали, среди неясного ландшафта. В комнате стало совсем темно; электричество считалось в городе роскошью, и включали его только после шести часов. Она чувствовала себя душевно уставшей, опустошенной. У кровати, опершись на спинку, стояла медсестра.
Больной вздрогнул. Медсестра быстро подошла и пощупала его пульс.
Донья Пилар зажгла свечу и всмотрелась в лицо мужа: когда они встретились взглядами, она прочла в его глазах немой ужас.
Она обернулась к медсестре и сказала ровным, тихим голосом:
– Пошлите, пожалуйста, за священником.
Священник пришел после благовеста. Это был рослый молодой человек со стриженой головой, застенчивой улыбкой, слегка прихрамывающий – новый коадъютор прихода, назначенный сюда после окончания семинарии. О том, что он новичок, можно было судить по неловкости в движениях, когда он надевал при рассеянном свете свечей и электрической лампочки свой стихарь.
Донья Пилар сказала:
– Боюсь, отец Сантос, что исповедоваться он не сможет. Он потерял дар речи.
Отец Сантос потер подбородок, как бы проверяя, чисто ли он выбрит.
– Ничего, – сказал он неожиданно низким и звучным голосом. – Он может отвечать и жестом.
Священник поставил на стол, перед распятием и свечами, серебряный сосуд с елеем. Склонился над доном Рикардо и осенил его крестным знамением.
– Покайся в грехах своих, – начал он. – Признайся, что прогневил всевышнего… Покайся господу. Я – пастырь… Ну, подай же знак. – Глаза умирающего по-прежнему выражали только неописуемый страх. Лоб священника повлажнел, лоснилось от пота и его благочестивое мальчишеское лицо. – Признайся богу в грехах своих. – Он торопливо, будто не желая обременять слух присутствующих таинственным звучанием чужого языка, пробормотал по-латыни отпущение грехов.
После индульгенции священник взял со стола серебряный сосуд и окропил больного освященным маслом. Закончив соборование, опустился на колени перед кроватью и стал читать заключительные молитвы; одна из женщин тихо заплакала, в глазах дона Рикардо светился все тот же безмолвный ужас.
В холле собрались сыновья и дочери, они устремили на священника вопрошающие, удрученные взгляды. Тони проводил его вниз через sala к выходу. Впервые в жизни отец Сантос попал в такой вместительный, в такой древний особняк: портреты предков на потемневших стенах, старинной формы окна с узорчатыми стеклами. Ему хотелось побыть здесь еще немного, покурить, побеседовать, перед тем как окунуться в мрачную ветреную непогодь, но Тони уже открыл входную дверь. Он снял с вешалки свой пиджак.
– Кто позвал вас сюда, святой отец?
– Ваша мать, – ответил священник, удивленный таким вопросом. Ему показалось, что от Тони попахивает виски; впрочем, он не был в этом уверен. – Вас зовут Тони, не так ли? – с улыбкой спросил он.
– Неужели вы не понимаете, что он может умереть от малейшего потрясения? Вы действительно не понимаете, святой отец?
– Я не знал. А пришел потому, что…
– Но ведь пользы-то от этого – никакой, верно? Он не подал вам никакого знака. По-моему, он даже не заметил, что вы там были.
– Господь справедлив и милостив.
Священник отвернулся и пошел прочь от дома. Выйдя за ворота, зашагал по темной аллее. Был уже вечер, в воздухе веяло холодом, и он пожалел, что не взял с собой пальто. От земли пахло дождем и гниющей листвой. Он остановился у дерева, закурил, с удовольствием затянулся. Ему вспомнился собственный отец, умерший много лет назад от пьянства. Сколько нас умирает, так и не познав безграничной любви всевышнего? Сколько нас погибает в преддверии ада, задохнувшись от противоречивых желаний? Отец Сантос ускорил шаг; на мокрую дорогу, освещенную слабым светом уличных фонарей, падали прыгающие тени листьев.
Часть неба над рыночной площадью очистилась от туч, и в нем четко обозначились блестящие, как стеклышки, звезды. «Пресвятая богородица, заступница, избави нас от недуг и болезней…» Холодный ветер мчался над городом в горы и дальше, во тьму, пригибал верхушки финиковых пальм вдоль протоптанной в траве дорожки и трепал полу его сутаны; священник заторопился домой, в уютную и хорошо освещенную квартирку, где его ждали горячий ужин и книга.
Часы на лестничной площадке пробили один раз, оповестив о начале нового дня, а дон Рикардо был жив еще, хотя лежал с закрытыми глазами и дышал чуть слышно; казалось, он просто задремал, не испытывая никакой боли. Тони, его мать и Луис расположились вокруг резной кровати, со страхом ожидая предсмертной агонии.
– По-моему, в этом состоянии он пробудет еще долго, – сказал Луис. – Как ты думаешь, Тони?
Тони разжал кулаки и встал, нетерпеливо забарабанив пальцами по спинке стула; ему опротивели спертость воздуха, измученное лицо брата и томительное ночное бдение. Но тут же почувствовал неловкость и постарался избежать взгляда матери. Ему захотелось покурить, но он не сразу решился выйти; потом все же вышел и направился по холлу в другую спальню.
Лучи света, проникавшие сквозь решетку, расчертили потолок и часть стены на маленькие расплывчатые квадратики. Тони достал из кармана рубашки, висевшей на стуле, пачку сигарет, закурил и распахнул окно. В лицо ему дунул сырой ветер, комната моментально наполнилась холодом, противомоскитная сетка над кроватью надулась.
Он выругался и захлопнул окно.
– Тони…
– Я разбудил тебя?
– Нет, – ответила жена. – Я не спала… Тони, что папа?..
– Пока ничего. Если бы этот чертов священник не…
– Не надо, Тони. Пожалуйста, не бранись.
Тереза подняла сетку и села рядом с ним на край кровати. В доме обиженно заплакал ребенок, послышался резкий окрик Нены, сестры Тони, и все стихло, слышен был только шум ветра. Тони ногой придавил окурок. Вспомнил свою привычную службу в городе, приятный шелест бумаг на письменном столе, монотонный стук пишущих машинок. Вспомнил родителя, нещадно лупившего своих сыновей палкой из слоновой кости. Дисциплина! В ушах Тони и теперь еще гремит голос отца. Крики, брань, одержимость, которой он, Тони, не разделял, – вот и все, что осталось в его памяти об отце. И вот он умолк навеки, умирает, так и не суждено им было друг друга узнать.
Тони взял руку Терезы – такую чуткую, теплую, живую.
– Когда-то в этой комнате спали мы с Мануэлем, – сказал он и вспомнил, как его непокорный брат, взбунтовавшись однажды против отца, ударил его по лицу; вспомнил вечера, проведенные ими в этой комнате, их беседы, их несбыточные мечтания.
Наплыв воспоминаний и горечи вызвал в нем такое же чувство, какое испытывает человек, понесший огромную утрату. Скоро отец умрет, его друзья и враги придут отдать последний долг; похоронят его с почестями, как знатного гражданина, бывшего губернатора провинции; будут, наверное, и речи, и даже оркестр, несмотря ни на проливной дождь, ни на палящее солнце. Дорога на кладбище в это время года, в сезон дождей, слякотная, грязь перемешана с конским навозом, в черной воде канав копошатся свиньи. Неизвестный, непредсказуемый конец любви и ненависти, радости и отчаяния; мало дано человеку времени ходить по земле. Он почувствовал прикосновение руки Терезы, руки реальной и близкой. Она гладила его усталые плечи, и голос ее, похожий на плач, все повторял его имя:
– Ах, Тони, Тони…
В безотчетном порыве скорби и гнева он притянул жену к себе, зарылся лицом в ее густые волосы и прильнул к округлости ее живота. Тихо всхлипывая, он взывал к ней – в эту минуту живое тепло ее тела представлялось ему единственно важным, а дом отца и все, что с ним связано, – преходящим. Но она стала сопротивляться, попятилась к стене и в конце концов вырвалась, рукав ее ночной рубашки порвался.
– В тебе нет ни капли совести! Ты – бессердечное животное!
Ее гневный шепот потряс его, точно удар хлыста. Они стояли лицом к лицу в белесой мгле комнаты и тяжело дышали.
– И это все, что ты… – Она запнулась. – О, Тони, зачем ты так? В такую минуту?
Глухое и жестокое чувство одиночества вдруг ярко вспыхнуло в его душе и через мгновение погасло, превратившись в пепел.
– Извини, – пробормотал он. – Я этого не хотел, Тереза, прости меня…
Из холла донесся голос Луиса – брат звал его. Тони постоял в застывшей позе, потом повернулся и пошел в другую спальню, пошел не торопясь, невероятно замедленным шагом, точно в сновидении, уже зная, что отец мертв. Тереза шла за ним следом. Мать читала заупокойную литанию, ее тихий голос явственно пробивался сквозь ветер, казавшийся шелестом таинственных крыльев в необъятном предрассветном небе; Тони стал на колени, скорбя не столько об умершем, сколько обо всех живых и о тех, кто еще не появился на свет.








