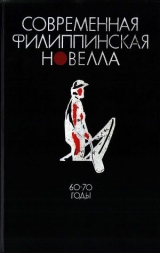
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Мой отец не мог ценить всей этой утонченности. Ему важно было одно: чтобы его сын был сильным и ловким, и не было лучше случая проверить это, чем состязания воинов. Он был бесконечно счастлив, когда я превзошел всех во всем. Теперь он может умереть в мире, сказал он тогда. А я был немного уязвлен, потому что уже тогда считал, что нет смысла гордиться достижениями, без которых подлинный вождь просто немыслим. Раджа обязан быть сильным, смелым и мудрым, иначе его превосходство над другими будет пустой привилегией, тогда как высокое положение надо завоевать. И только это ставит его выше прочих. Права – это ничто… Кто может сказать, что раб, служащий мне, не вправе сесть на мое место? Его останавливает привычка и прежде всего признание моего превосходства. Но и я мог бы пасть от руки последнего испанца. В пылу битвы звание ничего не значит, раджа точно так же полагается только на себя, как и рядовой воин, и в эти минуты он, наверное, не выше простого брадобрея. За великие привилегии раджи надо платить в минуты бедствий. Я склонен думать, что величие власти дается человеку, который имеет, как и другие, только одну жизнь, лишь для того, чтобы он жил ею не для себя, а для всех. Нет судьбы более одинокой, более ужасной…
Я предал Манилу огню. Я взял на себя всю ответственность за то, что позже, быть может, назовут слишком скоропалительным, а то и просто глупым решением. Споры относительно разумности этой меры будут продолжаться до тех пор, пока люди не потеряют охоту обсуждать дела своих правителей. Таково бремя, которое история возлагает на тех, кто творит ее. Но дело в том, что я с самого первого столкновения видел, что противник превосходит нас. Я предчувствовал: мы или будем уничтожены до последнего человека, или попадем в плен, и если Манила – город, где мы были счастливы, – переживет позор поражения, она станет тюрьмой нашего народа. Если нам суждено быть побежденными, то пусть уцелевшие влачат иго рабства на испанских галерах или в безразличии чужой земли. Но не в Маниле, только не в Маниле, потому что там маленькие радости, которыми не обделен и последний раб, заставят нас – кто знает! – даже полюбить свои цепи. Я сам был свидетелем тому, когда, отчаянно нуждаясь в воинах, вооружил рабов и сказал, что отныне они свободны. Они вооружились охотно, они были горды, но умоляли меня не выводить их из прежнего состояния. Рождаются ли рабами или становятся ими под воздействием вековых привычек? Я не могу дать ответа, который удовлетворил бы всех. Во всяком случае, лишь немногие обрадовались свободе, а один из них стал моим лучшим воином… Итак, Манила сожжена дотла. Когда люди последовали моему примеру – а я первым бросил факел в свой дом, – слезы стояли у них на глазах. Я не дрогнул, но труднее всего было подавить комок в горле. А затем – увы! – еще одна трагедия: Лунингнинг принесла себя в жертву.
Это был акт отчаяния, хотя и героический. Она бросилась в битву с кампиланом[64]64
Кампилан – филиппинский меч, расширяющийся к концу.
[Закрыть] в руках, разя направо и налево, пока сама не была поражена насмерть. Я думал, что моя ярость уже исчерпалась, но тут она разгорелась вновь, словно у загнанного в угол раненого вепря; жажда крови вспыхнула во мне, как у акулы-людоеда. Я уже не считал трупы павших врагов, я продолжал разить их, рубить в куски, я был уже не воином, но диким животным. Со смертью Лунингнинг я потерял не только товарища по оружию, не только возлюбленную, преступившую через священный запрет, – я потерял часть самого себя. Своей смертью она показала, что наш экстаз был также ее агонией, ибо она верила в свое жреческое призвание. Я понял, что ее счастье, о котором она так часто говорила, было перемешано с мукой, что она разрывалась между любовью и священнослужением и ни то, ни другое не могло восторжествовать, пока душа ее находилась в теле. Но нечего больше говорить об этом, ее счастье завершилось смертельной агонией, мое тоже, хотя я и жив еще. Я никогда не мог представить себе, что наша связь прекратится, и никогда не согласился бы на это. Я не имею в виду права вождя – в делах любви вождь лишен прав, – я просто хочу сказать, что никогда не мог допустить, чтобы мое самоосуществление предписывалось бы мертвыми законами, мертвыми как раз потому, что я отвергаю их. Тут важны не привилегии вождя, а властное желание мужчины. Без нее я не могу быть самим собой. Отныне судить обо мне можно будет только по моим делам. И я подозреваю, что она возжелала такого суда после сожжения Манилы. Сам поджог должен был означать для нее конец того мира, в котором мы жили и который мы тем не менее отвергали. Что было бы, если бы о нас узнали, узнали о вожде и жрице? Могу утверждать, что Лунингнинг выбрала гибель, чтобы дать мне последний дар любви – свободу и ясность перед встречей с судьбой. Я решил воздать ей за редкую страсть; я начал восстанавливать Манилу, чтобы почтить ее. Но до того протекли многие месяцы…
С маленьким флотом на нескольких судах я отплыл на Самар[65]65
Самар – остров в средней части Филиппинского архипелага.
[Закрыть], чтобы собрать войско. Я принимал всех, кроме пинтадос[66]66
Пинтадос (исп.) – раскрашенные; так испанцы назвали жителей центральной части архипелага, которые окрашивали лицо и тело.
[Закрыть], как любовно называли их враги. Эти странные люди не так уж отличались от нас по обычаям и цвету кожи, но они явно предпочитали чужеземцев, которым служили переводчиками и посредниками. Почему они так поступали – из амбиции или по умыслу? Или их напугал вид и оружие врага? Мало того, они утверждали, что их подвигнул бог Легаспи, могущественнее которого не было богов, и хвастались, что за ними будущее. Скорее всего, они действовали так потому, что это было им выгодно. Как бы то ни было, я сразу отказался от их услуг. Некоторые из них искренне хотели стать на мою сторону, но я решил, что и этим немногим не удастся подняться над привычками и обычаями их племени; должен сказать, я не мог доверять людям, которые раскрашивают лицо. Конечно, краска может прибавить красоты, но пользоваться ею, чтобы изобразить ярость, – это мне кажется неуместным. Но даже отвергнув их, я все же набрал семь пирог новых воинов. А это было нелегко.
Молодые люди, гордые и склонные к приключениям, хотели сразу присоединиться ко мне, но воспротивились старейшины, а также женщины, которые, естественно, спрашивали, почему их мужья, сыновья и возлюбленные должны сражаться в далекой стране. Их пустые возражения объяснялись заботой о себе (старики завидовали храбрости юношей, а женщины боялись потерять их – не обязательно в битве, ведь их мужчины увидели бы прекрасных женщин моего племени), но мне пришлось проявить большое терпение, чтобы не оскорбить молодых людей неуважением к их старейшинам и женщинам. Ни за что я не взялся бы за это дело, если бы обстоятельства не требовали этого. Мне пришлось пойти на рассчитанный риск и соблазнить ту, которая возражала громче всех; если бы она оказалась такой добродетельной и стойкой, какой хотела показать себя, моя смерть была бы неминуемой. На эту опасную затею меня вдохновила ее кажущаяся скромность. Она ни разу не взглянула мне прямо в глаза, но раз или два я замечал, что она украдкой поглядывает в мою сторону – сидя напротив меня, она всегда поигрывала своими золотыми браслетами на ногах. Я знал, что, если ошибусь, моей миссии придет конец, потому что все скажут: я глупец, способный начать войну только из-за того, что мне понравилась чья-то ножка. Но я ждал случая, и он представился во время их традиционного празднества. Моя жертва оделась подчеркнуто скромно – тоже своего рода кокетство. Когда ее попросили сплясать для гостей из Манилы, она, несмотря на настойчивые уговоры мужа, отказалась так решительно, что поразила всех, кроме меня. Ее стоило утешить. Муж пустился в долгие извинения и даже попросил вождя примерно наказать непокорную жену, а, судя по злобным взглядам, наказание было бы суровым. Я мягко заметил, что ее необычное поведение, видимо, вызвано нашим неожиданным вторжением, и оба – и муж, и вождь – охотно приняли такое объяснение, а муж даже сожалел о своем гневе. Я предложил успокоить ее и принести ей наши извинения. Вождь не преминул отметить мою скромность, украшающую гостя и раджу. Уверен, что мои дату[67]67
Дату – вождь (тагальск.).
[Закрыть] тогда же подумали, что я веду себя недостойно, но позже, когда мы набрали новое войско, они только обменялись понимающими взглядами.
Для своих переживаний она выбрала неплохое место: под высокой акацией на дальнем краю леса, где ее не могли потревожить ничьи любопытные взгляды. Никто не мог застигнуть нас врасплох. Я не стал тратить время на церемонный разговор, предвидя – и совершенно правильно, как оказалось впоследствии, – что она может вновь надеть маску неприступности. Нежное объятие сразу же сокрушило все барьеры… Достаточно сказать, что она оказалась столь же страстной и столь же чувственной, как и любая другая женщина. После этого я не мог больше тянуть с отплытием, повторные встречи создали бы много трудностей.
Что до старейшин, то тут пришлось пойти на лесть и предложить дары. Не без колебаний расстался я со своими золотыми церемониальными кинжалами. Но я не прогадал, потому что мы получили больше воинов, чем даже надеялись; главное же, я поручил наших женщин их заботам – им нравилось думать о себе как о гостеприимных хозяевах и опекунах.
Я предвидел, что битва с врагом будет жестокой. Но оказалось, что и они покинули разрушенную крепость. В рядах наших новых воинов, надеявшихся на схватку с врагом сразу по высадке, вспыхнуло недовольство. Я решил занять их чем-нибудь, не то они излили бы избыток энергии друг на друга – в присутствии молодых девушек это было более чем вероятно. Я распустил слух, что противник готовится к битве; приказал строить укрепления и восстановить разрушенный палисад. Так, хитростью, Манила была воссоздана. Добавили новые амбразуры для пушек, восстановленные хижины расположили по кругу. Затем воздвигли храм в честь Лунингнинг. Я объявил ее богиней войны. Теперь память о ней не умрет, потому что моя возлюбленная вошла в таинственный и неуничтожаемый мир легенды. Оказалось, что распущенный мною слух не так уж далек от истины. Не успели мы восстановить Манилу, как Лакандула из Тондо уж стучал в ворота – он принес послание от капитан-генерала, как он называл теперь Легаспи.
Лакандула – несмотря на возраст, все еще жилистый – осмелился говорить со мною в присутствии воинов. Я сразу понял, что это уловка, но ничего не мог поделать – он хотел, чтобы воины слышали каждое его слово. Говорил он красиво, цветисто и громко – настоящий краснобай. Он сказал, что испанцы непобедимы, зря мы надеемся, будто они ушли навсегда – они вернутся, и вернутся с большой силой. Он хотел бы предотвратить напрасное кровопролитие. У него был куда лучший план. Примем испанцев, будем учиться у них, а когда овладеем их искусством, особенно их амулетами, снова сбросим их в море, а сами станем сильнее, чем прежде. Я ответил, что его план никуда не годится; потому что, как только мы притворимся побежденными и согласимся быть их рабами, мы уже никогда не избавимся от этих белых захватчиков. Я сказал, что они пришли грабить, порабощать и, как показывает пример самого Лакандулы, расколоть нас. Я намекнул на стремление Лакандулы подчинить весь Лусон руке его сыновей и сказал, что вся его мудрость направлена не на спасение наших жизней и изгнание испанцев, а на то, чтобы с помощью последних потомки Лакандулы правили бы по всей земле – вдаль и вширь. Со временем я пожалел об этих словах, но я сражался за свое княжество, и здесь все средства были хороши. А когда я указал на крест, который он теперь носил на груди, мои воины поняли, что эта старая лиса уже не была одним из нас.
Случай с Лакандулой навел меня на дикую мысль. Что, если бы, спросил я себя, Самар и острова за Самаром, княжества вокруг нас – Пампанга, Малолос и другие – объединились? Можно ли преодолеть подозрительность и соперничество племен? Ведь у нас даже разные боги. Сейчас нас ничто не объединяет. Но если мы осознаем, что испанцы – наш общий враг? В памяти еще были свежи трудности, с которыми я столкнулся на Самаре; молодые воины присоединились ко мне, но только потому, что они любопытны и у них горячая кровь, с годами они успокоятся и предпочтут покой сражениям, удобства – жертвам. Однако чувства мои были смутны и неясны, сама мысль казалась невообразимой: объединение племен ради цели, которую даже нельзя определить. Во всяком случае, я не мог определить ее. Приходится признать, что я не дорос до нее. Пандай Пира, у которого я время от времени спрашивал совета, сказал, что в этом что-то есть, но даже он, при всей его опытности и мудрости, не мог обосновать предложение, которое слишком противоречило всему нашему опыту. Он обещал подумать… Но испанцы, как и предсказал Лакандула, пришли с большой силой. Они одолели нас, мы укрылись в болотах. Мы потеряли многих воинов, а те, кто уцелел, были почти все ранены, отступление было долгим и тяжелым, и оно целиком занимало мои мысли. Я не мог предаться отчаянию, даже если бы и хотел, я ободрял моих людей, но я не плакал с ними. Во время битвы – а она все еще стоит у меня перед глазами – я понял, что трудно отличить раба от свободного человека, а свободного – от обученного воина; все сражались яростно и храбро, я могу сказать даже – благородно. Что до воинов с Самара, то они поступили так, как я и ожидал, – тяга к приключениям у них выветрилась, когда нам стало тяжело. Единственно, чем они держатся, это яростью за смерть близких друзей.
Пандай Пира погиб от ран и болезней во время отступления. До самого конца он повторял: «Одно сердце, одно сердце. Ты дал людям одно сердце». Так он ответил на мои неясные вопросы о единстве племен. Мои люди сражались не только за меня, не только за свои жизни; их заставляла сражаться новая сила, необъяснимая, но вполне реальная. Бывший раб сказал мне: «Сулиман, я не могу сдаться. Я могу только победить или умереть». Он сказал это с гордостью, почти высокомерно, словно он обращался не к своему радже. В тяготах отступления я и сам забыл о различиях в достоинстве: рабы обменивались шутками со свободными, а свободные соперничали с дату. Казалось, человека начали уважать не за положение, а за что-то другое. Я и сам ел и спал рядом с кем угодно, делил одеяло и шутил со всеми. Женщины, которые отказались укрыться на Самаре, безропотно переносили все тяготы, но детей с нами не было – я настоял на своем, и они теперь в безопасности, вдали от отцов и матерей, с ними несколько уцелевших воинов, которые уже сейчас рассказывают им о наших сражениях. Я молюсь, чтобы наши сыновья и дочери унаследовали сердца своих предков.
Из болот я отправился с небольшим отрядом телохранителей к вождям Малолоса и Макабебе. Я предупредил их об опасности, исходящей от испанцев, и пытался доказать, что в болотах, где укрылось мое войско, мы можем остановить их. Да, они готовы сражаться, но по тем же причинам, что и воины с Самара: из любви к приключениям и из жажды добычи. По-настоящему мне удалось обратить только одного вождя из Малолоса. Моя смутная мысль взволновала его. Он знал, что нас разделяет. «Ты был первым, – сказал он. – Пусть же все потомки Сулимана оттачивают эту мысль». А сейчас нам предстоит встретить врага в Бангкусае…
Сулиман умрет в болотах или вернется новым раджей – таким, какого Лусон еще не видел. Испанцы говорят об одном боге, одном короле, одной воле. И в этом сила испанского солдата, сила, которой нет у нас. Меня не пугает оружие испанцев, наследники Пандай Пира могут сделать такое же. Всякий воин использует оружие, которое его больше устраивает. Дело не в оружии, дело в самом испанском солдате, в том, что у него в груди, – вот чем они превосходят нас, а не оружием. Признаюсь: я боюсь, я растерян, мне страшно.
Если я паду в битве, может быть, Лакандула или его сыновья узнают, в чем сила испанцев. Но как они могут воспользоваться этим знанием, они, чьи сердца полны подозрительности? Я говорил обо всем этом с теми, кто в состоянии понять меня, и велел им продолжать поиски. Потому что сам я уже ничего не найду. Я не могу обманывать себя, я знаю исход предстоящей битвы. До сих пор мне не удалось выиграть ни одной стычки с врагом. Нам чего-то не хватает. Нет, храбрости и силы у нас достаточно. Лакандула называет это чужим словом – «вера». Я не знаю, что значит это магическое для них слово. Это крест, мрачные фигуры в капюшонах, воля врага – вот что нам надо для победы. Но нечего тосковать по чужому. Я должен довольствоваться только своим. Пока над нами еще нет господина, по крайней мере над моими людьми. Сегодня ночью я сказал им, что мы должны сражаться и не думать о поражении. Мы не должны допускать мысли о том, что с нашей гибелью в этих болотах борьба против испанцев прекратится – она прекратится только тогда, когда мы прогоним последнего захватчика на другой берег океана, откуда он пришел. Наши потомки продолжат борьбу. Кровь, которую мы прольем в Бангкусае, навсегда останется свежей кровью, она смешается с водами рек и озер, и всякий, кто окунется в них, почувствует прилив решимости. Те, кто сегодня будет сражаться рядом со мной, войдут в легенды и обретут бессмертие в памяти народа.
Светает. Я иду навстречу судьбе.

Уилфридо Д. Нольедо
РИСОВАЯ ВОДКАПеревод К. Чугунова
Увидев ее в зеркале с гребнем в руке, Сантьяго понял, что уже время вставать. Пора и ему идти. Вот-вот покажется в окне хижины серп луны, люди соберутся там, в кабачке углового дома, и он с ними выпьет.
Сантьяго с трудом поднялся и размял онемевшие руки и ноги. Подошел к тазу со свежей водой и ополоснул лицо. Вот так все и будет: сейчас он достанет из сундучка свою военную форму, прицепит медаль, что лежит у него под подушкой, а дочь, уходя, поцелует его в щеку. Дни проходят в ожидании, вечера – в попойках. Ничто не меняется.
Когда он вновь посмотрел на нее, она была уже в длинной и узкой бежевой юбке.
– Уходишь? – спросил он по привычке.
– Да, папа, – машинально ответила она, вплетая в волосы ленту.
Он вернулся к окну, к своей кровати. Луна взошла. Дорога зеркальной гладью тянулась на восток, в сторону гор, беспорядочный шум уличного движения смешался со скорбным гомоном нищих – их бесформенные тела усеяли тротуар. Одни из них гремели ведрами, другие лежали, в полусне издавая стоны и проклятия. Издалека, с чьего-то двора, из бродильных чанов, вкопанных в землю, тянуло запахом рисового сусла. За день солнце подсушило жидкое месиво, образовался экстракт, и с восходом луны ветер принес сюда запах, пьянящий запах рисовой водки, который сонные люди, скрючившиеся на тротуаре, с жадностью впитывают в себя.
Сантьяго прислонился к стене, стараясь не смотреть на дочь, стараясь не задавать вопросов.
– А куда ты, Элена, пойдешь после урока музыки?
– К маме на кладбище, – ответила она.
Он отвернулся, взглянул на луну и вздохнул. Когда-то они вместе бывали на misa de gallo[68]68
Рождественская месса (исп.).
[Закрыть] под сенью благоухающих dama de noche[69]69
Кустарники с бледно-желтыми душистыми цветами (исп.).
[Закрыть], аромат которых приводил их, радостно возбужденных, в баррио, где происходило карнавальное шествие. Это был их район – Бинондо, но они вместо гулянья молились за всех женщин, танцевавших в своих camisas[70]70
Сорочках (исп.).
[Закрыть].
– И что твой ученик – успевает?
– Ему, папа, всего лишь семь лет. Он даже молоко себе подсластить не умеет.
– Странный ребенок, так поздно учится музыке.
– Он и по утрам много играет.
Сантьяго снова вздохнул.
– Опять, что ли, галдеть начнут?
Элена взяла губную помаду.
– Сегодня что-то затихли, – сказала она, кивая на окно.
– Раз затихли, значит, умерли.
– В кабачок тебе не пора? – спросила она, вытаскивая из волос шпильки.
– Скоро пойду.
– Де Пальма, наверно, опять сегодня петь будет, – с усмешкой сказала она.
Сантьяго улыбнулся.
– Да уж как водится. Каждый вечер поет. Войдет, закашляется, скорчится в судорогах, одолеет приступ, в руках ветки сампагиты, которые не сумел продать, за спиной гитара горбом торчит. Песни, которые он поет, они как стрелы из клятв наших возлюбленных. Никто нас не понимает – мы с ним одни. Безнадежно потерянные обломки целого, сходящиеся на перевалах, плывущие в ущельях, где их обступают златолисты и где лишь воспоминания могут причинить нам боль. Де Пальма, дружище! У тебя что ни песня, то за душу берет.
– А голос у него еще есть?
– Надтреснутый, но есть.
– И все еще хворает.
– Все еще? Умрет скоро, он же не крепче меня. В Старой Маниле фонарщиком служил и до сих пор не может поверить, что новый город в нем больше не нуждается.
– Бедный Де Пальма. Бедный старый вояка…
Сантьяго вытер лоб тыльной стороной ладони.
– А что Рубен? – спросила она, не поворачивая головы.
– Рубен? Бедняга. Что ты с ним делаешь, дочь? Днем он работает как вол, вечером учится, а потом к нам идет разгонять тоску. Какая кошка пробежала между вами?
Она встала и отошла от зеркала, продолжая расчесывать волосы.
– У меня своя гордость.
– Оно и видно. Потому Рубен и ищет утешения в чарке. Только чарка-то уж больно глубокая.
Она сверкнула на него глазами.
– Тебя это не касается, папа.
Перед уходом она подошла к ротанговому столику, на котором – как и каждый вечер вот уже на протяжении года – были аккуратно разложены ее вещицы. В уши она вдела серьги с голубым орнаментом – ее единственные, – которые очень шли к ней, впрочем, как и все остальное; даже дешевый кожаный пояс, туфли на высоком каблуке, сумочка, купленная на распродаже, – все придавало ей элегантный вид. И вот она снова перед ним в обычном вечернем наряде, стройная, сияющая, – недаром провела столько времени у щербатого зеркальца, – драгоценный камень из нервов и плоти мулата. Сантьяго внимательно пригляделся к ее лицу: да, прожитый год оставил на нем следы, его дочь переменилась. Теперь, когда она принарядилась, взгляд ее не казался таким отрешенным, как прежде.
– Скажи Де Пальме, чтобы он пел погромче, тогда и я услышу.
Сантьяго криво усмехнулся.
– Не беспокойся. Водка сделает свое дело.
– Водка – добрая гитара. Лучше, чем та деревяшка, на которой он бренчит.
– Водка это тебе не деревяшка.
– Верно. Ну, мне пора.
– Из-за этого Рубен так и переживает?
– Не будем о нем говорить. Пожалуйста. Он совсем еще мальчик.
– Водка превратит его в старика раньше, чем ему исполнится двадцать.
– Не по моей вине.
– Какие мы все храбрые.
– Водка храбрее. Иди выпей, папа. Какое я тебе утешение.
Она замешкалась, о чем-то раздумывая.
– Возьми мамин зонтик, – посоветовал он. – Ночью, чего доброго, дождь пойдет.
– Ладно. Ночью всегда дождь.
– Я свечу зажгу, пускай горит, пока тебя нет, – сказал он, направляясь в комнатку, где она хранила их хозяйство.
Она достала красный зонтик.
– Папа…
– Что, дочка?
– Прошу тебя. Не надо говорить там про революцию.
Не успел он ответить, как она уже спустилась с крылечка, и вскоре послышались ее шаги на гравии. Он снова прилег на кровать, прислушиваясь к улице, мечтая о выпивке.
К тому времени, как в кабачке появился с медалью на груди Сантьяго, Де Пальма успел пропустить уже не одну чарку. Старый продавец сампагиты уже одурел от речей и водки, и с каждым глотком лицо его все больше дряхлело. Странное было это зрелище – его фигура на бамбуковой скамейке, его нелепые бакенбарды и надоедливая бессвязная болтовня о событиях прошлого века. Более молодые пьяницы старались держаться подальше от этого оборванца, тратившего свои с трудом заработанные гроши на угрюмого старого ветерана, который, принимая от него угощения, платил одной лишь бранью. Прославленные герои своего времени, они, как близнецы-патриции, окруженные стивидорами, крепко держались друг друга.
– Ну как, мой вестовой из Малолоса? Все еще подсчитываешь потери на поле сражения из-за десяти тысяч сребреников?
Сантьяго усмехнулся:
– А язык-то, я вижу, у тебя уже развязался.
– А что? Мое право.
– Нечего зря болтать-то. Не в духе я.
– Нищий ты духом.
– Да поможет мне водка.
– В разгар битвы мой вестовой из Малолоса, как всегда, попал в засаду, и войско конгресса потеряло его.
Сантьяго взял протянутую Фермином жестяную кружку и стал пить жадными глотками, ощущая, как тепло разливается по желудку. Потом перевел дух и облизал губы.
– Нынче уж не та водка, что прежде.
Де Пальма тоже выпил, издав громкое бульканье.
– Выдерживать ее теперь не умеют. Эти перегонные аппараты… преступление.
Так они, («Los grandes») aficionados[71]71
(«Великие») приверженцы (исп.).
[Закрыть] Погибшей Республики, сидели, взволнованные воспоминаниями, стирающие эпитафии на мраморе, исправляющие историю, неуклюжие и достоверные, суровые и беспокойные, единые и разделенные – будущее в прошедшем.
– Помнишь, как мы читали Карлейля? – со вздохом спросил Де Пальма.
– А помнишь Майорку? – перебил его Сантьяго.
– Ayuntamiento?[72]72
Собрание? (исп.).
[Закрыть]
– Крепость?
– Оружие?
– Договор?
– Домек?
– Соррилья?
– Пасиг?
– Янки?
– Тележки?
– Бинондо?
– Театр?
– Оперу?
– Ассигнации?
– Дело?
– Запрещенную литературу?
– Парки?
– Puñal?[73]73
Кинжал? (исп.).
[Закрыть]
– Мошенников?
– Гулящих женщин?
– Фанданго?
Де Пальма хмыкнул и показал рукой на нищих, заполнивших улицу.
– Взгляни, сколько голодных развелось: точно болезнь на посевах риса.
Сантьяго посмотрел на женщин и детей, ритмично раскачивавшихся вместе с корзинами на пыльной дороге, стонущих и просящих только одного: риса! Рис – притча во языцех, больная проблема города. Кругом только и разговоров что о рисе – вареном, жареном или сыром, да о крупице соли. Риса теперь не бывает даже на свадьбах.
Сантьяго смотрел на набережную, на тела людей, вытянувшихся в линию от пожарного гидранта до зернохранилища, слушал разговор прохожих о Бомбе.
– В наше-то время Бомбы не было, а, caballero[74]74
Сударь (исп.).
[Закрыть]? – сказал он.
Продавец цветов снисходительно улыбнулся:
– Бомбы всегда были, Сантьяго. И всегда будут.
– А где Рубен? – спросил Сантьяго, озираясь по сторонам. Ему был нужен союзник в споре.
– Нельзя остановить прогресс. Такова воля нашего создателя и ученых.
– Когда-нибудь я сделаю людей свободными.
– Брось, caballero. Твое дело – водку пить. Что бы ты ни делал, Бомба все равно упадет. Спроси тех, кто ишачит за корзину риса. Спроси матерей. Спроси детей, Бомба у них в животах. И в ломбардах.
– Это не так!
– Нет, так. Она все равно что бог, которому наплевать на нас.
– Ты что, viejo[75]75
Старина (исп.).
[Закрыть], веру потерял?
– Я моложе тебя на два месяца, – сказал Де Пальма.
– Ты, брат, не отвлекайся от темы.
– Веру, говоришь?
– Мы же за нее боролись!
– Мы за Человека боролись.
– А разве это не вера? Человек – не религия?
– Человек храбрится, лежа в больнице, врачи лечат его, как могут, чтобы возродить в нем, одиноком, память о прошлом. Он царствует в кресле-каталке, дожидаясь дня и тоскуя по ночи. Не люди уж мы – ни ты, ни я. От Человека только и осталось что слабость в руках и ногах, да седина в волосах.
– А величие?
– Фиаско. Человека как бы бальзамировали; вот, мол, вам Надежда, которую спрятали, разложили на части, исследовали, анестезировали; музейная редкость, лишенная наследия. Вот оно, – Де Пальма показал рукой на скопище людей на тротуаре, – наше наследие. Вот за что мы сражались: за то, чтобы торговец, взяв у нашей земли рис, заставил народ голодать. Уж не ослеп ли ты? Разве не видишь, что люди голодают? Или оглох? Разве не слышишь ропот? Сидишь тут и бормочешь о Человеке, из-за ошибки которого случилось все это. В этом его величие?
Сантьяго отшвырнул от себя кружку.
– Изменник! – крикнул он. – Когда этот Человек шел, то каждый цветок перед ним склонялся. Слышишь ты, мелкая твоя душа?
Де Пальма с гневом посмотрел на него.
– Почему мы постоянно ссоримся? – спросил Сантьяго.
– Потому, брат, что нам не остается ничего другого. Мы не путаем дат, не забываем фактов, но лишаем их смысла. Этот великий Человек должен постоянно страдать из-за своей ошибки, иначе мы перестанем уважать его. Воскреси его, Сантьяго. Воскреси. Я жажду снова увидеть наш день, когда ты, напившись из ручья, у которого стояла, точно дракон, его грозная супруга, вглядывался в лесные заросли, принимая за врага каждый куст акации. Воскреси его для меня, caballero. Без него и мне жизни нет. Теперь его не знают, никто не знает. Но мы-то с тобой, мы, последние обломки памятника, знаем. Только это знание и помогает мне дышать.
В этот момент послышалось шарканье ботинок, и на скамью рядом с ними сел, бросив на грязную стойку книжки, худой взъерошенный парень.
– Припозднился ты, Рубен, – приветствовал его Сантьяго, радуясь новому собеседнику.
Рубен незаметно кивнул хозяину, и тот налил ему большой стакан водки. До краев.
– Вчера я хотел подарить Элене значок моей студенческой организации, – хрипло сказал Рубен, – но она не взяла. На мой вопрос ответила, что любит меня как брата.
Де Пальма захохотал. Лицо Сантьяго потемнело.
– Всех ненавижу, – сказал Рубен, понурив голову.
– Так уж и всех? – раздраженно спросил Сантьяго.
Парень злобно засмеялся.
– Куда ни глянь, всюду обманутая любовь. Любишь жену, а она бежит от тебя к другому. Лучший друг делается твоим врагом. Любишь свою профессию, а она никому не нужна, и тебя выбрасывают на помойку. Любишь собаку, а она тебя же кусает. Любишь бога, а он насылает бедствия.
Сантьяго сердито погрозил пальцем.
– Любишь сына, а он становится чужим.
– Не считай себя Иовом. Пророки давно уж отреклись от Библии.
– Думаешь, если ты клерк с грошовым жалованьем в какой-то захудалой конторе, то можешь хулить свое правительство?
– Правительство? – фыркнул Рубен. – Это не правительство, а ничтожество, которое не может спасти от голодной смерти даже бездомного ребенка. Оно настолько ослепло, что не видит несчастных, мрущих, как мухи, перед церковью Кьяпо. Так хромает, что не способно дойти до центрального проспекта и увести оттуда нищего инвалида. Не то чтоб я очень уж пекся о народных массах. Но надо же залечить их рану.
– Разве ты не понимаешь, что ты и есть та самая рана?
– Поэзия! Триста лет нас грабили, увозили наш рис на Запад, а мы славим Человека и его писания, которые он создавал в Европе! Раба метафорой не сделаешь свободным! Так что танцуйте и пойте свои сарсуэлы[76]76
Сарсуэла – вид испанской оперетты.
[Закрыть], вот он, наш рис: в кружке, а не на полях!
– Не понимаю, о чем ты говоришь, – насмешливо сказал Сантьяго. – В мои годы была Испания, был Договор и был Человек. И этого мне хватало. Его образ в моей душе так велик, что дотянуться до него может только любовь; разговаривать с ним можно только языком гитары. Por Dios[77]77
Клянусь богом (исп.).
[Закрыть], современный молодой человек, у тебя есть настоящее, но нет будущего – ничего, кроме газетной болтовни, ты затаптываешь в грязь последний лепесток сада. Добавляешь воды туда, где должен бы наводить мосты. О, родина, для него ты никогда не была тем, чем была для меня – моим именем, моим мечом, моей броней, моим украшением и моей памятью, я один как перст! Поклонение Человеку перешло в поклонение шлюхе! Не голосу человеческому, а музыке, записанной на пластинку! Adios[78]78
Прощай (исп.).
[Закрыть]…








