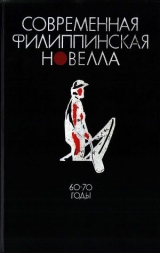
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Хосе А. Кирино
ПОЦЕЛУЙ ИУДЫПеревод В. Макаренко
Итак, уже год, как они помолвлены, да перед этим Рене Морелос год ухаживал за ней… Летти Понс сказала себе, что даже для самой скромной и застенчивой из всех скромных и застенчивых девиц это довольно долгое приготовление к замужеству, слишком долгое. А она, думала Летти мрачно, от избытка скромности и застенчивости не страдает. Она всегда была нетерпеливой. Кроме того, никуда не денешься от непреложного факта: она уже не может дольше оставаться в Маниле, нужно уезжать домой, если Рене не назначит точного срока.
Пора окончательно и напрямик объясниться с Рене.
– Рене, дорогой, у меня кончились деньги и терпение.
Они запивали кока-колой пирожные в ресторане после кино.
– Да, я знаю, – сказал угрюмо Рене, – это становится уже постоянной песней.
– Ну, я намекаю, а ты ничего не желаешь замечать.
– Дорогая, ты же знаешь, как я хочу жениться на тебе!
– Ладно. Мы знаем друг друга уже два года, два долгих года, а про свадьбу что-то не слыхать.
– Но, Летти, я ведь должен думать и о своей матери.
– Ну, пошло-поехало!..
– Бесполезно продолжать, девочка, когда ты начинаешь говорить в таком тоне.
– Сколько тебе лет, Рене?
– Это к делу не относится.
– Тебе под тридцать, Рене. Не пора ли уже вырваться из-под мамочкиной опеки?
Он пожал плечами и стал сосать свою соломинку. Она взглянула на него с любопытством и досадой. Он, конечно, не выглядел на тридцать, хотя занудничал порою как старик. Эту свою моложавость он сохранит до седых волос. Жизнь под маминым крылышком обеспечила ему медлительную безмятежность, которая будет его щитом против неумолимого времени, броней против всех превратностей бытия. «Вот, – подумала Летти сердито, – Рене Морелос и есть этот самый новый филиппинский средний класс. Весь он живое его воплощение – благовоспитанный, достаточно образованный, хорошо одевающийся и стремящийся только к тому, чтобы все оставалось как есть».
С первого взгляда, размышляла Летти, можно определить, что Рене единственный сын у матери, что он окончил колледж Де Ла Саль и теперь второстепенный администратор в солидной фирме. Семейные знакомства, старые школьные связи, его собственная аккуратность – все это позволило ему подняться достаточно высоко, но не поможет продвинуться дальше. Он останется второстепенным администратором на всю жизнь, потому что он из тех, кого уважают, но постоянно обходят. Его опередят, оттеснят люди менее воспитанные, более грубые, энергично выкарабкивающиеся из общей массы, обладающие деловым чутьем и буйным честолюбием.
А бедный Рене доволен, что остается второстепенным – в любом смысле этого слова.
Нет, я несправедлива к нему, одернула себя Летти. Она пристально поглядела на чистое, гладкое, как у хорошенького мальчика, лицо своего возлюбленного, и ее охватила нежность. Только что в темноте на балконе кинотеатра он страстно сжимал ее плечи…
Взрослый мальчик, мальчик-мужчина… Два эти года она была во власти его чувства. Она не сомневалась в его любви, в силе его страсти. Тогда почему же он не найдет в себе решимости преодолеть какой-то барьер, сбросить путы, сковывающие его волю?
Перегнувшись над столом, она накрыла его руку своей рукой. Он поднял на нее взгляд, в котором читался вопрос.
– Рене, давай с тобой сбежим.
Он выдернул руку и посмотрел на нее с упреком.
– Откуда у тебя такие вульгарные мысли?
Он говорил это так часто, что больше не заводил ее; иной раз она даже сознательно провоцировала его на это замечание – оно ее смешило. Но сегодня она почувствовала себя задетой.
– А тебе не надоело всегда быть таким чопорным?
– Мы не можем начинать супружескую жизнь подобным образом.
– Да почему же? Уйма людей так делает.
– У них нет матери, у которой…
– …плохое сердце, – закончила за него Летти.
– Совсем ни к чему, чтоб это было на нашей совести. Ее сердце…
– «Ее сердце, ее сердце»… Всегда сердце твоей матери! – закричала Летти. – А как насчет моего сердца? Рене, я больше не могу! Я живой человек. Почему бы тебе не сделать меня своей любовницей? О да, у меня вульгарные мысли…
– Я уже сказал: бесполезно разговаривать, когда ты переходишь на такой тон. Пойдем, я провожу тебя домой.
– Я отправляюсь домой, Рене. И я имею в виду не пансионат…
Откинувшись на спинку стула, она испытующе глядела на него. Глаза его потеплели. После продолжительного молчания он сказал просто:
– Я еще раз поговорю с мамой.
– Когда?
– Сегодня вечером.
– Обещаешь?
– Обещаю, Летти, дорогая.
– И дай мне знать о результатах завтра утром. Ты позвонишь мне, прежде чем уйдешь в офис?
– Прямо с утра позвоню, – подтвердил он и огляделся вокруг, ища официанта.
На темной лестнице пансионата он, прижав ее к перилам, впился ей в губы жадным, голодным поцелуем. Через целую вечность, отстранившись, Летти с трудом выдохнула: «Не забудь позвонить мне утром!»
Но в тот же вечер ее поднял с постели телефонный звонок.
– Летти, только что был доктор! С мамой случился приступ, когда я попытался заговорить с ней о свадьбе. О Летти, дорогая, придется нам еще подождать. Мама не сможет согласиться на это, не сможет…
На следующее утро Летти взяла билет на самолет до Котабато.
Она жаждала распрощаться с Манилой сейчас же, сразу, чтобы больше не видеть Рене, не говорить с ним, но оказалось, что все до единого билеты раскуплены – люди торопились вернуться домой на страстную неделю. Однако в бюро авиалинии ей сказали, что есть еще специальный рейс – вечером в страстную пятницу, если, конечно, это ее устроит: некоторые не любят пускаться в путь в такой день…
– Я не суеверна, – сказала Летти и купила билет на страстную пятницу. Но теперь у нее оказалась впереди целая неделя, и можно было кое-что предпринять. Выйдя из конторы авиалинии с билетом в руке, она почувствовала себя свободной и безрассудной – и решила завершить эту главу своей жизни, захлопнув книгу с треском.
Злорадно улыбаясь, вызывающе вздернув подбородок, она окликнула такси и назвала адрес дома Морелос. Рене сейчас на службе, а его мать – дома. По этому счету следует расплатиться сполна и в первую очередь.
Служанка отперла ей дверь и пошла «доложить сеньоре». Летти пренебрежительно оглядывала претенциозно убранный зал. Дом был не очень большой, но постройки довольно старинной, и донья Ана Морелос стремилась внушить посетителю трепет уважения перед благородным духом фамильного особняка. В общем-то, Морелосы не имели ничего, кроме этого дома да нескольких кокосов в Биколандии[44]44
Биколандия – разговорное наименование территории провинций Камаринес-Норте и Камаринес-Сур на юго-востоке острова Лусон, население которых говорит на бикольском языке.
[Закрыть], а послушать старуху, так можно было подумать, что Рене – богатый наследник благородных кровей, за которым охотятся дерзкие искательницы фортуны.
Летти была в этом доме всего три раза, и каждый раз что-нибудь да выходило не так.
В первый раз Рене привел ее сюда вскоре после того, как начал ухаживать за ней. Они познакомились в картинной галерее на Эрмите[45]45
Эрмита – кварталы фешенебельного центра Манилы.
[Закрыть]. Она тогда только приехала из провинции. После смерти тетки ей досталось немного денег, и, хотя родители были против, она решила попытать счастья в Маниле вместо того, чтобы учительствовать в Котабато. Родителей Летти уговорила, пообещав вернуться, как только истратит все деньги, если тем временем ей не удастся устроиться или выйти замуж.
Планы у Летти были самые смелые и разнообразные: ведь ей было всего двадцать два. Найти работу в газете или журнале (была же она редактором школьной газеты). Открыть свою студию и писать портреты богачей (она училась живописи у одного американского преподавателя в Котабато). Стать художником-модельером и обзавестись собственным ателье (ведь шила же она себе платья, которые в Котабато считались криком моды). Она подумывала даже, что может получить место солистки на радио или сниматься в кино (она участвовала в школьных спектаклях и завоевала премию за лучшее исполнение на конкурсе певцов-любителей). Но ни одна из этих идей не оказалась реальной. Вот тут-то она и встретила Рене в картинной галерее на Эрмите. Она была еще полна надежд и воодушевления, и ее энтузиазм поколебал его самодовольство.
Они стали часто встречаться; тогда-то его пораженная мамаша и выразила желание взглянуть на девушку, которой так заинтересовался ее сын. Во время первого же визита Летти допустила оплошность. С простодушной улыбкой она объявила, что один из ее дедушек был моро[46]46
Моро (исп. «мавр», «мусульманин») – традиционное название группы племен острова Минданао и сопредельных территорий, которые исповедуют ислам (свыше 90 процентов филиппинцев – католики).
[Закрыть]. С тех пор благочестивая донья Ана именовала Летти не иначе как «эта девушка полуморо». При втором посещении, когда Рене и Летти объявили о своей помолвке, донья Ана лишилась чувств. А в третий раз, когда по настоянию Летти они с Рене попросили старуху назначить день свадьбы, пришлось вызывать не только доктора, но и «скорую помощь». День же так и не был назначен…
Оглядывая теперь зал с презрительной усмешкой и припоминая все свои прежние визиты к донье Ане, Летти говорила себе, что выскажет старухе все напрямик, не опасаясь никаких последствий. О, теперь-то она не потеряет сознания, не будет истерик, ни доктор, ни «скорая помощь» не понадобятся. Старуха устраивает представление только для Рене. А сейчас, подумала Летти, мы с ней будем одни…
В этот момент в зал вошла донья Ана Морелос.
Маленькая, крепкая и властная леди совсем не выглядела слабой, несмотря на «состояние сердца». «Она смахивает на норовистую лошадку», – решила Летти и поднялась с софы навстречу своей противнице.
– Донья Ана, какая приятная неожиданность: вы встали! Я слышала, у вас вчера вечером снова был сердечный приступ?
– Что вы хотите, девушка? – громогласно осведомилась старая леди.
– От вас я ничего не хочу, совсем ничего!
– Тогда зачем же вы пришли в мой дом?
– О, я пришла только взглянуть на то, чего избежала. Донья Ана, теперь ваш сын снова будет принадлежать только вам одной. Я возвращаюсь туда, откуда явилась.
– И что, позволю себе спросить, я должна сказать по этому поводу?
– Ничего. Это я должна сказать, моя дорогая донья Ана. Разве я не обязана поблагодарить вас? Сказать спасибо? – В голосе Летти прорезался тонкий наждак.
– Вам не удастся обмануть меня, девушка. Я-то знаю: от вас так просто не отделаешься…
Летти вытащила из кармана билет на самолет.
– Да нет никакого обмана. Все решено. Посмотрите, я вылетаю из Манилы в страстную пятницу.
Старая женщина недоуменно уставилась на билет.
– Это не шутка? – спросила она неуверенно.
– Я сдалась, – объяснила Летти, пряча билет обратно в карман. – Сдалась и отступаю.
– Вы сказали об этом моему сыну?
– Можете сказать ему сами, потому что мне не хочется видеть его еще раз. И скажите ему еще, чтобы он не трудился звонить в пансионат. Он меня там не найдет.
– Но вы не можете так поступить с моим сыном! Вы должны прежде всего сообщить ему.
– Это сделаете вы, бабуся. Я от него устала. До свиданья! – И Летти направилась к двери.
– Подождите! Подождите! – закричала старая леди. – Нам следует обсудить это.
Летти обернулась в дверях.
– Что нам с вами обсуждать? – сказала она холодно.
Донья Ана изумленно взглянула на нее, лицо ее вдруг просветлело.
– Мы поговорим о Рене, – ответила она.
И тут Летти расплакалась.
Час спустя обе они сидели на софе, взявшись за руки, и изливали друг другу душу, как это умеют делать только женщины.
– Мы не поняли друг друга, – улыбнулась донья Ана. – Почему? Мы обе любим одного и того же человека, обе заботимся о его счастье.
– Донья Ана, вы думаете, я могла бы сделать его счастливым?
– Не только думаю, дорогая, я в этом уверена.
– О, донья Ана, как хорошо. И когда же наша свадьба?
– Сегодня же вечером скажу Рене, чтобы он назначил дату.
– Только, пожалуйста, не говорите ему, что я была здесь и мы с вами говорили об этом. Я хочу, чтобы он сам все решил.
– Очень хорошо, моя дорогая, я не стану ему ничего объяснять. Просто скажу, что переменила свое мнение и что мне лучше с сердцем. А вы… Вы не исчезнете насовсем? Вас можно будет застать в вашем пансионате?
– Я немедленно сдаю билет!
Летти поцеловала старую леди, вспорхнула с софы и снова кинулась к дверям. Здесь она чуть замешкалась.
– Донья Ана, а вы не позвоните мне вечером после того, как поговорите с Рене? Хочется узнать обо всем поскорее!
– Дорогая моя, конечно, позвоню! Не беспокойтесь!
На следующий день была суббота. Летти проснулась слишком поздно, чтобы успеть вернуть билет. Но с этим можно было и подождать. Она чувствовала себя бесконечно счастливой. Донья Ана позвонила ей вечером, как и обещала, и детально описала свой разговор с сыном.
Она сказала Рене, что святое время великого поста просветило ее разум: она может умереть в любой момент, и нельзя, чтобы на ее совести была разбитая жизнь сына. Он свободен в своих решениях; он уже, без сомнения, достаточно взрослый, чтобы жениться и самому выбрать себе жену. Пусть назначит день своей свадьбы с Летти.
Донья Ана сообщила также, что Рене поблагодарил ее и больше ничего не сказал.
Весь день Летти пребывала в восторге неизвестности, ожидая его звонка. Вместо этого он, как обычно в субботу, объявился сам и спросил, куда она хочет пойти. Она пыталась отыскать на его лице какой-либо намек на сюрприз, но он выглядел, как всегда, сумрачно-флегматичным. Они сходили в кино, пообедали, а после этого танцевали в ночном клубе, потом по ее предложению побродили по берегу залива.
Они уселись на парапете. Она склонилась головой к его плечу. И ждала, ждала, тщетно ждала неожиданного.
– А как твоя мама? – не выдержала она наконец и тут же вспомнила, что уже спрашивала об этом раньше.
– Неважно, – ответил он угрюмо. – Такой страшный был приступ… Я не могу рисковать маминым здоровьем, заговорив на неприятную для нее тему еще раз.
Летти почудилось, что у нее глаза вылезают из орбит.
– И никаких шансов, что она может изменить свое мнение обо мне, о нашем браке?
– Ну как я могу сказать? Подождем, посмотрим…
– Я не могу ждать, Рене. Я взяла билет на самолет. В пятницу улетаю. И навсегда.
Невероятно!.. Он только пожал плечами.
– Если ты так решила, Летти…
– Тебе лучше проводить меня в пансионат, – только и смогла сказать Летти.
Она была ошеломлена. Почему он не говорит, что все изменилось? Или ему хочется просто подразнить ее, из лукавства до последнего дня держать ее в неизвестности?
Наверняка это так и есть. Он уже занимается приготовлениями к свадьбе, а потом неожиданно скажет ей. Это будет великолепный сюрприз! Ее сердце таяло от радости…
Он зашел к ней в воскресенье вечером. Объявил, что взял отпуск на страстную неделю. Она улыбнулась про себя: ее догадка подтверждалась. Они поболтали в гостиной, потом пошли в угловую лавку за мороженым. У обоих было хорошее настроение. Его прощальный поцелуй был, как всегда, страстным.
После того как он ушел, позвонила донья Ана.
– Ну, он уже сказал тебе?
– Нет еще! – рассмеялась Летти счастливо. – Я думаю, он что-то замышляет, этот мошенник. О, я люблю его, как я его люблю!
– И я люблю тебя, девочка! – засмеялась донья Ана. – Дай мне знать, как только он решится на великое откровение.
«Он скажет мне в понедельник», – убеждала себя Летти. Но понедельник не принес ничего нового, хотя они провели вместе почти весь день. Он пришел утром, они позавтракали в центре, сходили в кино на дневной сеанс, а вечером отправились в церковь.
– Никаких ночных клубов до субботы, – сказала она ему. – Давай соблюдать страстную неделю.
Он настоял, чтобы и следующий день они снова провели вместе.
– Да, ведь это наши последние деньки, – заметила она, притворно вздохнув.
«Уж сегодня-то он скажет!» – уверяла она себя во вторник. Но и вторник прошел, а Рене сказал только, что его не будет в городе на следующий день.
В среду утром позвонила донья Ана. В голосе ее звучало беспокойство.
– Зайди к нам, Летти. Я должна тебе кое-что сообщить.
Летти поспешила в дом своего любимого. Его в самом деле не было в городе – уехал на похороны родственника. Донья Ана казалась расстроенной – вот-вот расплачется.
– Я говорила с ним вчера вечером, – начала она через силу. – Спросила, сказал ли он тебе, что я согласна на ваш брак. Знаешь, что он ответил? Что говорил тебе об этом, но ты настаиваешь на том, чтобы расторгнуть помолвку, и что ты решила уехать обратно домой!
– Но он ничего мне не говорил! – вскричала Летти.
– Тогда оставайся тут и жди, когда он вернется. Устроим ему очную ставку!
– Нет-нет, я не могу, не могу так поступить с ним! Он должен все решать сам. Я не хочу насильно заставлять его жениться на мне!
– О, это я виновата, – зарыдала донья Ана. – Это я приучила его бояться самостоятельности, бояться любых перемен – бояться жизни!
– Не говорите ему ничего, – попросила Летти. – Пусть поступает как хочет.
Рене явился в страстной четверг, чтобы сопровождать ее к вечерней мессе. Он казался опечаленным; Летти делала вид, что целиком поглощена торжественностью дня.
После службы они побрели по аллеям-лабиринтам монастырского сада в сиянии пасхальной луны. Ей подумалось: «Должно быть, такой же светлой была ночь в Гефсиманском саду[47]47
В Гефсиманском саду, согласно библейской легенде, Иуда Искариот поцеловал Христа. Это был условный знак, по которому Христос был схвачен и распят. Отсюда выражение «поцелуй Иуды».
[Закрыть]».
Они присели на скамью под деревом, усыпанным цветами, и тут он сказал, что у него плохие новости.
– Сегодня я опять говорил с мамой. Она была спокойна, и это самое ужасное. Она спокойно сказала мне… Боюсь, что это ее последнее слово, окончательное… Она говорит, что никогда не даст мне согласия на брак с тобою. Говорит, если хочешь – женись после моей смерти. Ох, Летти, она заставила меня поклясться, что я не женюсь до тех пор, пока она не умрет…
Летти почти равнодушно наблюдала, как он опустил голову и закрыл лицо руками. Словно маленького мальчика, она погладила его по голове.
– Что ж делать, дорогой, – грустно сказала она. – Будем утешаться тем, что это красиво, как в романе, нет, даже в романах такого не бывает.
– Но ты так нужна мне, так нужна! – заговорил он плача, резко выпрямился и крепко прижался к ее щеке своей, мокрой от слез. – Я никогда не забуду тебя, Летти!
– Думаю, я тоже запомню тебя навсегда, – проговорила Летти с едва заметной улыбкой, – и эту ночь в особенности – нашу последнюю ночь.
– Моя любимая, – прошептал он и нежно-нежно поцеловал ее в губы.
Она приняла поцелуй и вернула его, но сердце ее стыло в холоде одиночества, как огромная луна в высоком пустынном небе.
Вечером в страстную пятницу окончилась очередная глава из жизни Летти Понс. Юность осталась позади. Она летела домой в Котабато. Рене был на аэродроме – приехал проводить. Когда он поцеловал ее на прощанье, Летти печально подумала, что этот чопорный человек, который предал ее, все-таки достоин сожаления – он ведь сам больше всех теряет из-за собственной нерешительности. Ей хотелось умереть – на некоторое время, – чтобы отдохнуло исстрадавшееся сердце. Остатки ее веры в божественную справедливость исчезали, таяли. Ей было очень горько.
Но в самолете, который летел в залитой лунным светом ночи, она постаралась забыть и о Маниле, и о Рене. Мысленно она уже была в Котабато. Нужно возобновить знакомства со старыми друзьями, найти новых. Впереди веселое лето с пикниками, танцами, серенадами.
Она летела сквозь ночь навстречу светлому, праздничному утру.

Хильда Кордеро-Фернандо
ЛЮДИ НА ВОЙНЕПеревод И. Смирнова
I
Дверь открывалась прямо на тротуар – улица сбегала к реке, покрытой блюдцами водяных лилий, – там, в нашем городском доме. По ту сторону реки постоянно разыгрывались своего рода спектакли: в некрашеном домишке рядом с лесопилкой жил человек с двумя женами. Едва заходило солнце, женщины начинали ссориться, лупили друг друга деревянными башмаками, а охапки стираного белья так и летели из окон прямиком в речной ил. Мы следили, как они гоняют одна другую по лестницам, срывают одежду, выкатываются на берег, где их тотчас с лаем и рыком окружают соседские собаки, покуда с лесопилки не появлялся муж – обнаженный по пояс, с пилой в руках.
Раз в месяц они устраивали поминки на берегу реки. Покойника брали напрокат, развешивали цветные фонарики и дулись до рассвета в карты. Иногда ими начинал интересоваться полицейский – до него кое-какие слухи доходили, и он принимался кружить поблизости, пытаясь что-нибудь разнюхать. Но тело было на месте, мертвое тело, как полагается; и в карты играли, однако ничего подозрительного в смысле наживы (фишки вместе с корзиной, полной денег, всегда успевали припрятать), и он убирался восвояси, утерев слезы, оставляя бедных родственников наедине с их горем и с их картами.
Нам бы поискать другого соседства, каждый день повторял мой отец. Мы высадили деревья, чтобы сберечь наши взоры, мы высадили деревья, чтобы охранить нашу добропорядочность. Грузовик привез два кустика акации к нашему крыльцу, ростом они были с меня, не больше. Мальчишка-слуга соорудил вокруг них бамбуковую загородку, а прислуга каждый вечер выливала на них бадейку воды.
Вскоре деревца сделались высокими и раскидистыми, с желтовато-зелеными листьями и сверчками, певшими в кронах. Тогда уличные мальчишки повадились стряхивать с них жучков и сверчков, срезать перочинными ножичками кору или качаться на ветвях, пока они не сломаются. Отец без устали вел с мальчишками войну: зачем, мол, они портят красоту?! Он был отменный стрелок из рогатки и иногда пускал свое оружие в ход: правда, вместо камней стрелял глиняными катышками, которые оставляли на теле болезненные красные отметины. Спустя некоторое время стоило отцу просто высунуться в окно, как мальчишки ссыпались с деревьев, а понемногу они и вовсе оставили их в покое.
Густая древесная сень привлекала многих. Под кронами акаций находили приют ребятишки из детского сада – их площадка для игр была во время оккупации превращена в плац, на котором маршировали солдаты. Вечерами под деревьями появлялась японка Сато-сан с племянником и племянницей и угощала их рисовыми пирожками. Она работала массажисткой в японской парикмахерской на углу, всегда сверкавшей неоновой вывеской и благоухавшей духами «Бай Рам». Иногда здесь же устраивала представление семья бродячих фокусников. Они расстилали на земле грязную брезентовую подстилку и кувыркались на ней, жонглируя шарами и булавами. А когда глава семьи влезал на бочку и, балансируя, ставил себе на плечи двух дочерей – это был самый блестящий из когда-либо виденных мною, поражающий меня своей удалью финал представления. Они раскланивались, а безразличная толпа награждала их одной-двумя монетками; однажды я заметила, как кто-то положил в шляпу для сбора денег гнилой плод манго.
Наш шофер, сделавшийся простым слугой (наш «плимут» конфисковали на нужды военного командования), был родом из мест, где процветал керамический промысел, и каждый раз он привозил из отпуска полную табачную коробку глиняных катышков, высушенных на солнце, – снаряды для отцовской рогатки, боезапас до следующих каникул. Мой отец был невысокого мнения об имперской армии. Когда я показала ему свой школьный табель, он прямо взревел: «Это как же понимать, „тройка“ по алгебре, „пять“ по японскому?! Я что же, гейшу ращу?!»
А однажды ночью он едва не влетел в самую настоящую неприятность с этой рогаткой. Пьяный японский офицер, громко барабанивший в дверь квартиры этажом ниже, награждал какую-то девицу ласковыми именами, напоминая своими воплями обезьяну в джунглях. Разозлившись, отец отбросил одеяло и подскочил к окну с рогаткой в руке. Мать пробовала оттащить его, но он уже прицелился и выстрелил – как раз в грязно-оливковый зад. Было темно, япошка оказался в невыгодном положении – прямо напротив окна, и его противник успел выпустить еще один заряд. Раздался жуткий воинственный клич – сигнал к атаке, – страшный самурай сотрясал воздух угрозами. Мы с мамой затаились, обнявшись. А когда затуманенные алкоголем глаза офицера уставились прямо в наше окно, отец пальнул в него из другого окна. Наконец япошка убрался прочь, его кованые ботинки прогромыхали по пустынной ночной улице. Мы ждали, что наутро императорская армия примется штурмовать нашу дверь, но ничего не произошло; думаю, япошка был слишком пьян, чтобы что-нибудь запомнить.
Вскоре сделался бесполезным и наш древесный занавес. Люди с того берега подрядились соорудить бамбуковый мост, и вся шантрапа из-за реки стала появляться в городе. А мост – узкий, из бамбуковых планок, качающийся под ногами – превратился в любимое место прогулок японских солдат.
Бродяг и попрошаек с чашками из кокосовой скорлупы стало много больше, и теперь в нашей округе нередко обнаруживали под газетными листами раздувшиеся трупы. У всех вдруг проснулся интерес к сельскому хозяйству. Белобрысые парни-близнецы из-за реки принялись распахивать землю возле акаций. С двух часов и до заката они сновали между аккуратными делянками, рыли землю вокруг ростков ямса, устраивали орошение, таскали навоз из стоявших у обочины двуколок. Аквилино казался мне более привлекательным – тонкий, стройный, блестящий от пота, он был моим коричневым божеством в своей маечке, перепачканной в удобрениях; правда, стоило Сантосу постучать в нашу дверь с корзиной плодов для мамы, как я уже не могла решить, кто из двоих нравится мне больше. А когда жасмин, росший в ящике на нашем окне, был заменен на более полезную амалию, я вырезала их имена на поверхности плода, и буквы начали расти вместе с ним: Сантос и Аквилино.
II
Испанская семья, занимавшая нижнюю половину дома, открыла небольшую прачечную и безжалостно обдирала своих клиентов. Женщины за некрашеной стойкой в своих грязных домашних халатах, точно вшивые аристократки, тонкими длинными пальцами развешивали для просушки крахмальные подштанники на проволочных вешалках. Они делали вид, что понимают только по-испански, и долго обсуждали друг с другом смысл каждого тагальского слова. Если ты оказывался там во время завтрака и попадал на кухню, сеньора Бандана моментально набрасывала мокрую тряпку на горячую кастрюлю с варевом. Тут появлялась дочь и вкрадчиво спрашивала: «Cena tu ya aqai?»[48]48
Ты уже ел? (исп.).
[Закрыть] При этом яростное шипение в кастрюле должно было убедить всех, что там готовится цыпленок или, на худой конец, рыба. В те тяжелые времена трудно было оставаться спокойной поблизости от еды, и я спешила ретироваться с извинениями и благодарностями. Вот тут-то они и принимались за свой рис и багоонг, гордясь сохраненным престижем.
До войны они платили в месяц пятнадцать песо и настаивали на сохранении этой суммы, но уже в японской валюте. Отец неоднократно просил их съехать – мы собирались пустить жильцов с пансионом, – но едва он касался этой темы, как с сеньорой Бандана случался один из ее сердечных приступов. В конце концов они любезно согласились отказаться от двух комнат, которые были нам нужны для мистера Соломона и Бони.
Бони, приехавший из Батангаса, был моим четвертым двоюродным братом со стороны матери. Он оказался на мели после того, как школу в Маниле закрыли, и стал жить с нами, предпочтя зарабатывать себе на жизнь куплей-продажей. Бони вечно был в заботах: он переделал старый немецкий велосипед в трехместную пассажирскую коляску и каждый день сдавал ее напрокат. Кроме того, он приторговывал деревянной обувью, мусковадо, агар-агаром[49]49
Мусковадо – неочищенный тростниковый сахар коричневого цвета. Агар-агар – получаемое из морских водорослей студенистое вещество, применяется в кондитерском деле.
[Закрыть] и ватином для автомобильных сидений. В день рождения отца Бони подарил ему остов радиоприемника, кое-как налаженного им самим – приемник мог ловить «Голос свободы»[50]50
«Голос свободы» – радиостанция партизанских соединений, действовавших на оккупированной территории Филиппин в годы антияпонского Сопротивления.
[Закрыть],– и мой отец был безмерно счастлив. Однажды Бони купил три полных грузовика бананов на продажу – в нашем гараже нельзя было повернуться. Но эта затея потерпела крах: половина бананов сгнила, пока он ездил на танцы.
Вообще-то Бони был редкий мастак по части метания ножа. Он без труда попадал им в монету с четырех шагов, и в монете, в самом ее центре, оказывалось аккуратное отверстие. У него была привычка метать нож в тараканов и ящериц, разрубая их на части. Однажды он метнул нож в бродячего кота, донимавшего его ночными криками, и с мамой случился обморок. «Выгони ты его, – твердила она отцу. – Пусть возвращается домой!» Отец отобрал у Бони нож и велел вести себя прилично. Отец Бони был неверующим и завещал после смерти – а умер он за три года до войны – поставить на его могиле статую дьявола. Так до сих пор и возвышается на кладбище в Батангасе фигура черта с длинным хвостом, острым, как стрела; сам он, величественный, черный, глаза и подмышки огненно-алые, царит над скорбящими ангелами и белыми крестами. В день поминовения усопших Бони в одиночестве навещает могилу, выпалывает сорняки и протирает черта до глубокого глянцево-черного блеска.
Мистер Соломон занял бывшую гостиную сеньоры Бандана. Он повесил на стену распятие и шляпу, запер дверь и никогда больше ее не отворял. Мистер Соломон владел обширными соляными приисками в Булакане, и его мечтой был контроль над соляным рынком Манилы. Перед самой войной он конкурировал даже с китайскими купцами, которые соглашались на те цены, что он назначал. В Великой соляной войне случались периоды, когда мешок соли стоил десять сентаво.
Четверо его сыновей ушли в партизаны после падения Батаана[51]51
Батаан – полуостров на острове Лусон, взятый японцами в апреле 1942 г. после упорного сопротивления американо-филиппинских войск.
[Закрыть], и он дорого за это заплатил. Японцы конфисковали его соляные копи, а сам он попал в число граждан, которых кемпейтай[52]52
Кемпейтай – японская военная жандармерия в странах ЮВА, оккупированных Японией во время второй мировой войны.
[Закрыть] травила особенно нещадно; тогда-то он и попросил моего папу, своего старого друга, приютить его – вот почему он оказался в нашем доме.
Мистер Соломон проводил дни в гостиной сеньоры Бандана, глазел в окно и молчал. Он слушал песни ребятишек из детского сада; он наблюдал, как Сато-сан кормит племянника и племянницу; он бросал монетки в шляпу фокусника. Но еду мы должны были спускать ему на специальном лифте. Мой брат Рауль и я ворчали, когда нам выпадало доставлять ему еду, особенно если это бывал горячий суп, но мама требовала, чтобы мы были терпимы к мистеру Соломону, потому что это человек, который «прошел сквозь огонь испытаний». Единственный раз мистер Соломон покинул свою комнату, чтобы научить нашего папу готовить свинину. Сначала он натер свежий окорок солью, потом принес шприц и напитал красное мясо селитрой и другими консервантами. Потом он запаковал окорок и наказал маме хранить его три месяца в холодильнике. Мама сказала, что мистеру Соломону, наверное, надоела рыба.
Когда к нам переехали Эден и Лина, я перебралась спать к маме в комнату. Сестры были домовитые и быстро придали моей комнате прелестный вид, повесив ситцевые шторы и покрыв кровати вышитыми покрывалами. Под кроватью они держали множество коробок с консервами, главным образом с молоком для ребенка Эден. К стропилам была подвешена корзина, и в ней спал ребенок.
Отец Лины и Эден был братом моего отца, и обычно они жили в Кабанатуане, где держали рисорушку. Детьми мы нередко играли в бейсбол на цементной площадке возле амбара, когда перед войной ездили в деревню на каникулы. Их мать держала ресторанчик под названием «Отдых у Эден», где подавали густой динугуан[53]53
Динугуан – блюдо из нарубленных кишок и свежей крови крупного рогатого скота с уксусом, чесноком и пряностями.
[Закрыть] прямо из глиняного котла. Тетушка Канденг совершила ошибку – она вечно играла в любимчиков. От нее только и слышали: «Эден прелестна, Эден выпускница, моя дочь Эден…» О Лине ни слова. Лина гоняла по округе в драных платьях и играла в cara y cruz[54]54
Орлянка (исп.).
[Закрыть] с парнями, работавшими на рисорушке. На восемнадцатилетие Эден сняли сад на крыше муниципалитета и устроили грандиозный бал. Платье было заказано в Маниле и стоило триста пятьдесят песо. Местная косметичка целый день трудилась над ее лицом и прической. Они прислали нам фотографию 8×10 – «дебют Эден» – с рисованным водопадом на заднем плане.








