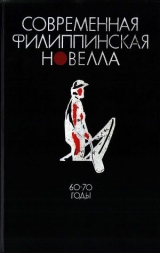
Текст книги "Современная филиппинская новелла (60-70 годы)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Перевод И. Подберезского
Как жена члена правления университета, она должна была блюсти приличия, а тут вдруг явилась в юбке ярко-красного цвета, и все были скандализованы – особенно те, кто полагал, что ей вообще не надо было приходить. Член правления Рейес, шествуя на шаг позади, пытался скрыть неловкость, объясняя всем и каждому, что они только что с официального обеда – в конце концов, всем должно быть известно, что его жена обладает безупречным тактом. Однако, насколько я знал Дину, она оделась так не без умысла; скорее всего, она хотела досадить декану Монтесу, этому монстру с гуманитарного факультета (а заодно и его сторонникам), – он тотчас же поднялся со своего места и начал порхать от одной церковной скамьи к другой, прочно зажав в зубах трубку, призванную придать строгий академический оттенок сплетням, которые он сеял вокруг, как заразную болезнь, а Дина молча стояла возле гроба Фаусто, совершенно одинокая, несмотря на присутствие Рейеса, погруженная в свои непроницаемые мысли.
Декан Монтес добрался наконец до нас и, коротко кивнув Пат, выплеснул на всех свое нечистое возмущение.
– Вы только подумайте – явиться в красном?! Как будто ничего не случилось! Все и так достаточно тягостно!
Прежде чем Пат нашла что ответить, я с поразившей меня самого ясностью сказал:
– Вы глупы, как осел.
Трубка в огромном рту декана дрогнула. Наверное, он хотел что-то возразить, но не справился с задачей. Отвернувшись, он обратился к стоящим рядом с прежней энергией, хотя и в некотором замешательстве.
А затем я услышал голос Пат:
– Ну вот, опять мне придется работать. Надеюсь, на сей раз к тому есть основания.
Я поспешил заверить ее, что меня не уволят за эту сентенцию, да и ни за какую-либо другую; член правления Рейес тоже слышал, ведь у него два уха, и декан Монтес, при всей его шумливой болтовне, не мог монополизировать оба.
– Все же ей не следовало приходить в красном, – сказала Пат.
– У нее есть на то причины, я уверен, – сказал я.
– О да, у Дины всегда есть причины.
По интонации, с которой она произнесла эти слова, я понял, что сейчас она погрузится в оскорбленное молчание. Но Фаусто был моим ближайшим другом, и печальные обстоятельства требовали, чтобы я предпочел скорбь по умершему другу семейной гармонии. Тем временем соболезнующие повалили толпами, стало тесно и душно, мы с Пат опять оказались рядом, она жаловалась на жару, я соглашался и бормотал что-то насчет неожиданного притока доброжелателей на отпевание. Я почему-то думал – и эта мысль пришла мне в голову не без помощи декана Монтеса, – что многие явились лишь для того, чтобы удостовериться, что Фаусто наконец-то мертв.
– Когда я умру, – прошептал я Пат, – избавь меня от всего этого. Облей мой труп бензином – можно даже импортированным – и мирно сожги меня.
– Гореть тебе непременно, – ответила она, – но не в этой жизни.
Я оставил ее замечание без последствий, потому что декан Монтес уже взгромоздился на возвышение у гроба и, держа микрофон возле трубки, взирал на нас сверху вниз. Торжественно и неторопливо он начал представление: вынул трубку изо рта, положил ее в карман, посмотрел на кончики башмаков, слегка дотронулся пальцем до носа, затем отверз уста и заговорил.
Начал он с того, что мы, филиппинцы, не имеем чувства трагического. В отличие от греков мы считаем трагедией любое несчастье и стихийное бедствие – от тайфуна до автомобильной катастрофы. Но то, что случилось с Фаусто, «которого мы с любовью называли просто Тинг», – подлинная трагедия. «Это, – сказал он, – трагедия разума в неразумном мире».
– Жандармы, янычары, все так называемые служители закона считают, что это не трагедия, а всего лишь результат ссоры, тогда как на деле это было необдуманное, а может быть, и обдуманное убийство. Тинг, как и все мы, имел свои недостатки, но он всегда отвергал насилие, хотя мы не раз поражались агрессивности его ума.
Его судьба – это судьба Мерсо, героя Камю, который вдруг обнаружил, что он находится в мире абсурда. Для нас останется загадкой, что заставило Тинга отправиться в злачные места на бульваре Рохаса. Нам говорят, что ссора вспыхнула из-за некой женщины, из-за «голубки низкого полета», но, если это и так, если в том была его вина, его проступок, мы, гуманисты, не можем допустить, чтобы этот проступок скрыл от нас подлинный смысл его трагедии. Обвинять его самого – будь то из чувства дружбы или любви к нему – означало бы предать его, означало бы быть лицемером.
Декан Монтес сделал паузу, чтобы насладиться эффектом; Дина встала с первой скамьи и, размеренно ступая, быстро вышла, сопровождаемая послушным членом правления Рейесом. Когда они проходили мимо нас, я услышал, как Рейес жаловался: «Ведь ты же сама просила прийти». На что Дина ответила, что, к ее сожалению, речь оказалась скучной.
Пат, которая всегда отличалась наблюдательностью, тут же пожелала узнать, что случилось между деканом Монтесом и Диной.
– Это секрет.
Но я не добавил ни слова. Торжественный фарс начал и мне действовать на нервы, я чувствовал, что, если декан Монтес будет и дальше демонстрировать свою эрудицию, я отниму у него микрофон и расскажу прихожанам все как было.
Мать Фаусто, старая крестьянка, тихо, но не скрывая слез плакала; она понимала только, что все эти выдающиеся люди, эти «интеллигенты», оплакивали ее дорогого сыночка. Она не могла даже представить, что большая их часть пришла только затем, чтобы похоронить его.
Судя по тому, что речь Монтеса стала громче на несколько децибелов, он приближался к концу.
– Он был одним из нас, – гремел декан, – лучшим из нас, потому что у него был острый ум и страстное сердце. Иногда невозможно было соглашаться со столь яркой индивидуальностью, но и спор с ним всегда доставлял наслаждение, потому что он обладал безжалостной логикой и чувством собственного достоинства. Нам будет не хватать его превосходства, того превосходства, о котором Аристотель говорил в своей «Этике»; да, нам будет не хватать его.
Окончив речь, декан Монтес отошел в сторону – он выглядел вымотанным и обессилевшим. Старые девы факультета, высохшие, как чернослив, подошли к нему и с похоронной торжественностью принялись пожимать ему руку. Пат тоже обронила слезу.
– Ты знаешь, он мне нравился, – сказала она. – Он был невозможным человеком, только ты мог ладить с ним, но он мне нравился.
– Я знаю.
И вот тут-то я допустил ошибку. После речи Монтеса мне совершенно необходимо было глотнуть свежего воздуха и выкурить сигарету, а потому я направился к выходу, оставив Пат среди старых дев, которые, раздувая ноздри, окружили ее, чтобы удовлетворить ее любопытство. Она не была в университете со времени последней встречи выпускников, так что у старых дев было что рассказать, в том числе и самую сенсационную историю – о гибели Фаусто. Через некоторое время она начала обстреливать меня быстрыми взглядами – это означало, что от меня потребуют объяснений.
– Лучше начни с самого начала, – спокойно сказала она, устроившись поудобней в машине.
– Зачем? Эти старые суки с гуманитарного факультета наверняка все рассказали.
– А теперь я хочу послушать тебя. Ты всегда все так хорошо объясняешь, а они только выразили свое негодование и возмущение.
– Я всего лишь антрополог, – сказал я. – Эта дисциплина не относится к числу гуманитарных.
Она помолчала, а потом спросила:
– Кто она такая на самом деле?
Тут я еще раз пожалел о том, что когда-то сам убедил Пат специализироваться по психологии. Задав этот простой и ясный вопрос, она, если я промолчу, оставляла за собой право думать что угодно о Дине, о Фаусто и, конечно же, обо мне.
Это раздражало меня, и я промолчал.
– Ну ладно, – сказала она. – Тогда зачем она пошла на это?
– Пошла на что?
– Черт побери! На связь с Тингом, вот на что.
В это время мы проезжали университетскую лужайку для гольфа. Я остановил машину, оставил ключ зажигания – на случай если она сама сядет за руль – и решил пройти оставшийся путь пешком. Через несколько шагов я услышал, что Пат бежит за мной. Она чуть не плакала.
– Неужели ты не понимаешь? Где ты найдешь более идеальную пару, чем Рейесы? Чего ей не хватало, зачем понадобился Тинг? Пожалуйста, дорогой, я ведь не хочу сказать ничего плохого. Я просто действительно хочу знать.
Я внимательно посмотрел на нее, стараясь понять, не кроется ли за всем этим ирония; но нет, она была действительно расстроена, и тут я впервые понял, каким ударом было для всех супружеских пар университета узнать, что между Диной и Фаусто было «что-то». Люди неглупые, чувствительные и, несмотря на свои умные разговоры, застенчивые, Фаусто и Дина своей любовью действительно разрушали все основания университетского бытия. Молящий взгляд жены ясно говорил об этом.
Она была честна; она не могла понять, что произошло: если это случилось с Диной, то могло случиться и с ней, это пугало ее, и я только теперь уловил этот страх. Что до меня, то я всегда воздерживался от суждений по моральным вопросам и не занимался самоанализом в течение тех нескольких месяцев, что Фаусто постепенно, намеками и предположениями, рассказывал мне о своей тайной любви.
– Почему бы не предположить, – начал я, чтобы испытать ее, – что это был один из зауряднейших случаев, о которых мы то и дело слышим?
Пат раздраженно вздохнула.
– Нет, – сказала она. – Ты же меня достаточно хорошо знаешь. Ничего заурядного не могло произойти с Диной – да и с Фаусто, если уж на то пошло.
И все же я совершенно откровенно объяснил ей, что действительно не знаю, с чего и как начать. Может быть, все началось на коктейле, который член правления университета Рейес устроил в прошлом семестре. Как всегда, Дина была безупречна: оживлена, но в то же время и несколько отстранена – настоящая хозяйка. Пат была среди своих; они обсуждали то, что невинно называли импотенцией своих мужей, – их обязанности, расписание, светские мероприятия и официальные приемы, ничего общего не имеющие с академической жизнью, словом, довольно пустой разговор, неприличный по форме, но вполне невинный по содержанию. Я уже давно терпеть не мог этой пустой болтовни, а потому бесцельно бродил по комнате от группы к группе, и как раз в это время вошел Фаусто, оглядел всех со своим обычным чувством превосходства, поскольку он не выносил коктейлей и присутствовал на них исключительно по обязанности. Я решил прийти на помощь Дине, так как опасался, что в ответ на ее стандартное для хозяйки «рада, что вы пришли» она услышит столь же стандартное для Фаусто «у меня не было выбора». Я представил их друг другу, сообщив – и не без некоторого основания, – что Фаусто гений в своем инженерном деле, а к тому же обладает даром писать довольно грязные рассказы, что побудило Дину спросить: «Скажите, профессор, почему вы все же пришли сюда – с такой неохотой, да еще в первом же семестре?»
Фаусто засмеялся своим обезоруживающим смехом и сказал:
– Мадам, это только потому, что я не знал хозяйки.
Дина явно старалась обворожить Фаусто, но в этом не было ничего необычного. Все знали, что она обожает умный разговор, а кроме того, учитывая репутацию Фаусто как человека, уходящего с приемов всегда не вовремя, она, видимо, принимала вызов. Что до Рейеса, то он со своей стороны настаивал на том, чтобы принять Фаусто на факультет, и это несмотря на возражения декана Монтеса: Рейес был уверен, что уж он-то сумеет перевоспитать этого на редкость недисциплинированного человека. Во всяком случае, на том коктейле Рейес и его жена наслаждались обществом Фаусто.
– Любовь с первого взгляда? – спросила Пат без всякой иронии.
– Просто любовь, – сказал я, в точности повторяя слова Фаусто.
– Но ведь она замужем – и трое детей! Я знаю, конечно, что Дина очень привлекательна, но все равно, Тинг мог бы выбрать кое-что получше. Если только это не…
– О нет, не это, – быстро перебил я ее. – Что до продвижения по службе, он был на редкость не амбициозен.
– Тогда это сумасшествие.
Я заметил на это, что быть непонятным для других еще не значит быть сумасшедшим. Я напомнил ей, как однажды она принялась подтрунивать над Фаусто и прошлась насчет его нездорового одиночества. Тогда он медленно выпрямился – он всегда выпрямлялся, когда хотел объяснить что-либо поточнее, – и сказал, что женщина, которая не осознала свои возможности и не готова реализовать их, не может интересовать его и что, к сожалению, женщина, которая может заинтересовать его, как раз по этой причине, скорее всего, окажется замужней, потому что замужняя женщина, познавшая мужчину и муки родов, имеет «измерение».
– Да ведь это же прелюбодеяние, – воскликнула тогда Пат, думая, что Фаусто старается шокировать ее.
– Нет, я говорю о любви, – ответил ей Фаусто. – Но и среди замужних такая женщина будет редкостью. Вы, женщины, очень уж легко скатываетесь в домашнее благодушие.
По мере того как она припоминала тот давний разговор, лицо ее светлело. Теперь она была уверена, что тогда Фаусто хотел излить душу, чтобы снять чувство вины.
Я сказал ей, что она никогда не поймет ни Дину, ни Фаусто, если будет мыслить обычными категориями, тут нужны совсем иные понятия. Она должна осознать, продолжал я, что замужество запрещает прелюбодеяние, но оно не в силах запретить любовь. Поэтому здесь я не стал бы даже употреблять слово «роман».
– Но ведь мы живем в обществе, – сказала она.
– Тем не менее есть личности, которые живут вне его.
– Но разве это возможно?
– Думаю, да. Помнишь, ты сама не раз говорила, что, несмотря на весь свой блеск, Фаусто не имеет искорки? Ты знаешь, это верно. Он считал, что жизнь бессмысленна, и не думал о ней. Дина заставила его задуматься. И все равно – ему было трудно, потому что он знал: ей было что терять. А потом и декан Монтес что-то учуял – такие вещи всегда привлекают внимание злых людей – и, конечно, не оставил его в покое. О нет, дело не в том, что Монтес узрел здесь нарушение морали, у него у самого есть любовница на кафедре английского языка. Но Монтес знал, что Рейес высокого мнения о Фаусто и даже прочил его в заведующие кафедрой, а Монтес считал, что там должен быть его человек. Вот тогда Монтес и пустил слух, что Фаусто использует Дину из карьеристских побуждений. Фаусто следовало бы попросить об отставке, но для такого бескомпромиссного человека это означало бы признать свою вину, а он никакой вины не чувствовал. Да и Дина не приняла бы такого решения, она скорее отказалась бы от него, чем согласилась загубить его карьеру. «Ты знаешь, – сказал он мне тогда, – карьера для меня ничто. Дина – моя жизнь. И ничего больше».
– Тогда почему же он не подал в отставку?
– И тем подтвердил бы, что Монтес прав? Знаешь, это даже как-то не по-мужски. Раз или два Дина предлагала перестать встречаться, ссылаясь на то, что это повредит ее семье, особенно детям, но Фаусто только погрузился в тягостное молчание, а потом сказал: «Я не лампочка, которую можно включать и выключать». Напрасно она пыталась взывать к здравому смыслу – она уже сама в него не верила. Но все же они жили в реальном мире, а он, знаешь ли, вполне осязаем, и давление его весьма чувствительно; для них оно облегчалось только счастливыми часами, проведенными вместе. Она знала, что не сможет оставить его против его желания, чем бы это ей ни грозило.
– И Рейес никогда так ничего и не заподозрил? – спросила Пат.
– Откуда мне знать? Может быть, Рейес был слишком порядочен или слишком занят, чтобы подозревать свою жену в чем бы то ни было. Я знаю только, что его открытые похвалы в адрес Фаусто, предсказание ему великого будущего побудили декана Монтеса прибегнуть к тому, что он называл «решительными действиями». Скоро начали шептаться – впрочем, достаточно громко для того, чтобы Дина могла услышать, – что на заседании правления университета скоро будут сделаны «потрясающие разоблачения». Монтес сам мог стать жертвой борьбы за власть в университете, дело тут не только в том, что его считали слишком большой посредственностью и не давали места, к которому он стремился.
– Не хочешь ли ты сказать, что Рейес воспользовался глупостью Монтеса, чтобы погубить Тинга?
– Я не исключаю такой возможности. И все же никто не был так потрясен известием о смерти Фаусто, как Рейес; хотя, правда, он заметил, что, видимо, переоценил его. Он сказал, что не может понять, как человек из университетского мира мог посещать дома сомнительной репутации.
Но я-то знаю, я был с Фаусто в тот вечер, когда его убили. Он был на грани отчаяния. Он сказал, что губит Дину самим фактом своего существования, потому что для него существовать значило любить ее и быть любимым ею. И еще он сказал, что Дина на краю гибели только потому, что он жив.
– Я постарался успокоить его, уверял, что все не так плохо. Он встал и сказал, что убежден, что я сам не верю своим словам. Потом он исчез.
– Он уже тогда думал убить себя?
– Возможно. Трагедия Фаусто в том, что он стоял на своем, следовал своей логике и не мог поступиться своим достоинством. Он считал, что если их любовь будет продолжаться, она погубит Дину в глазах общества. Монтес безжалостен… Но если бы он сам покончил с собой, последствия были бы тоже непредсказуемы. Он хотел смерти, но такой, которая оттолкнула бы от него Дину, освободила бы ее от него.
– Так значит, – воскликнула Пат, – он намеренно пошел туда и ввязался в ссору! Но это же просто глупо и – и благородно! Так вот почему она пришла в красном – она чувствовала себя оскорбленной человеком, который, как она думала, не мог совладать с низменной похотью.
Я возразил, что у нее получается все слишком просто и гладко. Разве не могло быть, что Фаусто дал Дине возможность публично отречься от него и что она воспользовалась этой возможностью? Этот спектакль ставили люди достаточно утонченные. Никто не знал Фаусто так хорошо, как она, и сомнительно, что она могла ошибиться.
– Но разве Фаусто был способен на такой спектакль?
– Да, это кажется странным, – согласился я. – Но ведь и она – она же готова была страдать ради него…
– Он мог предложить ей только свою жизнь. Да, она готова была страдать – но как долго?
Я спросил ее, допустимо ли психологически любить незаинтересованно. Считается, что если мужчина любит женщину, то он желает ей счастья. Но в данном случае счастье означало агонию – ситуация невыносимая. Обычно выход из положения один: расстаться и претерпеть муки индивидуально. Но неумолимая логика Фаусто говорила ему, что жизнь потеряет смысл без страданий и без счастья, а поскольку они были условием его существования, единственным выходом было покончить с собой.
Пат занялась косметикой. Прежде чем ответить, она заглянула в детскую и лишь потом сказала:
– Может быть, это и так в отношении Фаусто. Но как насчет Дины? Возможно ли вообще, чтобы люди со столь различным прошлым и воспитанием так привязались друг к другу?
– Тогда я задам тебе очень личный вопрос. Если бы ты была на месте Дины, удалось бы тебе избежать всего этого?
– Ну и вопрос! – воскликнула она и прыгнула в постель.
– Нет, ты только предположи, – сказал я. – Ты верная жена и мать, лучшую часть жизни ты посвятила мне – и вот тут вдруг встает вопрос, неужели это все, неужели только это значит быть женщиной – посвятить себя мужчине, за которого ты вышла замуж, и больше ничего?
Она села в постели и подозрительно посмотрела на меня.
– Уж не думаешь ли ты сам обзавестись любовницей?
Я улыбнулся той улыбкой, которую она называет «улыбкой превосходства». Этими словами она уже ответила на мой вопрос: для нее быть женщиной означало только это.
Собственно, я даже не удивился, когда она задала свой последний вопрос:
– Я полагаю, Монтес теперь окажется на коне?
– Нет, – ответил я. – Полагаю, на коне окажусь я.
– Смерть Тинга, конечно, трагична, но не бесполезна, – сказала она и закрыла глаза.

© Перевод – издательство «Художественная литература», 1981 г.
Перевод И. Подберезского
Раньше я знал одиночество только в первые часы рассвета, подле спящей женщины. Но и тогда я был не совсем одинок. Ее вольно лежащее тело, готовое при малейшем прикосновении свернуться, как макахийа[62]62
Макахийа – травянистое растение со стрельчатыми листочками, которые сворачиваются при прикосновении; на Филиппинах – символ женской стыдливости (само слово «макахийа» означает «застенчивая»).
[Закрыть], отвлекало и занимало меня.
Но не к чему тратить время на тоску по прошлому. Если сейчас я остался в одиночестве наедине со своими мыслями, то пусть они послужат мне: я поведу беседу с самим собой. Кто я? Может быть, я – мое княжество, и только. Никакой народ никогда не стремился к счастью так, как мой, а теперь мне надо научить их умирать. Смерть для нас всегда была естественным и желанным концом полностью исчерпанного существования, а теперь я должен показать им другое лицо смерти – смерти враждебной.
Как это Лунингнинг сказала однажды? Ах, да: когда-нибудь боги накажут нас за наше счастье. Тогда я еще подумал, что ее слова – всего лишь выражение тщеславия любящей женщины; кроме того, она была жрицей и нарушила обет священного девства. Я даже не улыбнулся, ведь я раджа, я должен поддерживать благочестие хотя бы внешне. И все же она сказала правду. Если боги существуют, то, может быть, наше чрезмернее счастье оскорбило их? Будь я более набожен, я бы сказал, что кощунствовал, когда говорил, что счастье – это дар человека самому себе, а не милость богов.
Но я не мог предать наследие предков. Мой покойный отец завещал мне одно – стремиться к счастью. Это при нем были достроены палисады, мы победили опасности морей, достигли совершенства в искусстве войны. И оставалось только наслаждаться миром. Он взял меня за руку, привел на край палисада и сказал: «Я сделал свое дело. Ты должен сделать свое, другое. Мне нечего посоветовать тебе. Сколько мы помним себя, раджи всегда строили этот палисад. Теперь он построен. Что дашь народу ты? Посоветуйся с богами». На мои плечи лег тяжелый груз. Я отстранился от людей, я молился и размышлял, но не получил откровения. А потом явилась Лунингнинг, вестница богов, но и ей нечего было сказать. Зато была она сама, ее красота, ее молодость и ее женственность – у жрицы их не должно быть… Когда на смертном одре отец последним взглядом жадно вопрошал меня, я произнес только одно слово: счастье. Но я не сказал ему, что не боги вразумили меня, что я сам додумался до этого в муках одиночества.
Над нами было небо, под нами земля, и они были отданы нам. В день погребения отца я велел петь и танцевать, велел одеться в одежды цветов радуги. Я запретил плакальщицам оплакивать раджу, достигшего столь многого. И мой народ с радостью принял превращение погребального обряда в гимн радости. Как сказала Лунингнинг, даже боги не были так взысканы счастьем, как мы, но я знал: она боялась, хотя никогда не показывала этого и всецело подчинилась духу нового правления.
Мой народ познал радости, которых ранее удостаивались только дети раджей, и даже рабы не были обделены ими. Эти грубые крестьяне, которые совсем недавно со стонами обрабатывали землю и ходили переваливаясь по-утиному, от которых несло потом и грязью, которые занимались любовью словно пахотой – да, именно так они проявляли самые нежные чувства, – эти неотесанные люди вдруг открыли для себя сладость песнопений, изящество танца и радости нежной страсти, которая теперь проявлялась столь утонченно. Княжество мое процветало, и процветало буйно – как иначе мы могли бы удовлетворить наши раскрепощенные запросы? Китайские шелка и благовония, бусы и украшения из душистого сандалового дерева показали нашим женщинам, насколько они красивы, а их красота стала для наших мужчин источником доблести и мужества. Наша роскошь заставила как-то одного торговца из Китая заметить, что у самого ничтожного моего подданного вкус, как у императора его страны. Что до этих торговцев, то, конечно, они уезжали от нас богаче, чем приезжали, но они были не богаче нас. Обладать богатством – ничто; мы умели пользоваться им, наслаждаться удовольствиями, которые оно может доставить. Все это не привело к вырождению, потому что наши игры были столь же мужественны, как наш вкус изыскан. Мы не разучились обрабатывать землю – о том свидетельствуют палисады и наши поля; мы проявляли доблесть в играх, требующих больших усилий, и они тоже доставляли нам удовольствие. Чаще всего тот, кто может больше всех выпить, оказывается у нас самым пылким любовником и самым сильным пловцом. Да, мы любим тело и прислушиваемся к его запросам, наш разум изобретает все новые и новые удовольствия, и, конечно, мы любим наши песни и танцы, они являются частью нас самих. А испанцы пришли, чтобы уничтожить все это.
Мой мудрый дядя, великий Лакандула, кажется, верит в дружеские слова испанцев. Но я чувствую, что в сладких словах Легаспи[63]63
Мигель Лопес де Легаспи – испанский военачальник, возглавивший экспедицию военной эскадры к берегам Филиппин в 1565 г.
[Закрыть] – ложь. Он говорит, что пришел как друг, что не будет требовать дани, что будет уважать наши обычаи. Но это слова завоевателя. Простой гость никогда не употребляет таких слов: все уверения Легаспи призваны усыпить нас. Я всегда с отвращением буду вспоминать, что мы заключили с ним кровный союз – я пил кровь этого человека, но лишь из уважения к старшему, к Лакандуле; ведь уважение – это единственное, чего он может требовать от меня. Но зато я с удовольствием вспоминаю, как горели хижины моего княжества и как пламя привело захватчиков в смятение. Неужели они всерьез думают, что могут взять то, что принадлежит только нам? Пепел Манилы встретил их. Но Манила жива; она – лезвие моего меча. Лакандула считает, что испанцы непобедимы, но я видел их кровь. Их предсмертные вопли так же пронзительны и жалобны, как вопли моих самых тщедушных воинов. Их не меньше страшит насильственная и мучительная смерть.
И в то же время я чувствую в испанцах силу, которая внушает мне чуть ли не страх, но которая только укрепляет мою решимость уничтожить их любой ценой. За Легаспи все время следует фигура в капюшоне, его верховный жрец, самый свирепый его советник. Я не могу себе представить, как верховная жрица могла бы вмешиваться в мои дела, но у них воин и жрец неразлучны, а это дурное предзнаменование для нас. Я боюсь этого союза, он ужасен, его не должно быть. Власть всегда должна источать благожелательность, хотя иногда ей и приходится быть неумолимой. Но еще хуже – сам вождь у них источает высокомерие, считает себя чуть ли не богом. Никак не могу забыть отвращения, которое я испытал, когда Легаспи сказал, что он пересек моря по воле бога (коварно подразумевая при этом, что то был и наш бог) и во имя короля, – но тогда зачем он обратился ко мне, а не к жрице? Лунингнинг даже в минуты божественного экстаза не доходит до такого самообожания, и уж никакой бог никогда не учил нас грабить другие княжества.
Высокий толстый Легаспи никогда не убедит меня, что прибыл с другого края света только для того, чтобы заключить со мной кровный союз. Хотя из уважения к Лакандуле я согласился совершить обряд побратимства, я знал, что с самого начала он не имеет силы: раз у испанцев есть свои обряды и боги, они не станут уважать наших. Все это было лишь уловкой. Я честно могу сказать, что не собираюсь выполнять клятвы, принесенные по их обычаю, равно как они не собираются следовать клятвам, принесенным по нашему обычаю, – ведь это означало бы, что они не блюдут свои законы. Больше всего я сожалею о том, что мне пришлось нарушить наши законы. Сам я не очень привязан к традициям племени, но на мне лежит наследственная обязанность хранить их чистоту, так что этот горький опыт только усиливает мою решимость сразиться с пришельцами.
Однажды утром они неожиданно появились на горизонте, словно вышли из глубин моря. Их корабли стали на якорь слишком далеко, и наши пушки не могли их достать. Самые невежественные из рабов и даже некоторые свободные люди сначала решили, что белые паруса – это души наших ушедших предков. Лунингнинг нелегко было разубедить их. Эта прекрасная и страстная жрица оказала неоценимые услуги – без нее я не мог бы править своими подданными, как я хотел. Мы с ней были так неразлучны в отрочестве, что отец даже усомнился в моем мужестве и вне себя от отчаяния велел одному из своих свободных людей сразиться со мной, чтобы испытать меня. Конечно, меня никто не собирался убивать, но я ничего не знал об этом похвальном умысле, а потому тот свободный поплатился жизнью. Ни мой отец, ни его люди не могли знать, что в искусстве боя я превосходил любого человека, потому что обучился ему тайно. Это была идея Лунингнинг (она всегда мыслила как жрица) не показывать мое умение до времени, чтобы поразить подданных, когда придет час. А лучшее время было – состязание воинов, до той поры я скрывал свои таланты бойца и показывал только дар пения и танца. Должно быть, отца смущали мои чрезмерные успехи в этих «женских» искусствах, он мало ценил их, так как в молодости был крепок духом и телом; я же в отличие от него был строен, легконог, надушен, и речь моя была изящна. Таким стало и все племя Сулимана – соколы в павлиньих перьях; но в то время склонность к роскоши была достаточной причиной для скандала. А то состязание воинов, в котором, я знал, я превзойду всех, нужно мне было не для самоутверждения, а для успокоения моего отца. Не все упражнения представляли для меня интерес, а только военные, но тоже не все, а лишь такие, которые требовали ловкости и ума. Ибо даже телесная любовь, для того чтобы давать полное удовлетворение, должна быть игрой ума, поиском. И, несмотря на эти мои убеждения, я еще в юности считался слишком чувственным, что, видимо, было неизбежно; ведь люди судят обо всем по внешним проявлениям, и что может казаться им более чувственным, чем страстное обожание женщины? Да, я чувствен, но слава покорителя женщин не увлекает меня, как увлекает она сыновей Лакандулы. Я всегда стремлюсь познать нечто новое, и малейшего подозрения, что я становлюсь жертвой привычки, для меня достаточно, чтобы воздерживаться месяцами. Тогда я превращался в аскета и находил в воздержании эстетическое наслаждение; я становился созерцателем и довольствовался обществом старейшин. Особенно мне нравились беседы с Пандай Пира, этим великим мастером, вечно полным идей о том, как успешнее лишать людей жизни. Его преданность искусству умерщвлять в сочетании с теплой человечностью казалась мне парадоксом, который не мог не занимать пытливый ум. Счастье, что с нами этот великий мастер, иначе мы стали бы легкой добычей испанцев. Вот так выходит, что всякое умение сгодится в свое время. И я рад, что даже во времена мира и процветания я находил работу для Пандай Пира, заставляя его изготовлять оружие лишь для украшения, а потому он никогда не чувствовал себя ненужным – а мог бы, если бы я разделял предрассудки других, считавших его искусство бесполезным. Между прочим многие и по сей день так относятся к его искусству, и это не прибавляет нам сил. Сейчас, когда мы испытываем на себе тяготы войны, мои люди начинают презирать никчемных поэтов, вот почему я потребовал, чтобы эти сладкоголосые певцы научились держать в руках оружие, и теперь я знаю: они умеют умирать. Но им еще придется показать себя, слагая песни. Вряд ли верно мнение, что поэты питаются падалью, паразитируя на наших грезах, но если это и так, они очищают жизнь, отделяя мертвечину от живого духа. Если они и стервятники, то все же высвобождают в нас истину и чистоту, которые часто подавляются смертной плотью.








