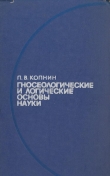Текст книги "Философия Науки. Хрестоматия"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 93 страниц)
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОГДАНОВ (МАЛИНОВСКИЙ). (1873-1928)
А.А. Богданов – российский ученый и философ. В 1899 году окончил медицинский факультет Харьковского университета. Со студенческих лет активно участвовал в революционной борьбе. С 1911 года отошел от политики и переключился на научно-преподавательскую, научно-организационную и писательскую деятельность. С 1921 года посвятил себя естественно-научным исследованиям; организовал Институт переливания крови и был его директором. Метод трансфузий (переливания крови) он рассматривал как возможность применения в медицине положений, развиваемых «всеобщей организационной наукой», как средство повышения жизнеспособности организма, продления человеческой жизни. Наиболее рискованные опыты Богданов проводил на себе. Двенадцатый эксперимент закончился для него трагически – тяжелой болезнью и смертью.
За тридцать лет своей работы Богданов написал ряд оригинальных трудов в области политической экономии, философии, истории идеологий и проблем пролетарской культуры. Венцом его творческой деятельности явилась «Тестология. Всеобщая организационная работа».
Исходный пункт тектологии – признание необходимости подхода к изучению любого явления с точки зрения его организации; любую систему (комплекс) следует изучать с точки зрения как отношений всех ее частей, так и отношений ее как целого со всеми внешними системами. Законы организации системы едины для любых объектов.
Выделяется три рода комплексов. Организационный комплекс – «целое больше суммы частей» (при этом чем больше целое отличается от суммы самих частей, тем более оно организовано). В неорганизованных комплексах целое меньше суммы своих частей. В нейтральных комплексах целое равно сумме своих частей. Основные организационные механизмы – механизмы формирования и регу лирования. Универсальный регулирующий механизм – «подбор» («отбор») как положительный, так и отрицательный. Взаимодополняя друг друга, оба отбора стихийно организуют мир.
Следует отметить, что идеи тектологии по меньшей мере созвучны идеям (и даже предвосхищают их) появившихся позднее таких общенаучных направлений, как кибернетика, общая теория систем, структурализм, теория катастроф и синергетика. Так, например, один из основных принципов кибернетики – принцип обратной связи – полностью соответствует тектологическому «механизму двойного взаимного регулирования» («биорегулятор»),
Богданов понимал тектологию как «развитую и обобщенную методологию науки», для него методологическая ценность тектологии была несомненной.
М.М. Чернецов
Фрагменты текстов приведены по изданию:
Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн. 1, 2. М.: Экономика. 1989.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Весь опыт науки убеждает нас, что возможность и вероятность решения задач возрастает при их постановке в обобщенной форме. (Кн. 1, с. 46)
<...> Всякая задача может и должна рассматриваться как организационная; таков именно их всеобщий и постоянный смысл. Раскроем его в основных чертах.
Какова бы ни была задача – практическая, познавательная, эстетическая, она слагается из определенной суммы элементов, ее «данных»; самая же ее постановка зависит от того, что наличная комбинация этих элементов не удовлетворяет то лицо или коллектив, который выступает как действенный субъект в этом случае. «Решение» сводится к новому сочетанию элементов, которое «соответствует потребности» решающего, его «целям», принимается им как «целесообразное». Понятия же «соответствие», «целесообразность» всецело организационные; а это значит выражающие некоторые повышенные, усовершенствованные соотношения, подобные тем, какие характеризуют организмы и организации, соотношение «более организационное», с точки зрения субъекта, чем то, какое имелось раньше. Это относится безусловно ко всем, действительным и возможным, задачам. (Кн. 1, с. 48)
<...> Что прибавляет к реальному содержанию задач, что убавляет в трудностях решения, если мы поняли, что все они – организационные? Отвечаю: обобщенно-осознанная их постановка дает обобщенно-сознательный подход к ним; это первый этап выработки всеобщих методов их решения. (Кн. 1, с. 49)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
<...> Исходя из фактов и из идеи современной науки, мы неизбежно приходим к единственно целостному, единственно монистическому пониманию Вселенной. Она выступает перед нами как беспредельно развертывающаяся ткань форм разных типов и ступеней организованности – от неизвестных нам элементов эфира до человеческих коллективов и звездных систем. Все эти формы – в их взаимных сплетениях и взаимной борьбе, в их постоянных изменениях – образуют мировой организационный процесс, неограниченно дробящийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в своем целом. Итак, область организационного опыта совпадает с областью опыта вообще. Организационный опыт – это и есть весь наш опыт, взятый с организационной точки прения, т.е. как мир процессов организующих и дезорганизующих. (Кн.1, с. 73)
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА В ОБОБЩАЮЩИХ НАУКАХ
<...> Планомерная организация всякого практического дела достигается именно таким образом, что участники его прежде всего столковываются – относительно цели, средств, порядка исполнения и т.д.: организационный процесс, выполняемый посредством речи и мышления, в форме «обсуждения». Школа Сократа, боровшаяся против софистов, и выработала формальную логику, систематизированную Аристотелем, чтобы дать нормы и способы взаимного убеждения людей, обсуждения, ведущего к согласию, т.е. именно взаимного столковывания. Логика оформляет относящиеся сюда организационные методы, имеющие силу не для какой-нибудь одной, а для всех специальных отраслей жизни.
Итак, мы видим, что науки отвлеченные охватывают ту долю организационного опыта, которая не ограничена рамками отдельной технической специальности, – ряд общих методов, которые применимы во всех или по крайней мере во многих из них. Если это верно для таких крайних по абстрактности наук, как математика, астрономия, логика, то тем более оно несомненно для других наук – естественных и социальных.
Но господство принципа специализации не было поколеблено развитием этих наук: они сами подчинились ему и стали особыми специальностями, самостоятельными настолько же, как любая специализированная отрасль труда. Их прогресс был облегчен и ускорен этим, но их жизненный смысл был затемнен. (Кн. 1, с. 89-90)
ПРООБРАЗЫ ТЕКТОЛОГИИ
Первая попытка универсальной методологии принадлежит Гегелю. В своей диалектике он думал найти всеобщий мировой метод, причем понимал его не как метод организации, а более неопределенно и абстрактно – как метод «развития». Уже этой неясностью и отвлеченностью исключался объективный успех попытки; но помимо того, как метод, взятый из специальной, идеологической области, из сферы мышления, диалектика и по существу не была достаточно универсальна. Тем не менее систематизация опыта, выполненная Гегелем с помощью диалектики, превосходила своей грандиозностью все когда-либо сделанное философией и имела огромное влияние на дальнейший прогресс организующей мысли. Универсально-эволюционные схемы Г. Спенсера и особенно материалистическая диалектика были следующими приближениями к нынешней постановке вопроса.
Эта последняя постановка вопроса отличается, во-первых, тем, что основана на выяснении его организационной сущности, во-вторых, тем, что в полной мере универсальна, охватывая и практические, и теоретические методы, и сознательные человеческие, и стихийные методы природы. Одни другими освещаются и поясняются; вне же такой интегральной постановки вопроса его решение невозможно, ибо часть, вырванная из целого, не может быть сделана целым или быть понята помимо целого.
Всеобщую организационную науку мы будем называть «технологией». В буквальном переводе с греческого это означает «учение о строительстве». «Строительство» – наиболее широкий, наиболее подходящий синоним для современного понятия «организация». (Кн. 1, с. 112)
МЕТОДЫ ТЕКТОЛОГИИ
Методы всякой науки определяются прежде всего ее задачами. Задача тектологии – систематизировать организационный опыт; ясно, что это наука эмпирическая и к своим выводам должна идти путем индукции. Тектология должна выяснить, какие способы организации наблюдаются в природе и в человеческой деятельности; затем – обобщить и систематизировать эти способы; далее – объяснить их, т.е. дать абстрактные схемы их тенденций и закономерностей; наконец, опираясь на эти схемы, определить направления развития организационных методов и роль их в экономии мирового процесса. Общий план этот аналогичен плану любой из естественных наук, но объект науки существенно иной. Тектология имеет дело с организационным опытом не той или иной специальной отрасли, но всех их в совокупности; другими словами, она охватывает материал всех других наук и всей той жизненной практики, из которой они возникли; но она берет его только со стороны метода, т.е. интересуется повсюду способом организации этого материала. (Кн. 1, с. 127)
Только абстрактный метод способен дать нам настоящие и универсальные тектологические законы.
На их основе станет возможна широкая тектологическая дедукция, которая будет прилагать и комбинировать их для новых теоретических и практических выводов. Правда, она может начинаться уже при наличии простых эмпирических обобщений; но тогда она, как показывает пример других наук, еще малонадежна. Когда же выяснены общие законы, то дедукцией дается твердая опора для планомерной организационной деятельности – практической и теоретической: тогда устраняется элемент стихийности, случайности, анархичного искания, делаемых ощупью попыток в труде и в познании. Полный расцвет тектологии будет выражать сознательное господство людей как над природой внешней, так и над природой социальной. Ибо всякая задача практики и теории сводится к те кто логическому вопросу: о способе наиболее целесообразно организовать некоторую совокупность элементов – реальных или идеальных. (Кн. 1, с. 133) <...> тектология в своих методах с абстрактным символизмом математики соединяет экспериментальный характер естественных наук. При этом, как было выяснено, в самой постановке своих задач, в самом понимании организованности она должна стоять на социально-исторической точке зрения. Материал же тектологии охватывает весь мир опыта. Таким образом она и по методам, и по содержанию наука действительно универсальная.
В настоящее время она только зарождается. (Кн.1, с. 134)
ОТНОШЕНИЕ ТЕКТОЛОГИИ К ЧАСТНЫМ НАУКАМ И К ФИЛОСОФИИ
<...> Различие с другими науками в их современном виде выступает уже начиная с самой постановки вопроса.
Здесь следует установить два существенных момента.
Во-первых, всякий научный вопрос возможно ставить и решать с организационной точки зрения, чего специальные науки либо не делают, либо делают несистематически, полусознательно и лишь в виде исключения.
Во-вторых, организационная точка зрения вынуждает ставить и новые научные вопросы, каких не способны наметить и определить, а тем более решить нынешние специальные науки. (Кн. 1, с. 134)
Опыт всех наук показывает, что решение частных вопросов обычно достигается лишь тогда, когда их предварительно преобразуют в обобщенные формы; и при этом вместе с первоначально поставленным решается масса других, однородных вопросов. Основное значение тектологии – в самой общей постановке вопросов.
Отсюда легко устанавливается отношение тектологии к специальным наукам: объединяющее и контролирующее. (Кн. 1, с. 140)
Методы всех наук для тектологии – только способы организации материала, доставляемого опытом; и она исследует их в этом смысле, как и всевозможные методы практики. Ее собственные методы не составляют исключения: они для нее такой же точно предмет исследования, тоже организационные приемы, не более. Так называемую «гносеологию», или философскую теорию познания, которая стремится исследовать условия и способы незнания не как жизненного и организационного процесса в ряду других, а отвлеченно, как процесса, по существу отличающегося от практики, тектология, конечно, отбрасывает, признавая это бесплодной схоластикой. (Кн.1, с. 140)
[МАТЕМАТИКА И ТЕКТОЛОГИЯ]
<...> Между математикой и тектологией имеется какое-то особенное соотношение, какое то глубокое родство. Законы математики не относятся к той или иной области явлений природы, как законы других специальных наук, а ко всем и всяким явлениям, лишь взятым со стороны их величины; она по-своему универсальна, как тектология.
Для сознания, воспитанного на специализации, самое сильное возражение против возможности всеобщей организационной науки есть именно эта ее универсальность: разве допустимо, чтобы одни и те же законы были применимы к сочетаниям астрономических миров и биологических клеток, живых людей и эфирных волн, научных идей и атомов энергии?.. Математика дает решительный и неопровержимый ответ: да, это вполне допустимо, потому что это уже есть на деле, – два и два однородных отдельных элемента составляют четыре таких элемента, будут ли это астрономические системы или образы сознания, электроны или работники; для численных схем все элементы безразличны, никакой специфичности здесь нет места.
В то же время математика – не тектология, и само понятие организации в ней не встречается. Если так, что она такое?
Ее определяют как «науку о величинах». Величина же есть результат измерения; а измерение означает последовательное прикладывание к измеряемому объекту некоторой мерки и, очевидно, исходит из той предпосылки, что целое равно сумме частей. Измерять явление или рассматривать его как величину, т.е. математически, это и значит брать его как целое, равное сумме частей, как нейтральный комплекс. А мы установили, что нейтральный комплекс есть такой, в котором организующие и дезорганизующие процессы взаимно уравновешены.
Итак, математика есть просто тектология нейтральных комплексов, определенная, раньше других развившаяся часть всеобщей организационной науки. Она обходилась до сих пор без понятий организации дезорганизации потому, что ее исходным пунктом являются сочетания, в которых то и другое взаимно уничтожается, или, вернее, парализуется. (Кн. 1, с. 123-124)
<...> Структурные отношения могут быть обобщены до такой же степени формальной чистоты схем, как в математике отношения величин; и на такой основе организационные задачи могут решаться способами, аналогичными математическим. Более того – отношения количественные я рассматриваю как особый тип структурных и саму математику – как раньше развившуюся, в силу особых причин, ветвь всеобщей организационной науки: этим объясняется гигантская практическая сила математики как орудия организации жизни. (Кн. 2, с. 310)
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ УХТОМСКИЙ. (1875-1942)
А.А. Ухтомский – русский мыслитель, ученый-физиолог. Родился в селе Вослома Ярославской губернии. Окончил Нижегородский кадетский корпус, учился в Московской духовной академии на словесном отделении, где занимался теорией познания и историческими дисциплинами. В 1899 году поступил на восточный факультет Петербургского университета, через год перевелся на естественное отделение. Ученик Н.Е. Введенского и его преемник по кафедре физиологии животных. Продолжал традиции, заложенные И.М. Сеченовым. Более сорока лет работал преподавателем Петербургского университета. С 1932 года – член-корреспондент АН СССР, с 1935-го – академик. Скончался в блокадном Ленинграде в 1942 году. Всю свою жизнь посвятил исследованию закономерностей деятельности нервных центров, причинных начал человеческих действий. В научных трудах: «Доминанта как рабочий принцип нервных центров» (1923), «Доминанта» (1966) и др. Ухтомский обосновывает принцип доминанты – системообразующего фактора, лежащего в основе объединения функционально разрозненных прежде элементов в гармоническое целое. Ухтомский полагал, что духовный организм есть энергийная проекция человека (сочетание сил). Ему принадлежит идея функциональных органов индивида и его духовного организма. Такими органами являются движение, действие, образ мира, творческий разум, состояния человека (сон, бодрствование, аффект и др.) и т.д. Функциональные органы, согласно Ухтомскому, это не механизмы первичной конструкции, а новообразования, возникающие в жизни, деятельности индивида в процессе его развития и обучения. Особый интерес для философии познания представляет эпистолярное наследие Ухтомского, опубликованное благодаря усилиям современных исследователей его творчества: «Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях» (1996), «Заслуженный собеседник: Этика. Религия. Наука» (1997), «Доминанта души. Из гуманитарного наследия» (2000). В письмах и дневниках Ухтомского содержатся идея «живого» знания и реальной познавательной деятельности человека, обоснование исторического (как диалогического) подхода к рациональному постижению действительности. Сформулированные им в письмах-размышлениях концепты: «заслуженный Собеседник», или «ближний», «хронотоп», «Двойник», или «дальний», «собеседование», «доминанта на лицо другого» и др., отчасти повлияли на формирование диалогического подхода в российской методологии гуманитарного знания.
Т.Г. Щедрина
Тексты приведены по:
Ухтомский А.А. Из записных книжек. 1930-1940 //
Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник: Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997. С. 194-200.
Обаяние логически законченных теорий без внутреннего противоречия давно миновало.
Логически закончено – для нас это в лучшем случае значит: правдоподобно, но совсем не значит, что соответствует действительности и правде! Логически законченной может быть всякая ложь. И мы научились стремиться к тому, чтобы ложь поскорее доходила до логической законченности, потому что тогда в особенности, когда она исчерпает свою логику, она впервые становится для всех очевидною ложью. Сколько в науке ложных теорий, все еще пользующихся обаянием только потому, что они не закончены и не для всех видны их логические концы! Логическую законченность без противоречий мы давно перестали считать за абсолютный критерий истины. Мы пользуемся им только, как относительным критерием для распознания ошибок. И здесь, как критерием лишь относительным для формально законченных и отпрепарированных понятий, а живых людей нельзя заставить пользоваться только школьными препаратами понятий в то время, как их реальные понятия текучи и изменчивы, как все живое.
Та реальная сила новой истории, которую мы называем наукой в современном нашем смысле, чужда рационализму и рационалистическим вожделениям с самых своих истоков в эпоху Возрождения, чужда так же, как Леонардо да Винчи чужд схоластам средневековой Сорбонны. По сравнению с древним и средневековым рационалистическим «ведением» <...> сдвинулся сам искомый идеал познания. Акцент ставится не на тонко разработанное «учение без противоречий» <...>, а на самоотверженное распознание конкретной, повседневной реальности, как она есть. Не так, как мне хочется, чтобы она была, а так, как она есть сама для себя. Отныне не реальность вращается и тяготеет около моего законодательствующего «рацио», но мой «рацио», если он хочет быть в самом деле разумным, вращается и тяготеет около реальности и ее законов, каковы они есть, независимо от моих пожеланий. На место того древнего спорщика, с каким препирался Платон в своих «Диалогах», становится сама реальность, поскольку она непрестанно ограничивает вожделения моей теории. Теория постоянно силится расползтись в универсальное учение, а факты реальности всегда вновь и вновь встают перед ней, как новые границы и новые поучения. Теория утверждает: «Вот как оно по-моему должно быть». А реальность возражает: «А вот, как оно есть!»
И вот что замечательно. Для новой науки этот беспрестанный и нигде не избегаемый спорщик уже не слепой и ненавистный, <...> всего лишь портящий ту форму, которую тщетно пытается накинуть на него художественный замысел писателя и мыслителя, – беззаконная и темная материя, непрестанно вырывающаяся из тех прекрасных законов, которым ищет подчинить ее творческий «рацио»! Нет, для Леонардо да Винчи и для Галилея это любимая реальность, к которой их «рацио» относится как влюбленный жених, считая за счастие различить и понять ее собственные самобытные черты, и у нее же впервые почерпнуть те законы, которыми она живет. Ибо новый «рацио» знает, что ее законы – это законы и для него, и без ее законов он сам для себя со всеми своими вожделениями расплывается в неопределенность и пустоту! И отныне «рацио» уже не навязывает реальности свою логику, но хочет постигнуть логику реальности, т.е. у реальности научиться ее логике!
Отсюда совсем другой критерий истины, другой и критерий для ценности самой науки: для нас это уже не самодовлеющее академическое учение, самоудовлетворенное в своем Олимпе, а способность предвидеть то, что даст нам реальность, правда то, что совпадает с действительностью. Критерий живой и практический, естественно, всегда относительный. Истинна для нас лишь та научная теория, которая в своих предвидениях и ожиданиях соответствует действительности. Если этого совпадения с действительностью нет, мы отбрасываем свою теорию, как бы красива и заманчива она нам ни казалась.
Новый ученый всегда уступает, если действительность возражает против его предвидений конкретными фактами. Он говорит себе смиренно: «Значит, я ошибался, и теория, как ни разумна, была не верна!» И он учится у фактов строить новую теорию, более близкую к фактам. Из этого прекрасного Собеседования, с одной стороны, неизбежно теоретизирующего ученого и, с другой, – всегда обновляющейся реальности родится в своем изобилии новая наука, полная неожиданностей и все новой содержательности вместо тех мертвых пустынь, в которых исчезла великая матрона – рационалистическая наука (физика и метафизика) древности.
Правда, и в новой науке воскресали, и подчас даже очень сильно, побеги древнего рационализма с его попытками гордого деспотизма над реальностью. Всякий раз, когда «истинно существующим» объявлялся тот или иной «Ding an sich» [вещь в себе. – Ред.], например, атом, молекула, электрон, а конкретной повседневной реальности отказывалось в признании, как реальному бытию по преимуществу, дело шло о воскрешении древнего рационализма. И даже далее. Всякий раз, как вновь открываемую землю, вновь открываемый вид, вновь открываемый закон школьная наука запечатлевала именем открывшего, она до известной степени пыталась противоположить свою деспотию, свои «завоевания» и «завоевателей» тому, что завоевывается, т.е. реальности и ее самобытному течению. «Вандименова земля»; «Elasmotherium Fischer»; «закон Авогадро»; «постоянная Клапейрона»! Как будто земля только и стала существовать с того момента, как ее открыл для европейцев Вандимен, и эласмотерий не имел своего места в истории без Фишера, и гадам есть дело до Авогадро, и лишь Клапейрон надоумил их придерживаться в своем поведении этого постоянного числа, чтобы все было по-хорошему! Конечно, отдаленное дыхание древнего рационализма тут так тонко, что почти уже и невинно, – мы все знаем, что в конце концов это лишь мнемоническая символика школы, не более. И если она кое-кого еще вдохновляет на рационалистический лад, то пусть вдохновляет! Все это невинно, ибо мало притязательно! Было, впрочем, и притязательное! Вот тот «космический ум» Лапласа, о котором мы вспоминали выше. Ведь он появился тоже в новой науке! Математический рационализм XVIII и XIX столетия дошел здесь опять до тех вершин, на которых история видала человека науки в классической древности! Мировые дифференциальные уравнения, из которых, не выходя из кабинета, можно в одно мгновенье восстановить без противоречия и древнюю пустыню, в которой ночевал первоначальный Израиль, а также без противоречия мгновенно предвидеть, когда Англия сожжет свой последний кусок каменного угля!
Едва успевший так ярко запылать, новоевропейский рационализм смирился очень быстро в пределах самой чистой математики. Это мы уже видели! Гаусс, Лобачевский, Риман, Брауэр и Вейль последовательно убедили его в том, что тон взят неправильно, убедили приемом, который стал классическим: доведя его логику до конца. Последовательный рационализм слишком противоречит самим основам новоевропейского натурализма и потому не мог и не может быть в нем долговременным. Хотя, быть может, попробует воскреснуть еще не раз! Ведь надеяться по-лапласовски предвидеть во мгновение все, это значило всего лишь гиперболизировать теорию насчет самобытной реальности, опять забыть о <...> непреоборимом Спорщике Истории, заставить мир вновь вращаться вокруг себя!
Но мы не забываем и уже не можем забыть о Спорщике Истории, о том, непрестанном спутнике и собеседнике, который оспаривает нас на всяком нашем пути, ибо ведь мы помним, что лишь от него впервые научаемся содержательной и живой всегда новой истине, за которой лишь поспевает наша формальная мысль и без которой она расплывается в неопределенность и самое себя съедающую пустоту. И если своего собеседника мы узнаем лишь через материю, если вне себя умеем усматривать лишь материю, а эта материя впервые учит нас мудрости, надо ей отдать всяческое предпочтение и в самом деле смотреть на нее, как на самую дорогую возлюбленную. А наше прекрасное, все расширяющееся по своим плодам собеседование о бесконечно поучительной диалектике с мудрой материей придется назвать диалектическим материализмом.
Не трудно разгадать, почему и древний, и новый рационализм становится в последних своих итогах материализмом. Будучи последовательным на своем пути, он и должен им стать; и если не становился у отдельных рационалистов, как, например, у Декарта, у Спинозы, у Пуанкаре, то из более или менее явной гетерогенности в составе их мышления. У Декарта могущественно сказывалось влияние церкви, у Спинозы – предание еврейской науки, у Пуанкаре – то, что «если наука материалистична, это не значит, что ученые все материалисты, ибо их наука не составляет для них всей жизни». <...> Там, где рационализм – система и рационалистическая наука стала содержанием всей жизни, «рацио» ткет из себя и своих требований новый мир, а собеседник его самый дальний, какой только может быть, – такой же «рацио», как он сам, не доставляющий никакого беспокойства или возражения, ибо живет совершенно теми же и единственными требованиями чистой мысли и тотчас, как двойник, понимает и повторяет то, что говорит мысль первого мыслящего. Рационалисты – это олимпийцы, перекликающиеся между собой со своих горных вершин условными знаками, столь адекватно понимающие друг друга, столь прозрачные друг для друга и мгновенно повторяющие друг друга, что, в сущности, их и нет друг для друга, – нет множественности, а есть пребывающий покой чистой мысли, чистый кристалл картезианского геометрического Универса, или «море стеклянное», о котором грезит древняя книга. Нормальный собеседник рационалистов мало того, что дальний из дальних: он так растворился в чистой и ничем не волнуемой мысли, что его собственно уже и нет, а есть одно покойное летнее небо с единым солнцем и законодательной мыслью. Порою этот великий рационалистический замысел успокоения в чистой мысли представляется небывалой красотой! Но порою он представляется не менее крайним сумасшествием. Тут все зависит от плодов. Победителей, как известно, не судят! Так или иначе, бывает полезно дойти до крайностей, чтобы видеть свое «последнее» и рассмотреть, куда ведут начатые дороги!
Если установка взята на покой чистой мысли, то все, что нарушает этот прекрасный покой, есть, конечно, досадная, в сущности, не заслуживающая существования <...> аморфная и слепая инертность, или какая-то вечная суета, во всяком случае подлежащая всяческим операциям sans gene [без стеснения, бесцеремонно. – Ред.], в лучшем случае «вещь», которую надо уметь употребить, «предмет» для операций и предначертаний мысли, «материал» для оформления и использования, «материя», с которой стесняться не приходится.
Один чистый Я (cogito ergo sum [мыслю, следовательно, существую. – Ред.]) и материя для моих безответственных перед нею операций. Так систематический рационализм неизбежно превращает среду, в которой он оперирует, в мертвую материю (чтобы оперировать над ней принципиально без ограничений), а себя самого в автократическое самоудовлетворение солипсизма (чтобы принципиально ничем внешним себя не ограничивать). Рационализм принципиально убивает среду, чтобы расчистить себе дорогу. А сам превращается в чистый солипсизм, ибо его «дальний», с которым он беседует на бесконечном расстоянии, растаял, как облачко, а его случайный «ближний», заявляющий о себе в конце концов только досадным непониманием, тем самым превращается в элемент среды, т.е. принципиально в кусок все той же мертвой материи, с которым надо оперировать sans gene.
Само собою, в мышлении рационалиста совершенно нет места категории «лица», ибо у него собственно нет и собеседника. Если по старой памяти он употребляет это слово «лицо», то лишь как «нерациональное», «житейское» понятие, в виде уступки нерациональной повседневности. Учитывание человеческого лица в практике жизни ничем для его понимания не отличается от «лицемерия». В сущности, он всегда осуждает и должен осуждать, будучи последовательным. В чем дело? Конец «лица», когда все – сплошная материя, подлежащая обработке? Затем рационалист, вполне естественно, всегда более или менее доволен своим умом и никогда не доволен своим положением. Как не быть довольным своим умом, если зацепиться более не за что? И естественно думать, что все было бы прекрасно, если бы не слепое сопротивление среды с ее инертностью и с теми нерациональными существами, которых приходится принимать, по аналогии, «тоже за людей». Этих последних приходится принимать так или иначе в расчет, потому что это, пожалуй, самые досадные, наиболее увертливые в своем сопротивлении рациональной обработке элементы среды! Великий и достойный труд, который сознает для себя рационализм, – всю эту среду и копошащихся в ней людей завоевать, подчинить себе, рационализировать! Великий труд, великое задание! Хватит ли для этого истории?
Подавленный множеством неожиданностей, которые преподносит среда и которые все вновь и вновь надо рационализировать по аналогии «тоже за людей», рационалист страждет в своем солипсизме. Но он непреклонен, как рок, как логика, и его поддерживает благородная гордость самосознания, что страждет он от неуклонности на своем ясном пути. <...>