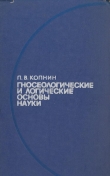Текст книги "Философия Науки. Хрестоматия"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 93 страниц)
АНРИ БЕРГСОН. (1859-1941)
А. Бергсон (Bergson) – французский философ, представитель школы «философии жизни». В европейской философии его идеи располагаются историками философии, как правило, между позитивизмом и экзистенциализмом, хотя сам он всегда отрицал свою принадлежность к какой-либо школе.
Своим основным открытием считал теорию длительности, сформулированную в работе «Опыт о непосредственных данных сознания» (1886). Он исследовал психологический, субъективный феномен длительности, обосновывая тезис о том, что время воспринимается по-разному в разные периоды жизни: детство, юность, старость, – и в разных ситуациях: общения с интересным, желанным человеком или пассивного отдыха-ожидания. Для Бергсона время как одна из координат бытия физического мира и время как мера человеческой жизни – это различные уровни реальности, которые следует изучать на разных теоретических уровнях и разными методами. Процесс познания, по Бергсону, состоит в непрерывном взаимодействии восприятия и воспоминаний, при этом здравый смысл – это такой «пласт» сознания, где память пластична, уравновешенна, энергична. Работа «Введение в метафизику» (1903) посвящена проблеме интуиции в познании. Бергсон уверен, что интуитивный акт схватывает предмет в его абсолютной сущности и полноте, раскрывая суть вещей с непосредственной ясностью и очевидностью; обрести способность к интуиции – значит изменить сам образ жизни, научиться жить в длительности, видеть в подлиннике мир и самих себя.
Становление исторического самосознания науки в XIX веке было осмыслено Бергсоном в его теории «жизненного порыва», когда на первый план выступили проблемы методологии истории, а сама реальность стала описываться как историческая. «Вселенная длится», каждый индивид имеет собственное «жизненное начало» – источник внутреннего изменения и развития, длительность возникает из столкновения двух неделимых потоков – падающей материи и восходящего жизненного порыва. Гарант и хранитель порыва – Человек, который из сферы естественной истории переходит в область человеческой культуры. Наука, по Бергсону, сможет достичь абсолютного знания, если интеллект сольется с интуицией.
В начале XX века в России вышло два пятитомных издания собрания сочинений Бергсона. Затем был почти полувековой период забвения. В наши дни Институт философии РАН готовит многотомное издание его произведений.
Н.М. Пронина
Фрагменты даны по книгам:
1. Бергсон А. Введение в метафизику // Бергсон А. Собрание сочинений в 5 т. Т. 5. СПб., 1914.
2. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998.
Что не существует двух различных способов познания сущности вещей, что корень различных наук скрыт в метафизике, – так думали, вообще, древние философы. И не в этом была их ошибка. Она заключалась в том, что они всегда проникались столь естественной человеческому уму верою, что изменение есть только выражение и развитие неизменяемостей. Отсюда следовало, что Действие есть ослабленное Созерцание, длительность – обманчивый и подвижной образ неподвижной вечности, Душа – падение Идеи. Вся эта философия, которая начинается с Платона и приводит к Плотину, является развитием принципа, который мы могли бы формулировать так: «Неизменное заключает в себе больше, чем движущееся, и от устойчивого переходят к неустойчивому путем простого уменьшения». А между тем истина как раз в обратном. Современная наука начинается с того дня, когда подвижность была возведена в независимую реальность. Она начинается с того дня, когда Галилей, заставляя катиться шар по наклонной плоскости, принял твердое решение изучить это движение сверху вниз само по себе, в нем самом, вместо того, чтобы искать его принцип в понятиях верх и низ, в двух неподвижностях, которые Аристотель считал достаточными для объяснения подвижности. И это не единичный факт в истории науки. Мы полагаем, что многие из великих открытий, из тех, по крайней мере, которые преобразовали позитивные науки или создали из них новые, могут быть уподоблены бросанию лота в чистую длительность. Чем более живой была затрагиваемая реальность, тем глубже проникал лот.
Но лот, заброшенный в глубину моря, выносит жидкую массу, которую солнце очень быстро высушивает в твердые и раздельные песчинки. И интуиция длительности, когда ее подставляют под лучи разума, точно так же очень скоро сгущается в застывшие, раздельные, неподвижные понятия. В живой подвижности вещей разум старается отметить реальные или возможные остановки; он помечает отправления и прибытия: это все, что имеет значение для мысли человека, поскольку она является мыслью только человеческой. Схватить то, что происходит в промежутке, превышает человеческое. Но философия не может быть не чем иным, как только усилием к тому, чтобы перейти за человеческое состояние.
На понятиях, которыми, как вехами, уставлен путь интуиции, ученые всего охотнее останавливали свой взгляд. Чем более они рассматривали эти осадки интуиции, перешедшие в символы, тем более они приписывали всей науке символический характер. И чем более они верили в символический характер науки, тем более они его реализовали и подчеркивали. Скоро они перестали уже делать различие в позитивной науке между искусственным и естественным, между данными непосредственной интуиции и огромным трудом анализа, совершаемым разумом вокруг интуиции. Они приготовили, таким образом, пути для доктрины, утверждающей относительность всех наших познаний.
Но и метафизика также поработала для этого.
Как могли учителя современной философии, которые были одновременно и метафизиками, и обновителями науки, не иметь чувства подвижной непрерывности реального? Как могли они не переноситься в то, что мы называем конкретной деятельностью? Они делали это более, чем они сами об этом думали, в особенности гораздо более, чем они об этом говорили. Если попытаться связать непрерывной чертой те интуиции, вокруг которых сорганизовались системы, то окажется, что рядом со многими другими сходящимися или расходящимися линиями существует одно, вполне определенное, направление мысли и чувства. Что это за скрытая мысль? Как выразить это чувство? Заимствуя еще раз у платоников их способ выражения, мы скажем, освобождая слова от их психологического смысла, и называя Идеей известный залог в легкой постигаемости и Душой – известную жизненную тревогу, что, невидимое течение, заставляет новейшую философию Душу ставить выше Идеи. Она стремится этим самым, подобно современной науке и даже еще гораздо более, идти в направлении, обратном тому, по которому шла античная мысль.
Но эта метафизика, как и эта наука, раскинула вокруг своей внутренней жизни богатую ткань символов, забывая иногда, что если наука нуждается в символах для своего аналитического развития, то существование метафизики вызывается главным образом необходимостью разрыва с символами. Здесь также разум совершал свою работу закрепления, разделения, перестройки. ...разум, ролью которого является оперирование устойчивыми элементами, может искать устойчивости или в отношениях, или в вещах. Поскольку он работает над понятиями отношений, он приходит к научному символизму. Поскольку он оперирует понятиями вещей, он приходит к символизму метафизическому. Но в том и другом случае распорядок исходит из него. (1, с. 39 – 41)
Наука и философия
На первый взгляд может показаться благоразумным предоставить исследование фактов позитивной науке. Физика и химия будут заниматься неорганизованной материей, биологические и психологические науки станут изучать проявления жизни. Задача философа тогда очерчивается точно. Он получает из рук ученого факты и законы, и, пытается ли он превзойти их, чтобы постичь глубинные причины, или считает невозможным идти так далеко, что и доказывает самим анализом научного познания, – в обоих случаях он испытывает к фактам и к отношениям, переданным ему наукой, такое почтение, какого требует нечто уже установленное. К этому познанию он приложит критику познавательной способности и, в случае необходимости, метафизику; что касается самого познания в его материальности, то он считает его делом науки, а не философии.
Но разве не очевидно, что это так называемое разделение труда приводит к тому, что все запутывается и смешивается? Метафизику или критику, право на создание которых философ оставляет за собою, он получает в готовом виде от позитивной науки, ибо они содержатся в ее описаниях и анализах, всю заботу о которых он предоставил ученому. Не желая с самого начала касаться фактической стороны вопросов, он оказывается вынужденным в вопросах принципиальных просто-напросто формулировать, в более точных выражениях, те неосознанные и, стало быть, необоснованные метафизику и критику, которые очерчиваются самим отношением науки к реальности. Не стоит обманываться внешней аналогией между вещами природными и человеческими. Мы здесь не в юридической области, где описание факта и суждение о факте – две вещи разные по той простой причине, что там над фактом и независимо от него существует изданный законодателем закон. Здесь же законы находятся внутри фактов и соответствуют тем линиям, по которым совершалось рассечение реального на отдельные факты. Нельзя описать вид предмета без предварительного суждения о его истинной природе и его организации. Форму нельзя полностью отделить от материи, и тот, кто сначала предоставил философии только принципиальные вопросы и тем самым пожелал поставить философию выше науки, подобно тому, как кассационный суд ставится выше суда присяжных и апелляционного суда, – тот вынужден будет постепенно свести ее к простой протоколизации, задачей которой станет – самое большее – формулировка в более точных выражениях не подлежащих обжалованию приговоров.
Позитивная наука есть действительно творение чистого интеллекта. Будет ли принята или отвергнута наша концепция интеллекта, есть один вопрос, в котором все с нами согласятся, а именно, что интеллект чувствует себя особенно свободно в сфере неорганизованной материи. Он все больше пользуется этой материей в механических изобретениях, и изобретения эти становятся для него тем более легкими, чем более механически он судит о материи. Он несет в себе, под формою естественной логики, скрытый геометризм, который выявляется по мере того, как интеллект все глубже проникает в инертную материю. Он находится в полной гармонии с этой материей; вот почему так близки друг к другу физика и метафизика неорганизованной материи. Когда же интеллект приступает к изучению жизни, он по необходимости обращается с живым, как с инертным, прилагая к этому новому предмету те же самые формы, перенося в эту новую область те же привычки, которые с таким успехом прилагались им к старому. И он вправе так поступать, ибо лишь при этом условии живое так же поддается нашему действию, как и инертная материя. Но истина, к которой приходят таким путем, становится относительной, полностью зависящей от нашей способности действовать. Эго уже не более как символическая истина. Она не может иметь той же ценности, что истина физическая, ибо она является только распространением физики на предмет, который мы a priori условливаемся рассматривать лишь с внешней стороны. Обязанностью философии было бы войти сюда активно, исследовать живое без задней мысли о практическом его использовании, освободившись от собственно интеллектуальных форм и привычек. Цель философии – умозрение, то есть видение; ее позиция по отношению к живому не является позицией науки, которая стремится только действовать и которая, умея действовать лишь через посредство инертной материи, рассматривает и остальную реальность только под этим углом зрения. Что же будет, если философия полностью предоставит позитивной науке факты биологические и психологические, как по праву уступила она ей факты физические? Она примет а priori механистическую концепцию всей природы, концепцию непродуманную и даже бессознательную, исходящую из материальной потребности. Она примет a priori, доктрину простого единства познания и абстрактного единства природы.
С этого времени философия может считаться завершенной. Философу останется только выбирать между метафизическим догматизмом и метафизическим скептицизмом, которые основаны, по сути, на одном и том же постулате и не прибавляют ничего к позитивной науке. Он может гипостазировать единство природы или – что сводится к тому же самому – единство науки в существе, которое будет ничем, ибо оно ничего не создает, – в бездейственном Божестве, просто обобщающееся в себе все данное, либо в вечной Материи, из недр которой изливаются свойства вещей и законы природы, либо, наконец, в чистой Форме, которая стремится охватить неуловимую множественность и которая будет, по желанию философов, формой природы или формой мышления. Все эти философии на разных языках скажут, что наука вправе обращаться с живым, как с инертным, и что нет никакой существенной разницы, не нужно проводить никакого различия между результатами, к которым приходит интеллект, прилагая свои категории, – будет ли он пребывать в инертной материи или устремится навстречу жизни.
А между тем во многих случаях чувствуется, что рамки разрываются. Но так как с самого начала не было установлено различие между инертным и живым, – между тем, что заранее приспособлено к рамкам, куда его вкладывают, и тем, что держится в них лишь при условии исключения из него всего существенного, – то приходится одинаково подвергать подозрению все, что заключено в рамках. За метафизическим догматизмом, возводившим в абсолют искусственное единство науки, последуют тогда скептицизм или релятивизм, который обобщит и распространит на все результаты науки искусственный характер некоторых из них. Отныне философия так и будет колебаться между доктриной, считающей абсолютную реальность непознаваемой, и той, чье представление об этой реальности говорит нам не более того, что говорила наука. Желая предупредить всякий конфликт между наукой и философией, жертвуют философией; но при этом не много выигрывает и наука. И, стремясь избежать мнимого порочного круга, то есть использования интеллекта с целью его же превзойти, попадают в весьма реальный круг, старательно отыскивая в метафизике единство, которое с самого начала было дано a priori, – единство, принятое слепо, бессознательно, одним тем, что весь опыт был предоставлен науке, а вся реальность – чистому разуму. Начнем, напротив, с того, что проведем демаркационную линию между инертным и живым. Мы обнаружим, что первое естественным образом входит в рамки интеллекта, – второе же поддается этому лишь искусственно, а потому и нужно занимать по отношению к живому особую позицию и смотреть на него по-иному, чем позитивная наука. Философия, таким образом, овладевает областью опыта. Она вмешивается во множество вещей, которые до сих пор ее не касались. Наука, теория познания и метафизика оказываются перенесенными на одну почву. Вначале это вызовет у них некоторое замешательство. Всем троим будет казаться, что ими что-то утрачено. Но в конце концов все трое извлекут пользу из встречи.
Научное познание и в самом деле могло возгордиться от того, что его утверждениям приписывали одинаковую ценность во всей области опыта. Но именно потому, что все эти утверждения были поставлены в один ряд, они в конце концов оказались зараженными одной и той же относительностью. Этого не будет, если с самого начала установить различие, которое, как нам кажется, напрашивается само собою. Собственная область разума – это инертная материя. На нее главным образом и направлено человеческое действие, а действие, как мы говорили выше, не может совершаться в нереальном. Поэтому, если рассматривать физику в общей форме, отвлекаясь от деталей ее реализации, можно сказать, что она касается абсолютного. Если же науке удается овладеть живым, аналогично тому, как она поступаете неорганизованной материей, то это бывает только случайно – по воле судьбы или благодаря удаче, как угодно. Здесь приложение рамок разума уже не является естественным. Мы не хотим сказать, что рамки эти здесь незаконны, в научном смысле этого слова. Если наука должна расширять наше действие на вещи и если мы можем действовать, лишь используя как орудие инертную материю, то наука может и должна и впредь обращаться с живым, как она обращалась с инертным. Но, разумеется, чем больше она углубляется в жизнь, тем более символическим, относительным, зависящим от случайностей действия становится даваемое ею знание. Поэтому в этой новой области науку должна сопровождать философия, чтобы научная истина дополнялась познанием другого рода, которое можно назвать метафизическим. Тем самым возвышается всякое наше познание, и научное и метафизическое. Мы пребываем, мы движемся, мы живем в абсолютном. Наше знание об абсолютном, конечно, и тогда не полно, но оно не является внешним или относительным. Благодаря совместному и последовательному развитию науки и философии мы постигаем само бытие в его глубинах.
Отвергая, таким образом, внушаемое рассудком искусственное внешнее единство природы, мы отыщем, быть может, ее истинное единство, внутреннее и живое. Ибо усилие, которое мы совершаем, чтобы превзойти чистый рассудок, вводит нас в нечто более обширное, из чего выкраивается сам рассудок и от чего он должен был отделиться. А так как материя сообразуется с интеллектом, так как между ними существует очевидное согласие, то нельзя исследовать генезис одной, отвлекаясь от генезиса другого. Один и тот же процесс должен был одновременно выкроить материю и интеллект из одной ткани, содержавшей их обоих. В эту-то реальность мы и будем проникать все больше и больше по мере роста наших усилий превзойти чистый интеллект. (2, с. 201-205)
ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ. (1859-1938)
Э. Гуссерль (Husserl) – основоположник феноменологической школы XX столетия. Исследовательская область его философского творчества – это теория познания, ключевым пунктом которой является проблема обоснования знания. Только учитывая это обстоятельство, можно говорить о философии науки Гуссерля. Связь феноменологии как этапа классической философии и современной феноменологии состоит в устремленности философского знания к глубинным основам бытия, к некоему первоначалу, даже если, в конце концов, таким первоначалом знания окажется вовсе не основание мира, а первичный слой самого знания. И. Кант формулировал этот аспект проблемы в виде вопроса: «Что мы можем знать?» Феноменологический метод у Гуссерля рассматривается в роли средства прояснить основания науки, избавить ее от «неосновательности», от случайных факторов, от психологизма и сделать ее с помощью философии строгой. В «Кризисе европейских наук» эта задача приобретает мировоззренческое значение. От темы кризиса науки Гуссерль переходит к теме кризиса европейского общества. Ниже приведены выдержки из трех работ Гуссерля – «Логические исследования» (Т. I, II), «Картезианские размышления», «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология». Основной сюжет первой работы – критика психологизма в науке и обоснование значимости феноменологических исследований для теоретикопознавательных методологических процедур; вторая работа нацелена на поиск оснований «абсолютной» науки, которые Гуссерль находит в учении о трансцендентальном Я, или «эгологии», по характеристике Хайдеггера; основная мысль третьей – необходимость преодоления кризисного состояния науки и попытка сделать это через понимание человеческой природы, для чего философ обращается к истории человеческого духа.
А.Н. Аверюшкин
Фрагменты приводятся по изданиям:
1. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1 // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
2. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II 1 // Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 О). М., 2001.
3. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998.
4. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию // Вопросы философии, 1992. № 7. С. 136-176.
[Научное значение экономии мышления]
Учение Маха об экономии мышления, как и учение Авенариуса о наименьшей затрате сил, относится, как мы видели, к известным биологическим фактам и в конечном счете представляет отрасль учения о развитии. Отсюда само собой понятно, что упомянутые исследования могут, правда, пролить свет на практическое учение о познании, на методологию научного исследования, но отнюдь не на чистое учение о познании, в частности, не на идеальные законы чистой логики. С другой стороны, сочинения школы Маха-Авенариуса, по-видимому, имеют в виду именно теорию познания с обоснованием в смысле экономии мышлениям...> (1, с. 316)
Фактическая сторона принципа экономии сводится к тому, что существуют представления, суждения и иные переживания мышления, и в связи с ними также чувства, которые в форме удовольствия содействуют известным интеллектуальным тенденциям, в форме же неудовольствия отталкивают от них. Далее можно констатировать в общем, грубом и целом прогрессирующий процесс образования представлений и суждений, причем из элементов первоначально лишенных значения, прежде всего образуются отдельные данные опыта, а затем эти данные сливаются в одно более или менее упорядоченное единство опыта. По психологическим законам на основе грубо согласующихся первых психических коллокаций возникает представление единого, общего для нас всех мира, и слепая эмпирическая вера в его существование. Но нельзя упускать из виду, что этот мир не для каждого тот же самый, он таков только в общем и целом, лишь настолько, чтобы практически была в достаточной мере дана возможность общих представлений и действий. Мир не одинаков для простого человека и для научного исследователя; для первого мир есть связь приблизительной правильности, пронизанная тысячью случайностей, для второго мир есть природа, в которой всюду и везде господствует строгая закономерность.
Несомненно имеет большое научное значение показать психологические пути и средства, с помощью которых развивается и устанавливается эта достаточная для потребностей практической жизни (потребностей самосохранения) идея мира как предмета опыта; далее показать психологические пути и средства, с помощью которых в умах отдельных исследователей и целых поколений исследователей образуется объективно адекватная идея строгого закономерного единства опыта с его непрестанно обогащающимся научным содержанием. Но с гносеологической точки зрения все эти исследования не имеют значения. (1, с. 317-318)
Заблуждения этого направления проистекают в конечном счете из того, что его представители – как и психологисты вообще – заинтересованы только познанием эмпирической стороны науки. Они до известной степени за деревьями не видят леса. Они трудятся над проблемой науки как биологического явления и не замечают, что они даже совсем и не затрагивают гносеологической проблемы науки как идеального единства объективной истины. Прежнюю теория познания, которая еще видела в идеальном проблему, они считают заблуждением, которое лишь в одном смысле может быть достойным предметом научной работы: именно для доказательства его функции относительного сбережения мышления низшей ступени развития философии. Но чем больше такая оценка основных гносеологических проблем и направлений грозит стать философской модой, тем сильнее должно восстать против нее трезвое исследование, и тем более вместе с тем необходимо – посредством возможно более многостороннего обсуждения спорных принципиальных вопросов и в особенности посредством возможно более глубокого анализа принципиально различных направлений мышления в сферах реального и идеального – проложить путь тому самоочевидному уяснению, которое есть необходимое условие для окончательного обоснования философии. (1, с. 321)
Необходимость феноменологических исследований для критической теоретико-познавательной подготовки и прояснения чистой логики
Необходимость начинать рассмотрение логики с рассмотрения языка (с точки зрения логики как технического учения) признавалась неоднократно. <...> Я предполагаю, следовательно, что при этом не хотят удовлетвориться построением чистой логики как просто одним из видов наших математических дисциплин, т.е. как системы утверждений, развертывающейся в наивно-предметной значимости; но что при этом также стремятся к философской ясности относительно этих утверждений, т.е. к усмотрению сущности способов познания, вступающих в действие при осуществлении и при идеально-возможном применении таких утверждений, а также к усмотрению смыслополаганий и объективных значимостей, сущностно конституирующихся вместе с последними. Исследование языка принадлежит, конечно, философски неизбежной подготовке построения чистой логики, так как только с помощью этих исследований могут быть выработаны подлинные объекты логического исследования, а в дальнейшем – сущностные виды и различия этих объектов, с ясностью, не допускающей ложного толкования. Речь идет при этом не о грамматических исследованиях в эмпирическом смысле, т.е. отнесенных к какому-либо исторически данному языку, но об исследованиях того наиболее общего типа, которые принадлежат широкой сфере объективной теории познания и к тому, что с ней тесно взаимосвязано – чистой феноменологии мышления и познания, как переживаний. <...> Именно эта сфере должна быть подробно исследована в целях критической теоретико-познавательной подготовки и прояснения чистой логики <...> (2, с. 13-14)
Чистая феноменология представляет собой область нейтральных исследований, которая содержит в себе корни различных наук. С одной стороны, она служит психологии как эмпирической науке. Своим чистым и интуитивным методом она анализирует и описывает в сущностной всеобщности—в особенности как феноменология мышления и познания – представления, суждения, познания как переживания, которые, эмпирически понятые как классы реальных процессов во взаимосвязях одушевленной природной действительности, принадлежат психологии как эмпирически-научному исследованию. С другой стороны, феноменология раскрывает «истоки», из которых «проистекают» основные понятия и идеальные законы чистой логики. Они должны быть приведены к этим истокам, чтобы получить требуемые для критического теоретико-познавательного понимания чистой логики «ясность и отчетливость». Теоретикопознавательное и, соответственно, феноменологическое обоснование чистой логики включает в себя весьма трудные, но также несравнимо важные исследования....> (2, с. 14-15)
Любое теоретическое исследование, хотя оно, конечно, никоим образом не осуществляется только в эксплицитных актах или даже в полных высказываниях, все-таки в конце концов завершается в высказываниях. Только в этой форме истина и особенно теория становится прочным достоянием науки, она становится документально зафиксированной и в любое время доступной сокровищницей знания и дальнейших исследовательских устремлений. Является ли необходимой связь мышления и языка, подчиняется ли необходимости то, что способ проявления суждения, завершающего познание, по сущностным основаниям принимает форму утверждения или нет, во всяком случае, ясно, что суждения, которые принадлежат более высокой интеллектуальной сфере, в особенности научной, едва ли могут осуществляться без языкового выражения. (2, с. 15)
Необходимость радикального возвращения к началу философии
Если мы обратимся к этому столь странному для нас, сегодняшних, содержанию «Размышлений» [Р. Декарта. —A.A.], то обнаружим, что в них происходит возвращение к философствующему ego <...>, к ego чистых cogitationes. Это возвращение размышляющий совершает, следуя известному и весьма примечательному методу сомнения. С радикальной последовательностью устремленный к цели абсолютного познания, он отказывается признавать в качестве сущего что бы то ни было, что не защищено от любой мыслимой возможности попасть под сомнение. Поэтому он осуществляет методическую критику достоверностей жизни естественного опыта и мышления в отношении возможности в них усомниться и путем исключения всего, что допускает такую возможность, стремится обрести тот или иной состав абсолютных очевидностей. При следовании этому методу достоверность чувственного опыта, в которой мир дан в естественной жизни, не выдерживает критики, и поэтому бытие мира на этой начальной стадии должно оставаться лишенным значимости. Только себя самого <...> удерживает размышляющий как сущее абсолютно несомненно, как неустранимое, даже если бы не было этого мира. Редуцированное таким образом ego приступает теперь к своего рода солипсистскому философствованию. <...> (3,с.51-52)
Так у Декарта. Теперь мы спрашиваем, стоит ли, собственно говоря, отыскивать непреходящее значение этих мыслей, способны ли они еще придать нашему времени животворные силы? (3, с. 53)
Раздробленность современной философии и ее бесплодные усилия заставляют нас задуматься. С середины прошлого столетия упадок западной философии, если рассматривать ее с точки зрения научного единства, по сравнению с предшествующими временами неоспорим. В постановке цели, в проблематике и методе это единство утрачено. Когда с началом Нового времени религиозная вера стала все более вырождаться в безжизненную условность, интеллектуальное человечество укрепилось в новой великой вере – вере в автономную философию и науку. Научные усмотрения должны были освещать и вести за собой всю человеческую культуру, придавая ей тем самым новую автономную форму. (3, с. 54) Можно, пожалуй, сказать, что наши размышления, в сущности, достигли своей цели, а именно привели к конкретной возможности раскрыть картезианскую идею философии как универсальной науки с абсолютным обоснованием. Показать эту конкретную возможность, продемонстрировать ее практическую выполнимость – пусть даже, разумеется, в виде некой незаконченной программы – значит указать необходимое и несомненное начало и столь же необходимый метод, к которому всегда можно обратиться и которым одновременно очерчивается систематика всех осмысленных проблем вообще. <...> Единственное, что остается, – это разветвление трансцендентальной феноменологии на отдельные объективные науки, легко понятное по мере ее произрастания из начал философии, и отношение этих наук к наукам, пребывающим в позитивной установке и предданным в качестве примеров. К этим последним мы теперь и обратимся. Повседневная практическая жизнь наивна, и происходящее в ней опытное познание, мышление, оценивание и действие погружено в заранее данный мир. При этом вся интенциональная работа опытного познания, в котором только и даны нам вещи, совершается анонимно: познающий ничего не знает об этой работе, как и о выполняющем эту работу мышлении. <...> Не иначе дело обстоит и в позитивных науках. Им свойственна наивность более высокого уровня, они представляют собой продукты сложной теоретической техники, однако результаты интенциональной работы, от которых в конечном счете все и зависит, остаются неистолкованными. Правда, наука претендует на способность оправдывать свои теоретические шаги и повсюду основывается на критике. Но осуществляемая ею критика не есть последняя критика познания; такая критика основана на изучении начальных продуктов, на раскрытии всех принадлежащих им интенциональных горизонтов, благодаря которым только и может быть наконец постигнута «область действия» тех или иных очевидностей и в соответствии с ней оценен бытийный смысл предметов, теоретических построений, ценностей и целей. Поэтому даже на высоком уровне развития современных позитивных наук мы сталкиваемся с проблемами оснований, с парадоксами и неясностями. Первичные понятия, которые проходят через всю науку и определяют смысл ее предметной сферы и теорий, возникли в наивной установке, обладают неопределенными интенциональными горизонтами и представляют собой грубые продукты наивной и неосознанной интенциональной работы. Это относится не только к специальным наукам, но и к традиционной логике со всеми ее формальными нормами. Всякая попытка перейти от исторически развившихся наук к лучшему обоснованию, к лучшему пониманию их собственного смысла и их собственных достижений приближает Ученого к цели его самоосмысления. Однако существует лишь одно радикальное самоосмысление – феноменологическое. Но радикальное и абсолютно универсальное самоосмысление неотделимы друг от друга и вместе неотделимы от подлинного феноменологического метода самоосмысления в форме трансцендентальной редукции, интенционального самоистолкования, раскрываемого посредством этой редукции трансцендентального ego и систематической дескрипции, принимающей вид некой интуитивной эйдетики. (3, с. 286-287)