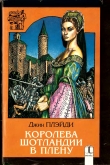Текст книги "Шотландия. Автобиография"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Соавторы: Роберт Льюис Стивенсон,Даниэль Дефо,Вальтер Скотт,Кеннет Грэм,Уинстон Спенсер-Черчилль,Публий Тацит,Уильям Бойд,Адам Смит,Дэвид Юм,Мюриэл Спарк
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 48 страниц)
Воспоминания о жизни Эдинбурга, начало 1800-х годов
Генри Кокберн
Перу адвоката Генри Кокберна принадлежат одни из наиболее живописных описаний жизни Шотландии, и в частности Эдинбурга, начала и середины девятнадцатого века. В посмертно опубликованных мемуарах он описал всю свою жизнь, нередко отклоняясь от воспоминаний о ней в занимательные рассказы об обычаях, поведении и талантах своих сограждан. Его записи начинаются с детства и оканчиваются неизбежными сетованиями о лучших временах.
Школа в Эдинбурге
Из всех четырех лет моей учебы в школе набралось бы, наверное, дней десять, когда меня хотя бы раз не выпороли. Однако я никогда не входил в класс, не покидал его без ощущения, что вполне пригоден, как по способностям, так и по подготовленности, ко всему; да и не такой большой подвиг быть ограниченным одной лишь латынью, и непременно короткими заданиями, так как каждый из мальчиков обязан был рифмовать те же самые слова, тем же самым способом. Но меня это доводило до отупения. О, телесная и умственная усталость от того, что по шесть часов в день просиживаешь на одном месте, тупо глядя на страницу, без движения и без мысли, дрожа от неумолимого приближения безжалостного великана. Никаких наград я никогда не получал, а однажды даже провалился на итоговом экзамене в конце года. До меня не доходила красота хоть одного римского слова, мысли или поступка древних римлян; и я даже не предполагал, что от латинского языка есть хоть какой-то прок, иначе как быть источником пытки мальчиков…
Эти шесть школьных лет были потрачены совершенно бесплодно. Традиционное зло самой системы и конкретной школы было слишком велико, и исправить его не по силам даже Адаму; и общая атмосфера в школе была вульгарной и неприятной. Поведению мальчиков была свойственна единственно лишь грубость языка и манер. Мальчик-англичанин был такой редкостью, что над его выговором насмехались в открытую. Ни одной женщины не видели стены школы. Ничто, имевшее явное отношение к культуре, не было в безопасности. Двое учителей проявляли в особенности такую дикость, что любого учителя, поступающего сейчас так, как действовали они тогда ежечасно, наверняка отправили бы на каторгу.
О доблестных попытках предотвратить возвышение Нового города как центра благородного общества
В моей юности центром всех модных танцев, как и вообще всего модного и светского, была Джордж-сквер; в Боклю-Плейс (рядом с юго-восточным углом площади) были построены самые красивые залы, которые на несколько лет совершенно затмили высокомерный Новый город.
Здесь сохранились последние остатки той дисциплины, которая царила в бальных залах предшествующей эпохи. Вдовы, ревнительницы строгого поведения, и почтенные поклонники выступали как распорядители бала и церемониймейстеры и проводили все предварительные приготовления. Ни одной паре не дозволялось танцевать, если у партии не имелся билет с указанием точного места в определенном танце. Если такового билета не было, то с джентльменом или леди обращались как с нарушителем правил и незваным гостем и выводили с бала…
Чай пили в боковых комнатах, и кавалер показал бы себя невнимательным мерзавцем, если после каждого танца не предлагал своей партнерше апельсинового сока; и апельсины и чай, как и все прочее, регламентировались строгими и неукоснительными правилами. Все это исчезло, а залы прекратили свое существование, стоило только недавно возвысившемуся обществу добиться неизбежного господства в Новом городе. Исчезла аристократия из немногих выдающихся личностей и видных семей; и неразумному прошлому не оставалось ничего иного, как вздыхать и предаваться воспоминаниям о доступных немногим элегантных вечерах времен их юности, где и речи не было о равноправии общественных прав, а грубость манер внушала ужас.
Об обедах
Общепринятым часом для обеда было три часа дня. В два часа более принято было обедать в одиночку. Следовательно, не считалось большим отклонением от обычного распорядка, если по воскресеньям семья обедала «между проповедями» – то есть между часом и двумя. С течением времени, но не без стенаний и пророчеств, обеденный час стал четвертым, каковым оставался несколько лет. Затем он переполз на пять, что, однако, считалось положительно революционным; и за четыре часа, как за «старый добрый час», долгое время упрямо держались ненавистники перемен. Однако даже они были вынуждены уступить. Но отступали они лишь дюйм за дюймом, отчаянно цепляясь за половину пятого. Однако обед «ровно в пять часов» отпраздновал триумф, и это время продолжало быть обычным обеденным часом для благовоспитанных людей с (по-моему) 1806 или 1807 годов до 1820 года. Наконец господство перешло к шестому часу, причем не стало необычным обедать на полчаса позже. До сих пор дальше этого подражание Лондону не простирается, за исключением посвященных шотландскому тетереву или оленю деревенских домов, где представители рода человеческого, зовущиеся спортсменами и презирающие все человечество, кроме самих себя, гордятся тем, что не обедают, покуда здравомыслящий люд не отправится в постель. Таким образом, на моей памяти время для обеда сдвинулось от двух часов до половины седьмого; и всем посягательствам на исходе каждого получасового отрезка регулярно оказывалось сопротивление; и всегда по одной и той же причине – неприятие перемен и зависть к пышным украшениям.
Об иных днях на скамье
В Эдинбурге у старых судей был обычай, который даже людей их поколения заставлял обычно качать головой. Когда со всей очевидностью было ясно, что заседание продлится значительно позже обычного обеденного часа, то у них «на скамье» всегда было вино и бисквиты. Современные судьи – я имею в виду тех, кого назначили на пост после 1800 года, – никогда не придерживались этой традиции; но для тех, кто принадлежал к предшествующему поколению, а кое-кто из них еще протянул после 1800 года несколько лет, подобное было вполне обычным. Рядом с ними на «скамье» расставлялись черные бутылки крепкого портвейна, а также бокалы, графины с водой, стаканы и бисквиты; причем не делалось ни малейшей попытки все это скрыть. Какое-то время легкая закуска оставалась нетронутой, словно бы ее не замечали, а их светлость будто бы был погружен в свои бумаги. Но спустя недолгое время в стакан наливается немного воды, и, словно бы просто для поддержания сил организма, из стакана отпивается глоток-другой. Потом отваживаются на несколько капель вина, но только вместе с водой.
Но вот терпению приходит конец, и в бокал наливается до краев одной лишь темной жидкостью; после чего все происходит регулярно, сопровождается довольным чавканьем, вино пьется большими глотками, к громадной зависти пересохших глоток на галерее. Умные терпеливо сносят происходящее, но среди слабых идут разговоры, и весьма откровенные. Нельзя сказать, что господа в горностае бывают вдребезги пьяны, но иногда выпивка определенно оказывает свое влияние. Однако для этих умудренных мужей обычай настолько вошел в привычку, что в действительности вино мало что изменяло в их поведении, по крайней мере, – внешне. Издалека даже непросто было определить, в каком они состоянии; и у всех давно выработалось умение выглядеть вполне рассудительными, даже когда бутылки осушены до дна.
Эпидемия холеры, 1832 год
«Гринок эдвертайзер»
Холера была одним из бичей промышленной эры, ее распространению способствовали жуткие условия жизни, нищета и запущенность перенаселенных и захудалых жилищ. Страшная эпидемия холеры обрушилась на Гринок в 1832 году, тогда умерли около 2000 человек. Все сильнее обеспокоенные врачи стремились понять причины заболевания. Некоторые, по-видимому, были встревожены намного больше прочих.
Имея целью внести свои усилия в то, чтобы разрешить все сомнения относительно заразного или незаразного характера холеры один врач-джентльмен в минувшую среду провел следующий эксперимент. Сразу же после смерти в больнице пациента от холеры он разделся и улегся в ту же кровать, которую за минуту до того занимал умерший, и еще укрылся теми же одеялами. Он провел в постели два с половиной часа, таким образом, максимально рискуя сам подхватить болезнь, если она действительно заразна. На момент проведения своего эксперимента он пребывал в превосходном состоянии здоровья и вплоть до настоящего часа мы имеем удовольствие заявить, что оно таковым и продолжает оставаться. Целый ряд его собратьев-врачей был настолько убежден в том, что их коллега непременно падет жертвой болезни, что на следующий день в больницу пришли многочисленные запросы о часе его смерти.
(По нашему слабому разумению, сей героический поступок доказывает не более того, что герой истории «отправился в постель» глупцом, да и встал с нее нисколько не умнее – за что ему следует благодарить судьбу. К нашему удивлению, вдобавок нам сообщили, что «он пребывал в превосходном состоянии здоровья», – но этим состоянием, как мы можем представить себе, он прежде всего обязан своему чувству безопасности. Будь он немощен, в силу возраста, или надломлен телесной болезнью, разве предпринял бы он такую попытку? Осмелимся заявить, что нет. Более того, мы не можем позволить себе допустить, чтобы безнаказанно он полагал, будто совершил подвиг, который в действительности уступает разве что попытке броситься в кратер Везувия, имея мало шансов извергнуться обратно целым и невредимым; а поскольку он, по-видимому, позаботился убрать тело пациента прежде, чем самому лечь под одеяло, то в таком случае проделал лишь половину эксперимента. Однако мы не советуем ему осуществлять другую половину; потому что мы убеждены, что ему следовало бы благоразумно оставить это кому-то из своих мудрых сотоварищей, которые на следующее утро интересовались, жив ли он еще. – Ред. Дж. А.)
Показания угольщиков, 1840 год
Джанет Камминг, Джанет Аллен, Джейн Джонсон, Исабель Хогг, Джейн Пикок Уотсон, Кэтрин Логан, Хэлен Рид и Маргарет Уотсон
Доклад Комиссии по детскому труду 1840 года является одним из самых шокирующих документов своего времени. Инспекторы Комиссии, посланные расследовать, как проводятся в жизнь положения целого ряда актов фабричного законодательства по ограничению рабочего времени учеников и детей, решили также проверить условия труда в шахтах. В шахтерских городах девочек пренебрежительно называли «вагонетками для шлака», а мальчики носили прозвище «угольных вагонеток». Тем не менее труд женщин и девочек все равно широко использовался на шахтах, отчасти потому что они сами старались быть полезными с самого юного возраста и оттого раньше начинали работать, а отчасти потому, что готовы были без жалоб ползать по самым неудобным местам. Хотя внимание Комиссии было сосредоточено на условиях детского труда, благодаря докладу неожиданно были услышаны голоса женщин, а также девушек. Доклад был проиллюстрирован рисунками, показывающими характер работы под землей, и настолько ужаснул общественность, что был принят закон, запретивший отправлять женщин и детей на работу в шахты. Этот закон лишь усугубил отчаяние тех женщин, для которых шахта была единственным источником дохода. Чтобы обойти закон, некоторые переодевались мужчинами; их сотоварищи закрывали на это глаза. Вот несколько комментариев, записанных Комиссией в 1840 году:
Десятник Ормистонской угольной шахты: «Фактически женщины всегда трудились на подъемных или тяжелых работах, и ни с ними, ни с детьми не обращались как с человеческими существами, когда их нанимали на работу. Женщины соглашались работать там, где нельзя было заставить трудиться ни одного мужчину или парня; они работали в плохих штреках, по колено в воде, почти всегда согнувшись вдвое. Будучи беременными, они находились внизу до последнего часа. У них распухали лодыжки и бедра, и они преждевременно сходили в могилу или, что хуже, влачили, не в состоянии работать, жалкое существование».
Джанет Каммингс, 11 лет, носильщица угля: «Я вхожу в шахту вместе с женщинами в пять и выхожу в пять ночью; работаем всю ночь пятницы и уходим в двенадцать дня. Потолок очень низкий; мне приходится сгибать спину и ноги, а вода часто доходит мне до икр. Нисколько не нравится работа. Меня отец заставляет».
Джанет Аллен, 8 лет, толкает вагонетку: «Это тяжелая работа, просто мучение, лучше было бы развратничать».
Джейн Джонсон: «Мне было семь с половиной лет, когда дядя заставил меня работать на шахте, так как и мать, и отец умерли. В пятнадцать лет я могла переносить два английских центнера, но теперь испытываю слабость от нагрузок. Я была замужем десять лет, у меня четверо детей, и я работала, покуда до родов не оставалось день-два. Многие женщины повредили себе спину и ноги, и меня однажды придавило камнем, и я лишилась пальца».
Исабель Хогг, 53 года, бывшая носильщица угля: «Была замужем тридцать семь лет; в обычае было рано выходить замуж, когда уголь таскали на своих спинах женщины, мы были нужны мужчинам. У меня четверо замужних дочерей, и все, пока вынашивали детей, работали внизу. Одна теперь совсем плоха, так как работала беременной, отчего у нее случился выкидыш, и думали, что она не оправится. Народ на шахте страдает больше других – мой добрый муж умер девять лет тому назад, у него был дурной запах изо рта, и он протянул несколько лет, но совершенно не мог работать уже за одиннадцать лет до того, как умер».
Джейн Пикок Уотсон, 40 лет, носильщица угля: «Я работала под землей тридцать три года; замужем двадцать три года, и у меня было девять детей; шестеро еще живы, трое умерли от тифа несколько лет назад, двое родились мертвыми, думаю, из-за тяжелой работы; огромное число женщин рожает мертвых детей… Мне всегда приходилось работать внизу, покуда не приходило время рожать, и я вынуждена была идти домой, и так поступают и остальные женщины. Мы возвращаемся к работе как можно скорее, самое позднее – через десять-двенадцать дней, а многие при нужде и еще раньше».
Кэтрин Логан, 16 лет, перевозчица угля, которую запрягали в вагонетку: «…тащишь спиной вперед, лицом к вагонетке. Веревки и цепи уходят под землю, это очень тяжелая работа, особенно когда приходится ползти».
Хэлен Рид, 16 лет: «[Я работаю] с пяти утра до шести ночи и перетаскиваю на спине два английских центнера. Работа мне не нравится, но думаю, другой для меня и нет. Под землей случаются разные несчастные случаи. Я сама видела два серьезных. Два года назад в штреке накрыло тринадцать из нас, и мы два дня провели без пищи и света. Около дня мы просидели по горло в воде. Наконец мы выбрались в старую шахту, и нас услышали люди, которые работали выше».
Маргарет Уилсон, 16 лет: «Часто воздух плохой, недавно из-за этого я брата потеряла. Он провалился, я попыталась вытащить его, но воздухом там нельзя было дышать, и мне пришлось уйти».
Улицы нечистот, 1842 год
Д-р У. Л. Лори
Будучи частью доклада Чедвика 1842 года, посвященного исследованию условий жизни бедняков, это сообщение, составленное У. Л. Лори, доктором из Гринока, описывает жизнь в печально известном грязном городе.
Громадная часть поселений бедняков расположена в очень узких и тесных тупиках и переулках, отходящих от основных улиц; эти тупики, как правило, представляют собой глухие «мешки», где нет движения воздуха, пространство между домами настолько узко, что исключает проникновение солнечных лучей к земле. Я бы даже осмелился сказать, что в этих тупиках вообще нет никаких водостоков, ибо там, где я видел сточные канавы, они настолько грязны и замусорены, порождая множество неудобств, что лучше бы их никогда не существовало. В этих тупиках, там, где нет навозных куч, фекальные и прочие отвратительные вещества выбрасывают в сточные канавы перед дверьми или выносят и сваливают на улицу. В домах нет птичьих дворов, но почти во всех тупиках имеются навозные кучи, за редким исключением, никогда не накрытые; мало какие из выгребных ям вычищаются больше раза-двух в год; большинство опорожняется, только когда они переполняются: к некоторым пристроены уборные, и одной уборной пользовались все по соседству. Люди, как кажется, настолько свыклись со столь невиданным состоянием вещей и настолько утратили чувство пристойности, что не видели в этом никаких неудобств, и в порядке вещей, что когда пробираешься по некоторым из этих задних улиц, легко испачкаться нечистотами.
Позади дома, где у меня врачебный кабинет, в котором я в настоящий миг и нахожусь, есть громадная выгребная яма с пристроенной уборной; насколько мне известно, ее не чистили шесть месяцев; она служит всем по соседству, и исходящие оттуда миазмы столь отвратительны, что я не в состоянии открыть окно. Дом в три этажа высотой, и люди, чтобы избавить себя от забот, выбрасывают нечистоты из окна лестницы, следовательно, огромная их часть попадает в тупик, и тупик не чистится, пока не заполнится выгребная яма: грязь в тупике дорастает почти до подоконника заднего окна лавки, что расположена по фасаду, и малярийная сырость сочится через стены на этаж…
Моим заботам в больнице был вверен один бедняк, шесть месяцев страдавший астмой и признанный неизлечимым, в настоящее время он живет с женой и семью детьми в темной комнате на нижнем этаже, больше подходящей для угольного погреба, чем для человеческого существа; комната освещается через неоткрывающееся окно, размером в два квадратных фута; ширина комнаты составляет всего четыре фута, а длина – восемь. Для всей семьи есть единственная кровать, и тем не менее арендная плата за эту дыру составляет 5 фунтов.
Когда не так давно я проходил через один из самых бедных районов, за мной побежала маленькая девочка, упросившая меня осмотреть ее мать, которую она не могла удержать в постели; ее мать я обнаружил лежащей на жалком соломенном тюфяке, поверх куска ковра, она была в лихорадке и бредила; муж-пьяница умер в больнице от той же болезни. Огонь в камине не горел; кто-то из детей ушел просить милостыню, а двое самых младших ползали по сырому полу; в середине комнаты действительно успела образоваться лужица, так как сточная канава перед домом засорилась, и влага, протекши под дверь, нашла себе дорогу в центр пола. Все предметы обстановки, которые можно продать, были заложены во время болезни отца для поддержки семьи. Никто из соседей в дом не заходил; дети голодали, и мать умирала без всякого ухода…
Первый вопрос, который я обычно задаю, встречаясь с новым случаем лихорадки, касается жилища больных. Я был поражен числом заболеваний на Маркет-стрит; в этом месте в большинстве случаев больные вскоре заболевали брюшным тифом, и выздоровление их было медленным. Это узкий закоулок; над ним почти нависает крутой склон, поднимающийся в непосредственной близости от улицы; на ней стоят самые жалкие дома, построенные вплотную друг к другу, и войти в жилища можно через мерзкие тупики; вход с фасадной части дома обычно единственный; на этой улице сосредоточены многочисленные центры производства миазмов, думаю, в каждом закоулке я мог бы указать по меньшей мере на один.
На этой улице есть навозная куча, однако для такого названия она чересчур велика. Я не ошибусь в ее размерах, если скажу, что в ней содержится 100 кубических ярдов нечистот, мусора и грязи, собранных со всех концов города. Ее ни разу не убирали; это товарный запас одного человека, который торгует навозом; он продает его в розницу тележками: ведя дела с покупателями, он придерживается твердого принципа, что чем старее навоз, тем выше цена. У владельца кучи рядом построена большая уборная. Это скопление нечистот выходит на общедоступную улицу; спереди она обнесена стеной; высота стены около 12 футов, и навоз возвышается над нею; из-под стены сочится малярийная влага и сбегает по мостовой. Источаемые этим местом миазмы летом ужасны; к нему примыкает земельный участок с домами в четыре этажа высотой; и летом во всех домах кишат мириады мух; все предметы, употребляемые для еды или питья, должны быть закрыты, а иначе оставленную открытой даже на минуту вещь немедленно облепят мухи, и она окажется непригодной для употребления из-за сильного привкуса дерьма, оставленного мухами. Но на улице есть и еще большая по размерам навозная куча, она не такая высокая, но занимает в два раза большую площадь; а насколько она уходит в глубину, я сказать не могу. Куча примыкает к скотобойне и принадлежит, как я полагаю, городским властям. Это не только вместилище для отходов и потрохов из бойни, сюда также свозится и сваливается мусор с улицы. Рядом пристроено нечто вроде общественной уборной. В помещении самой бойни (которая примыкает к улице) подолгу не смывается кровь и валяются внутренности, и зацах летом в высшей степени омерзителен… Я считаю, что будет; редким явлением, если в любое время года [здесь] не обнаружишь больного лихорадкой.