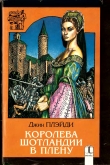Текст книги "Шотландия. Автобиография"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Соавторы: Роберт Льюис Стивенсон,Даниэль Дефо,Вальтер Скотт,Кеннет Грэм,Уинстон Спенсер-Черчилль,Публий Тацит,Уильям Бойд,Адам Смит,Дэвид Юм,Мюриэл Спарк
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 48 страниц)
Африканская экспедиция, 1796 год
Мунго Парк
Исследователь и врач из пограничного городка Ярроу, Мунго Парк провел восемнадцать месяцев в дебрях Африки: лондонское Африканское общество поручило ему разведать русло реки Нигер. Возвратившись в Британию, этот скромный молодой стоик, которого уже давно считали погибшим, приехал в дом своего шурина рано поутру и, не желая будить родственников, бродил по саду, пока те не проснулись сами. Позднее Парк женился и обзавелся врачебной практикой в Пиблзе, однако желание вернуться в Африку он преодолеть не смог. В ходе второй африканской экспедиции он утонул вместе с кораблем, попав в засаду у порогов Бусса.
Мавры, населяющее северную часть Африки, разделяются на многие независимые племена, из которых самыми страшными почитают тразартских и ильбракенских, живущих на северном берегу Сенегала. Гедингумские, яфнусские и людамарские не столь многочисленные, воинственны и сильны. Каждое племя мавров управляемо ханом, или царем, имеющим над ними неограниченную власть деспота.
Мавры ведут жизнь пастушескую; в мирное время занимаются скотоводством; пища их одно мясо. Они бывают попеременно или слишком обжорливы, или слишком воздержаны. По причине частых и строгих постов, законом им предписываемых, и по причине многотрудных путешествий, предпринимаемых ими по дикой пустыне, они с удивительным терпением переносят голод и жажду. Но между тем если мавру откроется случай удовольствовать свою жадность, то он терпение свое вознаграждает без всякой умеренности; обыкновенно один мавр съедает против троих европейцев. Мавры земледелием занимаются весьма мало: хлеб, бумажные материи с другими жизненными потребностями получают они от негров, выменивая на каменную соль, добываемую ими в великой своей пустыне…
У мавров воспитание дочерей в совершенном пренебрежении. Женщины у них мало заботятся о моральном своем характере, а мужчины недостаток сей добродетели совсем не вменяют им в порок. Мавры думают, что женщины, в сравнении с ними, имеют другое, не столь благородное предназначение: думают, что они сотворены только для исполнения воли гордых своих повелителей: чувственные удовольствия почитаются между ими первым достоинством, а рабская покорность первой и необходимой…
Мавры покупают себе одежду у негров – посему жены их платье свое носят с величайшей бережливостью: они вообще наготу свою прикрывают большим куском бумажной материи, которой опоясываются и которую опускают вниз почти до земли… обыкновенный головной убор здешних женщин состоит из бумажной повязки, закрывающей лицо от солнечного жара. Надобно, однако, заметить, что мавританские женщины никогда не выходят с двора, не закутавшись с головы до ног.
Здесь кстати замечу я, что бедственное состояние несчастных негритянок достойно всякого сожаления. С самой темной утренней зари они ходят с большими кожаными мехами, которые называются гирбами, за водою; они возят ее на себе, как скоты, для употребления своих господ и для их лошадей, которых мавры весьма редко позволяют гонять на водопой. По окончании сей работы негритянки толкут пшеницу и приготовляют из нее кушанье, в это время палит их сверху солнце, снизу – раскалившийся песок, спереди – разожженный огонь. Между делом метут они палатки, бьют масло, короче: делают все, что только можно представить себе трудного; и невзирая на все сии работы, их кормят очень дурно и бьют самым жестоким образом.
Одеяние людамарских мавров почти ни в чем не отлично от одеяния негров. Первые от последних рознятся только тем, что носят на голове отличительный знак последователей Магометовых – из белой бумажной материи чалму…
Во все то время, как был я в Людамаре пленником, не удалось мне увидеть ни одного человека, на котором была бы оспа. Мне сказывали однако, что она здесь по временам свирепствовала. Я слышал, что из земли мавров часто переходила она к южным неграм, и что негры, живущие на берегах Гамбии, прививая себе оспу, получали от нее выздоровление…
Людамар к северу граничит с великой пустыней Сахарскою. Если можно верить всему, что мне наговорили о песчаном море северной Африки, занимающем столь великое пространство, то оно, по сим известиям, должно совсем быть необитаемо; здесь все места бесплодны: бедные кочующие арабы гоняют свой скот даже и туда, где видят хотя малейший признак прозябения; там, где в некотором изобилии находятся и вода и пастбища, с неописуемой радостью, небольшими отделениями основывают они свои колонии, в которых живут независимо, хотя чрезвычайно скудно, и нимало не боятся тиранской власти варварийских деспотов. Прочая дикая африканская степь совсем безводна; посему в ней никого не увидишь, кроме купцов, очень редко, с великим трудом и опасностью караванами чрез нее проходящих. В некоторых местах сей необозримой пустыни находишь иногда песок, покрытый редкими, иссохшими кустарниками, которые служат для караванов пристанищем и которые для верблюдов бывают самою бедною пищей; устрашенный путешественник вокруг себя ничего более не находит и ничего не видит, кроме открытого неба и неизмеримого песчаного пространства…
Мавры цветом и чертами лица похожи на антильских мулатов; но в физиогномии своей имеют они что-то неприятное. Смотря на лица мавров, кажется, читаешь в них расположение к вероломству и жестокости; всякой раз, когда я со вниманием их рассматривал, невольное беспокойство наполняло мою душу. Взоры их дики; иностранец, при первом на них взгляде, не может не почесть их за людей безумных…
Вероятно, что до приезда моего большая часть людамарских жителей никогда не видывала белого человека; но все они ужасно ненавидят христиан; все думают, что нет никакого преступления в убийстве европейца. Страдания, претерпленные мною во время моего у них заточения, кажется, всем путешественникам могут послужить самым наставительным уроком, удаляться от стран сего жестокого и вероломного народа [10]10
Перевод Г. Покровского.
[Закрыть].
Об открытии верховий Нигера Парк вспоминал:
Я поднял голову и, к моей бесконечной радости, увидел перед собой долгожданную цель своих устремлений – величественный Нигер, искрящийся в лучах утреннего солнца. Он был так же широк, как Темза у Вестминстера, и воды его медленно текли на восток. Я побежал к берегу, напился воды и воздел руки к небу, чтобы от всей души возблагодарить Творца всего сущего, Который увенчал мои усилия этой победой.
Генри Реберн, начало 1800-х годов
Аллан Каннингем
Возможно у Генри Реберн – величайший из шотландских художников-портретистов. Рано осиротевший, он начинал как подмастерье ювелирау потом писал миниатюры, и его заметил и взял под опеку Дэвид Мартин, тогдашний модный портретист. Побывав в Италии, Реберн вернулся в Шотландию и постепенно сделался знаменитым. Ниже приводятся отрывки из сборника, составленного викторианским эссеистом Джоном Брауном; этот сборник посвящен жизни и творчеству Реберна.
Аллан Каннингем – друг художника.
Хотя студия его помещалась на Йорк-плейс, жил он в Сент-Бернарде, поблизости от Стоукбриджа, и дом его окнами выходил на залив Лейт – место весьма романтическое. Крутые склоны холмов поросли деревьями, сад при доме выглядел таинственно и прекрасно, а уединенность этого места позволяла ему без помех предаваться размышлениям. Распорядок его дня был строго определен, словно раз и навсегда. Летом он вставал в семь, завтракал около восьми с женой и детьми, затем отправлялся пешком в просторную студию в доме номер 12 на Йорк-плейс… и к девяти часам принимал первого клиента; на протяжении многих лет в день он принимал не менее трех или даже четырех клиентов. Каждому из них он уделял по полтора часа и редко задерживал клиента более чем на два часа, если только не выяснялось – а такое происходило нередко, – что этот человек наделен неким необыкновенным талантом. Тогда он чувствовал себя счастливым и не отпускал клиента до тех пор, покуда в дверь не стучался следующий.
Чтобы нарисовать голову, ему обычно требовалось четыре или пять сеансов, и он предпочитал изображать именно голову и руки, заявляя, что эти части тела не требуют пристального внимания. Складка драпировки, естественная небрежность, с которой некто набрасывал плащ на плечи – подобные явления интересовали его куда более, нежели человеческая голова, средоточие мыслей и воображения. Он обладал столь глубокой интуицией, что первый сеанс редко завершался без того, чтобы он составил себе полное представление о характере и склонностях клиента. Он никогда не рисовал мелом, но сразу брался за кисть…
Лоб, подбородок, нос и губы наносились на холст первыми. Он всегда рисовал стоя и никогда не использовал опору для руки; у него был столь острый глаз и столь крепкие нервы, что самые изящные штрихи наносил он почти механическими движениями, ничуть не полагаясь на различные приспособления, лишь мановением руки. В студии он обыкновенно оставался до пяти, после чего возвращался домой и в шесть часов ужинал…
Один из клиентов художника вспоминал:
Он произнес несколько слов в привычной дружелюбной манере – должно быть, чтобы ободрить меня; затем усадил меня в кресло на помосте у дальней стены студии, придал мне нужную позу, взял в руки палитру и подошел к холсту. Убедившись, что все в порядке, он взмахнул кистью, отступил на несколько шагов, продолжая смотреть на меня, и остановился, почти уперевшись спиной в противоположную стену; так он простоял с минуту, потом вернулся к холсту и, не глядя на меня, принялся работать кистью. Затем снова отошел подальше, еще минуту разглядывал меня, торопливо подскочил к мольберту и вновь заводил кистью.
Мне доводилось позировать другим художникам, и они вели себя совершенно иначе – тщательно вырисовывали черновики мелом, измеряли пропорции, ставили мольберты почти вплотную и не отрывали взгляда от моего лица, насыщая наброски цветом. Так они добивались сходства в мельчайших подробностях; Реберн же отлично передавал выражение, настроение. Другие делали аккуратные штрихи, а он работал широкими мазками; они выявляли человека – а он показывал душу.
Эмиграция из Хайленда, 1806 год
Джеймс Крэйг
Разделе «Статистическом обозрении Шотландии» за 1805 год, посвященный приходу Страхур, дает представление об официальной позиции по отношению к горцам-хайлендерам: «Если обстоятельства вынуждают горца покинуть тот малый круг, в котором он вращался с детства, он может уехать сколь угодно далеко. Иной приход, поселение на территории другого клана – подобное для него равносильно изгнанию; поэтому, если обстоятельства вынуждают к переменам, он скорее пересечет Атлантику, нежели переселится в соседнюю долину». В том же году граф Селкерк, собиравшийся основать колонию в Канаде, напечатал памфлет, восхвалявший прелести эмиграции; граф также задавался риторическим вопросом: если горцев уже лишили исконных земель, «почему они столь жарко сопротивляются тем, кто желает им блага?» Подобная позиция возмутила адвоката Джеймса Крэйга, и тот опубликовал в «Эдинбург геральд» несколько открытых писем графу.
Будучи привязан к стране, меня взрастившей, не могу не высказаться по поводу этого сочинения, десять из двенадцати глав которого призваны развеять опасения, каковые вызывает предлагаемая эмиграция и у самого бесстрастного хайлендера. Да, дома далеко не все гладко, жизнь здесь мрачна и полна забот, однако дом есть дом, представление о доме не ограничивается, вопреки утверждениям графа Селкерка, независимостью, безопасностью, дружеским общением и прочими ценностями горцев, каковые его милость сулит эмигрантам. Он обращается к крестьянам с такими словами: «Покидайте свои дома, покидайте страну, которой вы более не нужны, ведь здесь у вас есть кусок хлеба, но ради этого куска вас принуждают отказаться от всего, что вам дорого. Поэтому уезжайте, эмигрируйте; и если вы выберете колонию, которую я намерен основать, и расчистите несколько акров канадского леса, вы будете благополучны и счастливы так, как и не снилось вашим отцам». Также он обращается к законодательной власти и говорит: «Поощряйте эмиграцию, избавьте себя от этих беспокойных горцев, освободите горы, отошлите кланы в чужие земли, и там они проникнутся любовью к родине, их отвергнувшей». Такова, по моему мнению, суть сочинения его милости; и пусть он приукрашивает суровую действительность различными красочными сравнениями и убедительными доводами, главная и единственная его цель – сделать эмиграцию более привлекательной для народа и менее обременительной для правительства…
Я не стану, учитывая нынешнее положение дел в Европе, говорить об отчаянии и унынии, однако не могу не посоветовать нашему поборнику эмиграции присмотреться к нашей армии, к потребностям нашего флота; изучить спрос на местном рынке труда и потребности наших промышленников, механиков и фермеров, прежде чем предаваться пустопорожним фантазиям об эмиграции; я советую вспомнить о сотнях акров пустующих земель, прежде чем рассуждать о сокращении и без того малочисленного населения; а еще я с удовольствием напоминаю, что до выхода в свет сочинения лорда Селкерка философы в один голос утверждали: сила нашей страны – в ее жителях, ее крестьянстве, а значит (и этим я не хочу ущемить ничьи чувства) и в ее хайлендерах…
Граф говорит, что горцев, столь ленивых и не желающих трудиться дома, переселят в колонию его светлости не раньше, чем они сделаются предприимчивыми, трудолюбивыми работниками и приобретут воинский опыт. Получается, что эмиграция предполагает полное перерождение человека, и лишь ее посредством последний лишается наследственных пороков, каковые преобразуются в свои противоположности…
Его милость доказывает, что для хайлендера всякая перемена пейзажа уже есть эмиграция, что пересечение Клайда для него равносильно пересечению океана, что Глазго и Пэйсли для него столь же чуждые земли, как и побережье Лабрадора или Сент-Джона. Чтобы быть счастливым, горцу нужна своя земля, а чтобы получить эту землю, ему нужно эмигрировать… Я бы очень хотел, чтобы его милость и те, кто с ним заодно, задали себе простой вопрос: учитывая особенности климата в Хайленде, не проще ли горцу перебраться в «Глазго и Пэйсли», чем в поселения американских индейцев? И даже если допустить, что обычаи и повадки в Ланарке или Ренфрю могут поначалу удивить уроженца Аргайла или Инвернесса, неужели эти обычаи и повадки шотландцу усвоить затруднительнее, нежели традиции тех, кто обитает на берегах Миссисипи и Ориноко?..
Поэмы Оссиана, 1806 год
Сэр Вальтер Скотт
Литературная Европа с восторгом встретила публикацию переводов древних эпических поэм, которые молодой шотландский учитель и поэт Джеймс Макферсон, по его собственному утверждению, отыскал в хайлендской глубинке; эти поэмы якобы сочинил гэльский бард Оссиан. Романтические и весьма эмоциональные, эти поэмы обрели широкую популярность и были переведены на многие языки. Первым усомнился в их подлинности Сэмюел Джонсон, а уже после смерти Макферсона, в 1805 году было опубликовано заключение, что эти поэмы сочинил сам Макферсон, опираясь на обрывки гэльских сказаний. При этом заключение воздавало должное литературному мастерству Макферсона. Сэр Вальтер Скотт изложил свои взгляды на дискуссию в письме писательнице Анне Сьюард.
…Что же касается упомянутого грандиозного спора, я не был бы шотландцем, если бы в своих исследованиях не обратил внимания ни эти сочинения, и действительно некоторое время у меня на столе лежали двадцать или тридцать оригинальных текстов Оссиановых поэм. Я, разумеется, допускал, что они пострадали в переводе, а также что на состоянии сказаний, собранных ныне, не могли не сказаться те перемены, которым подвергся Хайленд после того, как там побывал Макферсон, однако по зрелом размышлении все же пришел к выводу, что значительная часть английского Оссиана представляет собой сочинения самого Макферсона и что его предисловия и изыскания есть не что иное, как обоснование подделки…
Хайлендерское общество недавно приступило к изучению, точнее, к собиранию материалов для установления подлинности Оссиановых поэм. Исследования показали, что оригиналов этих поэм, в обиходном значении слова «оригинал», попросту не существует. Древнейшие сказание, каковое удалось разыскать, – это, судя по всему, предание о Дартуле, однако оно и сюжетом, и стилем принципиально отличается от поэмы Макферсона, при этом являясь прекрасным образчиком кельтской поэзии, каковой необходимо сохранить для потомства; и как может быть иначе, если мы отлично знаем, что еще пятьдесят лет назад в Хайленде проживали поэты, в роду которых поэтическое творчество передавалось по наследству? Возможно предположить, что среди сотен тех, кто наследовал друг другу на протяжении поколений, да еще в стране, пейзажи и обычаи которой питают воображение и бесконечно разнообразят творчество, обязательно были те, кто достиг совершенства в своем искусстве. Разыскивая ранние образцы кельтской музы и сохраняя их от забвения вместе со всеми теми любопытными сведениями, которые они содержат, наши антиквары, по моему скромному суждению, сделают намного больше для своей страны, чем если бы они продолжали свою погоню за фантастической химерой…
Строительство маяка Белл-Рок, сентябрь 1807 года
Роберт Стивенсон
Семейство Стивенсонов, из которого впоследствии вышел писатель Роберт Луис, стало пионерами строительства современных маяков, благодаря чему сделалось одним из самых влиятельных в стране. Среди ранних сооружений Стивенсонов – маяк Белл-Рок, великолепный образец промышленной архитектуры. Скала Белл-Рок, в одиннадцати милях к юго-востоку от Арброта, представляла собой, по словам Роберта Стивенсона, «полузатопленный утес… расположенный таким образом, что он издавна внушал страх морякам у восточного побережья Шотландии». Из-за отдаленности скалы работы возможно было вести только во время отлива, по несколько часов в день. Строителям пришлось столкнуться с немалыми трудностями и опасностями, а страшнее всего было, когда море унесло от причала катер« Смитон», увлекший за собой и лодку (всего в распоряжении строителей было три лодки).
В этих суровых обстоятельствах он разрывался между надеждой и отчаянием… Люди остались на полузатопленной скале посреди моря, а приближавшийся прилив грозил полностью затопить этот одинокий камень. Тем утром на скале находились тридцать два человека, располагавшие всего двумя лодками, вместимость которых даже в ясную и спокойную погоду не превышала двадцати четырех человек; а чтобы лодки могли выдержать сильный ветер и бурное море, в них нельзя было сажать более восьми человек в каждую, так что не менее половины из нас оставались без мест. Учитывая все это, автор этих строк отважился отправить одну лодку ловить «Смитон» и по возможности привести помощь; строители немедленно зароптали, так как каждому хотелось оказаться на борту в числе восьми избранных и плыть к суше, а «Смитон» с экипажем предоставить его собственной участи. Разумеется, вспыхнул спор, и если вспомнить, что люди отчаянно опасались за свои жизни, трудно сказать, чем бы он мог завершиться. Автору этих строк позднее сообщили, что компания мастеровых была готова отобрать у нас одну из лодок силой.
Что касается печального жребия «Смитона», о том некоторое время было известно лишь автору этих строк и лоцману, который отошел на дальний край скалы и внимательно следил за движениями судна. Покуда мастеровые трудились, кто на корточках, кто на коленях, вырубая в скале отверстия и устанавливая перемычки, покуда стучали молотки и продолжал работать кузнец, положение выглядело не столь жутким. Когда же вода начала подниматься и достигла тех, кто трудился внизу, то огонь в кузнице оказался погашен раньше обычного, дым прекратил застилать глаза, и нашим взглядам открылись окрестности – пространство ярившейся воды и далекая суша. Проработав около трех часов, люди привычно двинулись к лодкам за куртками и теплыми штанами и с изумлением увидели вместо трех лодок всего две, поскольку третью увлек за собой «Смитон».
Никто не проронил ни слова, однако все наверняка принялись подсчитывать про себя, сколько людей на скале, и озабоченно переглядываться. Лоцман, сознавая, что пропажу катера с лодкой можно поставить ему в вину, держался поодаль. В этот миг автор этих сток стоял на возвышении и наблюдал за движением «Смитона», немало удивленный тем, что экипаж не удосужился обрубить концы и освободить лодку, тащившуюся на буксире и замедлявшую ход, а также и тем, что никто не пытался вернуть управление судном и поспешить нам на выручку. Рабочие пристально глядели на меня, время от времени косились на катер, по-прежнему болтавшийся в море. Все это происходило в полнейшей тишине, в сочетании с которой тоска, читавшаяся в глазах людей, делала зрелище незабываемым.
Автор этих строк обдумывал всевозможные варианты – исходя из того, что люди будут ему подчиняться; быть может, размышлял он, стоит рассадить всех в оставшиеся лодки и отчалить, а «Смитон» сумеет их подобрать? И он уже собрался известить рабочих о своем плане и предложить, чтобы, с учетом грозящей опасности, все они сняли верхнюю одежду, когда верхушка скалы окажется под водой. Морякам же следует выкинуть из лодок все лишнее, и тогда все, кто поместится, сядут в лодки, а прочие поплывут рядом, держась за планшир, и лодки пойдут на веслах в направлении «Смитона», поскольку маяк от катера находился на подветренной стороне.
Но когда он попытался заговорить, то не смог вымолвить ни слова – во рту пересохло, и язык отказывался слушаться. Тогда он повернулся, зачерпнул морской воды из лужицы у ног и смочил губы, что принесло облегчение. И каков же был его восторг, когда, выпрямляясь, он услышал чей-то крик: «Лодка, лодка!» и увидел невдалеке большую лодку, державшую курс на скалу. Все, кто был на утесе, оживились и возбужденно загомонили. Нашим спасителем оказался Джеймс Спинк, лоцман из Арброта; выяснилось, что он некоторое время наблюдал за «Смитоном» и предполагал, по погодным условиям, что все строители на борту катера, пока не подвел свое судно поближе и не разглядел людей на скале; впрочем, полагая, что его вмешательство не требуется, он бросил якорь и принялся рыбачить, ожидая, как обычно, что мы дадим ему сигнал вести нас в гавань – его лодка была слишком крупной, чтобы приближаться к скале без риска напороться на камни…
Когда обстоятельства счастливо переменились, шестнадцать мастеровых в два приема перевезли на лодку… за ними последовали вторые шестнадцать человек. Потом мы взяли на буксир свои лодки, и всякий был безмерно рад покинуть Белл-Рок тем утром, пусть нас ожидал долгий и опасный переход к гавани, ведь ветер к тому времени изрядно усилился, а море вспенилось и катило валы…