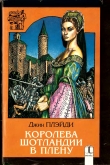Текст книги "Шотландия. Автобиография"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Соавторы: Роберт Льюис Стивенсон,Даниэль Дефо,Вальтер Скотт,Кеннет Грэм,Уинстон Спенсер-Черчилль,Публий Тацит,Уильям Бойд,Адам Смит,Дэвид Юм,Мюриэл Спарк
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц)
Американская война за независимость, 1776 год
Полковник Арчибальд Кэмпбелл
Шотландские солдаты сыграли немаловажную роль в войне за независимость американских колоний. В стране было столько желающих отправиться на войну, что некоторые, отвергнутые рекрутерами, тайком пробирались на корабли. Впрочем, если они ожидали триумфа роялистов, их ожидания не оправдались. Одним из разочарований стала осада Бостона, когда американские «мятежники» во главе с Джорджем Вашингтоном заставили британского генерала Хоува эвакуировать город. Он не удосужился предупредить об этом ожидавшиеся британские корабли. В приводимом ниже письме полковник 71-го Королевского Горного полка описывает, как он и его люди вошли в гавань Бостона, не ведая, что помощи здесь не дождутся.
Сэр,
С прискорбием извещаю, что мне не посчастливилось угодить в руки американцев в гавани Бостона, однако не могу не упомянуть об обстоятельствах, каковые сделали мое пленение возможным. При этом я не льщу себя надеждой на оправдание самого себя и моих офицеров. Итак, 16 июня транспорты «Джордж» и «Арабелла» с солдатами 71-го Королевского Горного полка встали у мыса Кейп-Энн, за семь недель преодолев расстояние от Шотландии до Америки; за время пути нам не встретилось ни одного корабля, а посему мы не могли знать о том, что британские войска покинули Бостон. На следующий день мы подошли к устью бостонской гавани и по причине противного ветра вынуждены были маневрировать. Около четырех утра показались четыре шлюпа, которые мы приняли за лоцманские лодки или вооруженные корабли на службе его величества, но это оказались американские приватиры (на каждом по восемь пушек и сорок человек команды). Полчаса спустя два из них приблизились к нам, а к одиннадцати часам подошли и отставшие. Транспорт «Джордж», на борту которого находились мы с майором Мензисом, сто восемьдесят солдат Второго батальона, адъютант, квартирмейстер, два лейтенанта и пять добровольцев, имел всего шесть пушек; «Арабелла», на которой находились капитан Маккензи, два субалтерна, двое добровольцев и восемьдесят два солдата Первого батальона, несла две пушки. При подобных обстоятельствах я посчитал необходимым для «Арабеллы» держаться впереди «Джорджа», чтобы мы могли использовать свою артиллерию с большим успехом. Два приватира расположились по нашему левому борту и открыли огонь, и канонада с малыми перерывами продолжалась приблизительно до четырех часов дня, когда враг отвалил и встал на якорь в Плимутской гавани. Наши потери к тому времени составляли всего троих, смертельно раненных на борту «Арабеллы». Поскольку приказы предписывали мне высадиться в Бостоне, я посчитал своим долгом идти в гавань, не сомневаясь, что там мы окажемся под защитой форта или же здешней эскадры.
Ближе к ночи мы вновь увидели те четыре шлюпа, с которыми сражались поутру; теперь к ним присоединился еще шестнадцатипушечный бриг… и один шлюп двинулся в нашем направлении. Мы же продолжали идти к берегу, и тут по нам начала стрельбу американская береговая батарея, что стало неожиданностью и дало понять: в Бостоне у нас едва ли много друзей; мы зашли в бухту слишком глубоко, чтобы отступать, особенно учитывая, что ветер стих, а отлив еще не наступил. После того как оба корабля дважды задели килями дно, мы встали на якорь у острова Джордж, и тут, по нелепой случайности, «Арабелла» наскочила на мель и осталась у нас за кормой, так что на поддержку ее стрелков рассчитывать вряд ли приходилось. Около одиннадцати часов четыре шлюпа бросили якорь прямо перед нами, а еще один встал у нас за кормой. Бриг подошел с правого борта на расстояние около двухсот ярдов, и с него нам приказали спустить британский флаг. Хотя старший помощник, которого поддержали все моряки, бывшие на палубе (отсутствовал лишь капитан), отказался сражаться, я с искренней радостью сообщаю, что не нашлось офицера, унтер-офицера или рядового 71-го полка, которые отказались бы идти в бой. Когда мы отвергли приказ о спуске флага, стрельба между кораблями возобновилась, и, к великому сожалению, после полутора часов перестрелки мы израсходовали все боеприпасы. И тогда, будучи окружены шестью приватирами посреди вражеской гавани, при полном штиле, не имея возможности уйти или хотя бы малейшей надежды на спасение, мы решили сдаться; это было мое решение, я счел своим долгом не жертвовать впустую жизнями доблестных воинов. В перестрелке погибли майор Мензис и семеро солдат, квартирмейстер и двенадцать нижних чинов были ранены. Майора похоронили с почестями на берегу.
Что касается плена, спешу уверить, что с нами обращаются так, как подобает обращаться с пленными по всем правилам, и мы получаем необходимое попечение от властей Бостона, вследствие чего, сэр, не упомянуть об этом было бы с моей стороны неблагородно. Настоящим также осмелюсь просить, чтобы теперь, когда подробности этого поражения стали известны, предпринять шаги к скорейшему нашему освобождению.
Надежды Кэмпбелла на скорое освобождение не оправдались: он и его офицеры получили свободу лишь в мае 1778 года.
Богатство наций, март 1776 года
Давид Юм
Публикация работы Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» стала вехой в истории экономической и политической мысли. Близкий друг Смита философ Давид Юм одним из первых оценил значение этого труда.
Эдинбург, 1 апреля 1776 года
Прекрасно! Дорогой мистер Смит, я искренне восторгаюсь Вашим произведением, появление которого сбросило с моих плеч бремя забот. Мы, Ваши друзья, и широкая публика с таким нетерпением ожидали издания Вашего сочинения, что изводили себя этим ожиданием, однако ныне все наши тревоги позади. Безусловно, чтение подобного труда требует немалого внимания, а публика обычно не склонна к такому, и потому я испытываю определенные сомнения относительно популярности Вашего сочинения, но оно наделено глубиной мысли, солидностью и достоверностью, а также сопровождается множеством любопытных фактов, посему, полагаю, публика все же окажет ему должное уважение. Смею сказать, что на содержании книги благотворно сказалось Ваше пребывание в Лондоне. Если бы Вы были сейчас здесь, думаю, мы с Вами нашли бы, о чем поспорить. Мне не кажется, что доход хозяйства сказывается на цене товара, я считаю, что цена определяется количеством товара и спросом. Мне представляется невероятным, чтобы король Франции мог получать 8 процентов от чеканки монет. Никто бы не стал на таких условиях пользоваться предложением герцога Бульонского; куда дешевле и проще было бы сделать заказ в Голландии или в Англии и получить монеты всего за 2 процента. Также и Неккер говорит, что французский король получает лишь 2 процента. Но эти соображения, как и добрая сотня других, подождут личной встречи между нами, каковая, если у Вас нет возражений, я льщу себя надеждой, вскоре состоится, ибо здоровье мое ужасно, и я не могу позволить себе строить планы на отдаленное будущее…
Кончина Давида Юма, 25 августа 1776 года
Адам Смит
Спустя некоторое время после смерти философа Адам Смит написал его издателю Уильяму Страхану о последних неделях жизни Юма. В этом искреннем панегирике Юм предстает человеком чрезвычайно привлекательным и добродушным, однако известно, что его упорство и нежелание признавать иные точки зрения изрядно злили часть шотландских: ученых и аристократов; а потому, как позднее писал Смит: «Совершенно безобидный очерк, посвященный мною памяти мистера Юма, припомнили мне уже десяток раз; он нанес мне куда больше ущерба, нежели я сам причинил британской коммерции».
Киркалди, графство Файф, 9 ноября 1776 года
Досточтимый сэр,
С истинным удовольствием, пускай омраченным светлой печалью, сажусь я за воспоминания о нашем чудесном друге, мистере Юме, в последние его дни среди живых…
Он был столь весел и столь блистал своим привычным остроумием, что, вопреки очевидным свидетельствам, многие люди не могли поверить тому, что он умирает. «Я должен сообщить вашему другу полковнику Эдмондстоуну, – сказал ему однажды доктор Дандас, – что ваше состояние изменилось к лучшему, и это не может не радовать». «Доктор, – отвечал он, – поскольку, полагаю, вы всем говорите только правду, пожалуйста, скажите ему, что я умираю так же быстро, как мои враги, буде таковые отыщутся, и так же легко и весело, как того могли пожелать мои лучшие друзья…»
Твердость убеждений мистера Юма и его стойкость были таковы, что, как хорошо знали его близкие друзья, они не подвергали опасности дружбу, разговаривая с ним или упоминая в письмах о его скорой и неизбежной кончине; ничуть не уязвленный это прямотой, он был, скорее, за нее благодарен и, чувствовал себя польщенным. Мне как-то случилось навестить его, когда он читал письмо, только что полученное, каковое немедля показал мне. Я сказал, что, хотя я вижу, насколько он ослабел, и его наружность несет очевидные признаки недуга, все же он так весел, дух жизни так в нем силен, – что я попросту не могу не предаваться тщетным надеждам.
Он отвечал: «Ваши надежды безосновательны. В любом возрасте расстройство кишечника, растянувшееся более чем на год, покажется страшным недугом, а в моем возрасте оно смертельно. Ложась в постель вечером, я чувствую себя слабее, чем вставал с нее утром, а когда встаю утром, чувствую себя слабее, нежели накануне вечером. К тому же я отдаю себе отчет, что затронуты некие жизненно важные органы, а потому я неизбежно должен умереть». «Что ж, – сказал я, – если так тому и быть, вы можете утешаться тем, что оставляете своих друзей, в особенности семью своего брата, в большом достатке».
Он сказал, что ощущает это удовлетворение столь остро, что, несколько дней назад читая Лукиановы «Разговоры в царстве мертвых», среди всех поводов, приводимых душами, чтобы не вступать в ладью Харона, себе он не сумел подобрать ни одного подходящего: ему не нужно достраивать дом, у него нет дочери, которой требуется приданое, нет врагов, которым надлежит непременно отомстить. «Не могу представить, – прибавил он, – как я мог бы получить у Харона хотя бы малую отсрочку. Я сделал все, что когда-либо хотел сделать, и не думаю, что наступит день, когда я смогу более прежнего позаботиться о своих родственниках и друзьях; почему у меня есть все основания быть довольным».
Затем он стал придумывать, что бы мог все-таки сказать Харону, какие найти оправдания, и давать на эти оправдания весьма суровые ответы, подобающие, по его мнению, мрачному лодочнику. «Если хорошенько подумать. – прибавил он, – я бы, пожалуй, сказал ему так: добрый Харон, я очень занят тем, что исправляю ошибки в предыдущем издании своих сочинений. Дай мне немного времени, чтобы я увидел, как воспримет публика эти исправления. А Харон ответил бы, что когда я завершу эти исправления, мне захочется внести новые. И конца подобным оправданиям не предвидится, так что, милый друг, ступай-ка в ладью. Но я стоял бы на своем: дескать, имей терпение, добрый Харон. Я имел удовольствие раскрыть глаза почтенной публике. Если я проживу на несколько лет дольше, то, быть может, увижу наяву, как рухнут былые предрассудки. А Харон разъярился бы и воскликнул: ах ты, негодяй! этого не случится еще сотни лет! Неужто ты полагаешь, что я отпущу тебя на такой срок?! Полезай в ладью немедленно, мелкий ты мошенник!..»
Беседа, о которой я упомянул выше, состоявшаяся в четверг, 6 августа, была предпоследней из тех, какими мы с ним наслаждались. Он ослабел настолько, что его утомляло общение даже с ближайшими друзьями, однако веселости не утратил, равно как и дружелюбия и радушия, и потому, когда бы ни заходил к нему друг, он не мог удержаться от разговоров, вопреки слабости тела. По его собственному желанию я согласился покинуть Эдинбург, где оставался почти исключительно из-за него, и вернулся в дом своей матушки в Киркалди, ожидая, что он, буде понадобится, пошлет за мной; врач, навещавший его чаще других, доктор Блэк, время от времени сообщал мне о состоянии его здоровья.
Двадцать второго августа доктор прислал мне следующее письмо.
«С моего последнего визита мистер Юм ничуть не утратил присутствия духа, хотя и слабеет физически на глазах. Он сидит в постели, раз в день спускается по лестнице, развлекает себя чтением, но редко кого-либо принимает, поскольку обнаружил, что утомляется даже беседой с ближайшими друзьями; по счастью, это его не угнетает, ибо ему неведомы тревоги, нетерпение или дурное расположение духа, и он вполне довольствуется компанией книг».
На следующий день я получил письмо от мистера Юма, из которого привожу отрывок.
Эдинбург, 23 августа 1776 года
Мой дражайший друг,
Я вынужден воспользоваться помощью племянника, коему диктую это письмо, ибо сегодня я не смог встать… Конец приближается стремительно, прошлой ночью меня одолела лихорадка, которая, как я надеялся, ускорит течение этого утомительного недуга; увы, она как-то незаметно прошла. Я ни в коем случае не хочу, чтобы Вы приезжали, потому что сколько-нибудь продолжительной беседы нам иметь не суждено; доктор Блэк сообщит Вам о том, какие силы еще остались в моем распоряжении.
Три дня спустя пришло письмо от доктора Блэка:
Эдинбург, понедельник, 26 августа 1776 года
Досточтимый сэр,
Вчера около четырех часов дня мистер Юм скончался. Приближение смерти сделалось очевидным в ночь с четверга на пятницу, когда у него случился общий приступ и он ослабел настолько, что уже не смог подняться с постели. До последнего мгновения он оставался в сознании и почти не испытывал боли. Ни разу он не выразил страдания или гнева, а когда заходила речь о людях, его окружающих, неизменно отзывался о них с добротой и нежностью… Когда он совсем ослабел, ему стало трудно говорить, однако умер он в столь благостном душевном состоянии, что ему остается лишь позавидовать.
Так отошел в мир иной наш замечательный друг, которого мы никогда не забудем; относительно философских воззрений, разумеется, судят по-всякому, одни их одобряют, другие отвергают, случись им совпасть или не совпасть с их собственными взглядами; но вот о личности и нраве покойного мистера Юма можно рассуждать исключительно в превосходных тонах. Если позволительно так выразиться, нравом он был счастливее любого человека на свете. Даже в стесненных обстоятельствах он, побуждаемый к строжайшей бережливости, никогда не чурался благотворительности. Его бережливость зиждилась не на алчности, а на стремлении к независимости. Мягкость натуры сочеталось в нем с твердостью убеждений, остротой ума и непоколебимостью решений. Он был чрезвычайно приятен в общении, добродушен и дружелюбен, держался всегда ровно и скромно и никогда не выказывал и толики злости в отношении иных, да и того, что зовется язвительностью, в нем не ощущалось. Он никогда не стремился кого-либо унизить, и потому его критика не оскорбляла, а, сколь ни удивительно, ободряла и вдохновляла… Веселость нрава и расположение к другим часто, как мы наблюдаем, перерастают во фривольность и снисходительность, однако для него подобного невозможно представить; он был человеком весьма сведущим, весьма начитанным, мыслил широко и всегда был готов помочь. Скажу прямо, я считал, еще когда он был с нами, и считаю теперь, когда его с нами нет, мистера Юма образцом человека мудрого и добродетельного настолько, насколько сие доступно человеческой природе.
Сахарные плантации на Ямайке, 1784 год
Захария Маколей
Захария Маколей родился в Инверери в семье священника. В четырнадцать лет его отослали в Глазго в ученики к купцу, но вольготная городская жизнь и разгульные друзья из университета Глазго побудили его в шестнадцать лет уплыть в Новый Свет и сделаться клерком на сахарной плантации. Описание условий, в которых он сам и другие белые жили среди рабов, навевает тоску. В отличие от других, Маколей не смог заглушить в себе голос совести и по возвращении в Британию сделался одним из рьяных поборников отмены рабства.
Ближе к концу 1784 года случилось событие, которое в немалой степени определило мой жизненный путь и дало повод к серьезным размышлениям. Я внезапно осознал, что единственной возможностью вырваться из того лабиринта, в который я себя загнал, является отъезд за границу. Я сообщил о своем желании отцу, и было решено, что я попытаю счастья в Восточных Индиях. (По предложению друга, впрочем, отец отправил меня в Вест-Индию…)
На протяжении плавания до Ямайки у меня было вдоволь времени для размышлений. И я укрепился духом в отношении тех пороков, каковым прежде ощущал себя подвластным. Более всего хлопот доставляла мне дружеская компания, и я твердо вознамерился с этим покончить, и хотя всякое подобное решение, как правило, никогда не исполняется в полной мере, это имело следствием, что я отрекся от чрезмерного употребления спиртного и впоследствии строго соблюдал сей зарок.
В ту пору мне еще не исполнилось семнадцати лет, и, высадившись на Ямайке, я обнаружил, что у меня нет ни денег, ни друга, к которому я мог бы обратиться за помощью. Рекомендательные письма к людям, облеченным властью… были с пренебрежением отвергнуты. Если прежде я тешил себя мечтами о богатстве и почестях, ныне эти мечты рассеялись, однако разочарование не подорвало моих устремлений. Равнодушие со стороны тех, от кого, как мне думалось, я вправе ожидать поддержки, меня, конечно же, задело и разозлило, но я счел при этом, что трудности, неожиданно возникшие, укрепят мой дух, и не стал унижать себя дальнейшими просьбами о помощи.
Мои тяготы, впрочем, длились недолго. Джентльмены, к которым писал друг отца, ходатайствуя за меня, скоро меня разыскали и выказали преизрядную доброту. Их радениями я получил должность писца, или клерка, на сахарной плантации.
Так началась для меня новая жизнь, в которой едва ли не все противоречило моим убеждениям и вкусам. Работа оказалась утомительной до чрезвычайности, о чем я прежде не имел ни малейшего представления, вдобавок я оказался совершенно не готов к высокомерию, жестокости, злобе и тираническим наклонностям местных надсмотрщиков над рабами. Однако выбирать не приходилось, и я смирил зревший внутри меня гнев, поскольку выбор был прост – смириться или умереть от голода.
Здоровье мое было в порядке, а потому я с напускным весельем исполнял свои обязанности и следил за рабами. Что больше всего меня поначалу угнетало, так это понимание, что благодаря своей должности я невольно оказался свидетелем жестокостей, одно воспоминание о которых по сей день повергает меня в ужас. Я с самого первого дня беспредельно сочувствовал несчастным рабам, и всякое их наказание воспринималось мною столь остро, как если бы наказывали меня самого.
Но жребий был брошен; отступать было поздно. Я бы с радостью вернулся в Европу, но у меня не было денег на оплату места на судне, и ни к кому на родине я не мог обратиться с просьбой о займе, только к отцу, а скорее умер бы, чем позволил бы себе усугубить хотя бы в малой степени те невзгоды, которые его и без того окружали. Иными словами, в Вест-Индии я был просто обязан терпеть, если не хотел уронить себя в глазах тех, чьим мнением дорожил. Поэтому я постарался как можно скорее избавиться от излишней мягкотелости как от обременительного неудобства – и преуспел в этом паче собственных ожиданий.
Слова Вергилия «Легка дорога в ад» суть яркое и жизнеподобное описание пути морального упадка, на который человек ступает, едва отклонившись от тропы долга. Я вскоре стал утешать себя тем, что долг перед работодателем требует строгого исполнения приказов и не допускает ненужных мук совести, а вот долг перед собой, перед моим отцом и друзьями состоит в том, чтобы преодолеть все препятствия, какие норовит подбросить судьба, а «всякие сантименты» суть глупость, детский лепет и попросту смехотворны.
В 1785 году я написал другу: «Сколь нынче далека моя участь от того, о чем мечталось, я по собственной прихоти обрек себя на полуголодное существование в изнурительном климате! Воздух того острова, должно быть, обладает неким особым свойством, ибо стоит только ступить на берег, как прежний образ мыслей мгновенно изменяется. По всей вероятности, всякий новый человек тут начинает вести себя подобно окружающим. Вы бы сейчас вряд ли узнали своего друга, с которым провели столько часов в милых сердцу краях, доведись Вам увидеть меня в полях тростника, среди едва ли не сотни чернокожих, бранящихся и проклинающих, а над их головами свистит хлыст, и бедолаги жалобно вскрикивают каждый раз при ударе, отчего кажется, будто волей случая ты оказался в адских кругах».
Сия картина, способная шокировать кого угодно, ничуть не была преувеличением; однако мой рассудок к тому времени укрепился, и хотя несколькими месяцами ранее в письме к тому же другу я правдиво описывал ему страдания несчастных негров и их горькую судьбину и признавался в сострадании к ним, теперь я сделался равнодушным, зачерствел душой и не испытывая душевных мучений записывал штрафы и прочие наказания. Впрочем, я установил для себя некие нормы справедливости, каковых все же старался придерживаться.
Но час раскаяния близился. Страшный недуг уже давно подтачивал мое здоровье и едва не свел в могилу. Я почти умер, а мои начальники восприняли эту болезнь с поразительным равнодушием. Что ж, оставалась, как ни удивительно, толика восторженного отношения к жизни, каковая даже в самые черные дни не позволяла мне окончательно расстаться с надеждой на лучшее. Даже мечась в лихорадке на соломенном тюфяке, за занавеской, которую никто не отдергивал, изнемогая в тоске хотя бы по наискромнейшим удобствам, не в силах получить утешения от друга, не имея возможности утолить снедавшую меня жажду, – я сохранял силу духа.
Меня бросает в дрожь, стоит вспомнить, сколь близко я подошел к краю, за которым лишь тьма и вечность. Конечно, доведись мне таки умереть, я бы очутился в тех областях, каковые навеки лишены милосердия, в областях, где даже Господь никого не щадит. Должно быть, самому себе я виделся веткой, которую вот-вот подожгут… Эти страдания и метания, должен признать, закалили меня, и я исцелился душой, как бывает, когда человек, искренне верующий, читает Библию и сознает, что прежде шел путями, неугодными Богу.
Когда здоровье вернулось ко мне, дела стали налаживаться, появились новые друзья, выражавшие желание помочь в моих начинаниях. Мне стало нравиться тут; более того, я даже начал наслаждаться здешней жизнью.
Держался я, для вест-индского плантатора, скромно и с достоинством, ибо я полагал, что развязность манер, присущая здесь едва ли не каждому, не подобает человеку, какое бы положение он ни занимал. Повадки же мои были теми же самыми, что и у прочих. Я подражал своему окружению, и об этой поре своей жизни мне не хочется ни говорить, ни вспоминать ее. В те дни я нес омерзительную службу наихудшему из хозяев…