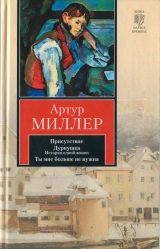
Текст книги "Присутствие. Дурнушка. Ты мне больше не нужна"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
– Нет, – сказал он. Он уже был готов уйти, но хотел продолжать то, что явно было для него самым интересным разговором за все последние недели. – А они католики? Эти евреи?
– Он спрашивает, не католики ли эти наши евреи.
Бернстайн откинулся на спинку стула, в глазах его застыло сложное выражение – он был очень удивлен. Винни ответил мужчине, а тот снова посмотрел на Бернстайна, словно желая получше разобраться в этой странности, но долг звал его в путь, и он пожелал им всяческих успехов и попрощался. Он прошел к двери в кухню и поблагодарил девушку-официантку, добавив, что буханка свежеиспеченного хлеба будет греть ему спину на пути вниз с этой горы, отворил дверь и вышел на ветер, дувший вдоль улицы, и на солнечный свет, помахав им на прощанье рукой, и пошел прочь.
А они, возвращаясь к машине, все продолжали в изумлении обсуждать происшедшее, и Бернстайн еще раз рассказал Винни, каким образом его отец всегда заворачивал пакеты и свертки.
– Может, он не знает, что он еврей, но как это он не знает, кто такие евреи и какие они? – задумчиво произнес он.
– Ну а помнишь мою тетушку из Лючеры? – спросил Винни. – Она – школьная учительница, а спрашивала меня, веришь ли ты в Христа. Она вообще ничего про это не знает. Думаю, все они в этих маленьких городках, если даже когда-нибудь и слыхали про евреев, то считают, что это какая-то христианская секта или что-то подобное. Я знавал одного старика итальянца, который считал, что все негры – евреи, а белые евреи – перевертыши, просто сменившие религию.
– Но его фамилия…
– Бенедетто – это и итальянская фамилия тоже. Хотя имя «Мауро» мне никогда не встречалось. «Мауро» – это что-то связанное с тем древним хмырем.
– Но если у него такая фамилия, неужели он никогда не задумывался откуда?..
– Вряд ли. В Нью-Йорке итальянское имя Сальваторе давно превратилось в Сэма; итальянцы вообще большие умельцы изобретать всякие клички, для них имя человека никогда не имеет большого значения. «Виченцо» превращается в «Энцо», или в «Винни», или даже в «Чико». Никто и не станет задумываться, что означает «Мауро» или какое угодно другое имя. Он, видимо, и впрямь еврей, но, я уверен, даже не подозревает об этом. Это ж сразу видно, не так ли? Мы его совсем сбили с толку.
– Господи помилуй, он же потащил домой свежий хлеб – для шаббата! – рассмеялся Бернстайн, широко раскрыв глаза.
Они добрались до машины, и Бернстайн уже положил ладонь на ручку двери, но остановился и не открыл ее, а обернулся к Винни. У него был очень возбужденный вид, даже глаза, казалось, припухли.
– Еще достаточно рано. Если хочешь, можем вернуться в церковь, и ты еще раз попытаешься отыскать этих своих парней.
Винни начал улыбаться, и они одновременно рассмеялись, Винни хлопнул его по спине и обхватил за плечо, словно намереваясь обнять.
– Черт побери, кажется, эта поездка начинает приносить тебе удовольствие!
Они быстрым шагом направились к церкви, и разговор все время возвращался к тому же, и Бернстайн все повторял: «Не понимаю почему, но это не дает мне покоя. Он ведет себя не только как еврей, но даже как ортодоксальный еврей, истинный иудей. И даже не понимает этого – это мне кажется чертовски странным».
– Ты сейчас выглядишь совсем иначе, чем прежде, знаешь? – заметил Винни.
– С чего ты взял?
– Да так оно и есть.
– А знаешь, какая странная вещь со мной случилась? – тихо сказал Бернстайн, когда они вошли в церковь и спустились в сводчатое подземелье под нею. – Я чувствую себя здесь… почти как дома. Не могу выразить это словами.
Внизу, в крипте, они пошли, выбирая дорогу через более мелкие лужицы, заливавшие каменный пол, и заглядывая в боковые помещения в поисках священника. Тот наконец появился – они так и не поняли откуда, – и Аппелло купил у него еще одну свечу и углубился в темные коридоры со склепами.
Бернстайн остался на месте – вокруг все было влажным, со всего капала вода. Позади него, широкая и пологая, проходила лестница из камня, источенного миллионами ног. Изо рта вырывался пар. Смотреть тут было не на что – одни сплошные тени. Здесь было сыро и темно и глубоко – сущие ворота в ад. В отдалении то и дело слышались отзвуки шагов – один, другой, и тишина. Он не двигался с места, пытаясь определить истоки экстатического возбуждения, о способности к которому у себя он даже не подозревал; он видел перед собой этого дружелюбно настроенного человека, видел, как он устало, с трудом спускается сейчас с горы, потом бредет через равнину, следуя пути, проложенному для него многими поколениями, безымянный пешеход, каждую пятницу несущий домой теплый хлеб на ужин, а по воскресеньям преклоняющий колена в церкви. Во всем этом заключалась какая-то ирония, которую он не мог определить. И тем не менее его переполняла гордость. Чем он должен гордиться, он толком не знал; может быть, тем, что некий еврей сумел тайно выжить, несмотря на сокрушительные удары безмозглой истории, полностью лишившись самосознания, но навсегда впитав привычку открыто и дерзко соблюдать по субботам иудейский шаббат – и это в католической стране; это его незнание само по себе являлось доказательством, немым как камни доказательством того, что прошлое по-прежнему живо. «Это и мое прошлое», – думал Бернстайн, пораженный тем, насколько это оказалось важным для него, человека, у которого, по сути дела, никогда не было никакой религии и даже – сейчас он это уже хорошо понял – никакой собственной истории.
Он видел силуэт Винни, приближающийся по узкому коридору крипты; пламя свечи у него в руке трепетало и металось под ледяным сквозняком. У него было такое чувство, что теперь он совсем иначе может смотреть в глаза Винни; все его былое снисходительное отношение к этой поездке куда-то пропало, а вместе с ним исчезло и некоторое смятение и замешательство. Он чувствовал себя теперь совершенно свободным, даже вроде как равным приятелю – и каким странным ему сейчас казалось то, что прежде он ощущал над ним такое превосходство. И совершенно внезапно – Винни был уже всего в футе от него – он понял, что вся его прежняя жизнь была постыдной и пустой тратой времени, хоть он этого и не сознавал.
– Я нашел их! Они там, дальше! – Винни смеялся как мальчишка, указывая назад, в темноту коридора.
– Это здорово, Винни, – сказал Бернстайн. – Я рад за тебя.
Они стояли, оба слегка сутулясь под низким мокрым потолком, и их голоса летели изо рта и шепчущим эхом отражались от стен. Винни секунду постоял не шевелясь, словно стараясь перехватить и прочувствовать уважительное и счастливое настроение Бернстайна, и увидел в нем подтверждение, что его поиски не были напрасным проявлением сентиментальности. Он поднял свечу повыше, чтобы лучше видеть лицо Бернстайна, рассмеялся, ухватил друга за запястье и повел к лестничному пролету, что вел на поверхность. Бернстайну никогда не нравилось, когда кто-то хватал его за руку, но это прикосновение чужой руки в темноте не несло в себе ни намека на столь ненавидимую им слабость.
Они шли рядом по крутой улице прочь от церкви. Городок снова был пуст. В воздухе пахло сгоревшим древесным углем и оливковым маслом. На небе появилось несколько бледных звезд. Все магазины были закрыты. Бернстайн думал о Мауро ди Бенедетто, который сейчас спускается по извилистой каменистой дороге, спеша добраться домой до захода солнца.
Пожалуйста, пусть они живут
Пляж стал золотистым, солнце уже садилось. Купальщики, когда ветер усилился, разошлись по домам. Сразу за волнорезом ныряли в море чайки. На горизонте виднелись четыре неуклюжие рыбачьи судна, плывшие друг за другом. Она посмотрела направо и увидела два припаркованных грузовика и рыбаков, вытаскивающих сеть.
– Пошли посмотрим, поймали они что-то или нет, – сказала она, чувствуя резкий всплеск интереса и изумления, какой всегда возникал у нее при виде чего-то нового.
Грузовики были побитые и ржавые, с откинутыми бортами, и в кузове того, к которому они вышли, лежало штук двадцать пять крупных морских окуней, выпачканных в песке, и небольшая куча пеламид, сваленная возле заднего борта. В кузове грузовика сидел мужчина лет шестидесяти и держал в руках конец веревки, намотанной на барабан лебедки, закрепленной сбоку. Он дружески кивнул им и выбрал веревку, чтобы она оставалась натянутой и плотно наматывалась на вращающийся барабан. Стоявший у самой воды другой мужчина продолжал следить за сетью, укладывая ее аккуратной кучей по мере того, как она выползала из воды.
Сэм осмотрел всю рыбу, как только они подошли к грузовику, и понял, что это ее страшно удивит. Потом и она Увидела рыбу, и у нее округлились глаза, но она даже попыталась улыбнуться пожилому мужчине, что тянул веревку, словно поздравляя его с добычей, и сказала:
– Это вы их всех поймали?
– Угу, – сказал тот, и его взгляд потеплел при виде ее красоты.
– Они уже все мертвые, да? – спросила она.
– О да, – сказал пожилой.
У нее в глазах сверкало возбуждение, когда она, как ему показалось, внимательно осматривала каждую рыбину, словно желая убедиться, что та уже не шевелится. Сэм заговорил с пожилым рыбаком о возможности хорошего улова в сети, которую сейчас вытаскивали на берег, и она тоже вступила в разговор, и он с облегчением заметил, что ее глаза цвета морской волны приобрели нормальное, спокойное выражение.
Но вот пожилой рыбак повернул рычаг лебедки, и барабан завертелся с усиливающимся визгом, и ему пришлось с силой приналечь на веревку, чтобы держать ее в натянутом состоянии. Лебедка на втором грузовике тоже завертелась быстрее, и двое рыбаков на берегу поспешно переместились от грузовиков к урезу воды, быстро сматывая и складывая выходящую из моря сеть. Теперь в воде стала видна провисшая гирлянда пробковых поплавков, всего в нескольких футах от берега.
– Почему вы ее так быстро вытаскиваете? – спросил Сэм у пожилого. – Они что, сопротивляются?
– Не-а, – ответил тот. – Просто надо держать ее в натяге, чтоб они не выпрыгнули через край и не удрали.
Теперь в сеть били волны прибоя, но рыбы в ней видно не было. Она прижала обе ладони к щекам и сказала:
– Ох, теперь они уже знают, что их поймали! – И засмеялась. – И каждая гадает, что это с ней произошло!
Он был рад, что ей весело, даже при том, что ее глаза неотступно и со страхом следили за погруженной в воду сетью. Она подняла взгляд на мужа.
– Ох, милый, их сейчас вытащат!
Он начал было что-то объяснять, но она быстро перебила его и продолжила:
– Да знаю я, это совершенно нормально, раз уж они идут в пищу. Их ведь съедят, да?
– Они продают их в рыбные магазины, – сказал он тихо, чтоб пожилой рыбак у лебедки не услышал. – И они пойдут в пищу.
– Да, – сказала она, как ребенок довольная этим подтверждением. – Я понаблюдаю за этим еще. Я уже наблюдаю за этим! – провозгласила она. Но какая-то часть ее сознания словно затаила дыхание.
Волна отступила, и мотню сети одним рывком вытянули из пены прибоя. Из обоих грузовиков раздались недовольные голоса: улов оказался не слишком большой. Она увидела хвосты небольших пеламид, торчащие сквозь ячейки сети и трепыхающиеся («Да они прямо на головах стоят!»), и огромного бьющегося окуня, и морских петухов, пытающихся распрямить изогнутые темно-коричневые плавники, и одну камбалу, неподвижно лежащую в центре запутанной, беспорядочной кучи морского мусора. Она все время тыкала пальцем то туда, то сюда, указывая на рыбу, которая внезапно дернулась или перевернулась, и выкрикивала:
– Вон она! А вон еще одна! – Она хотела сказать, что они еще не мертвые и, как он понял, что их следует спасти.
Рыбак развернул сеть и вытащил окуня и нескольких пеламид, выбросив морских петухов на песок, а также камбалу и двух рыб-собак, которые тотчас же начали раздуваться. Она обернулась к пожилому мужчине на грузовике и, стараясь улыбнуться, но довольно резким тоном обратилась к нему и почти выкрикнула:
– А этих вы разве не возьмете?
Пожилой рыбак явно был под впечатлением ее сияющего лица и потрясающего силуэта ее тела под полосатой кофтой из джерси и бежевыми слаксами.
– От них никакого проку, мэм, – сказал он.
– Ну тогда почему же вы не бросите их обратно в воду?
Пожилой, казалось, заколебался, словно ему в голову вдруг пришло воспоминание о какой-то прошлой вине.
– Конечно. Мы их бросим обратно, – сказал он и сел, глядя на своего напарника, который выбирал из сети хорошую рыбу и выбрасывал мелких летучих рыбешек направо и налево, прямо на песок.
На берегу уже валялось около полусотни морских петухов, некоторые еще разевали пасти, но некоторые уже были совершенно неподвижны. Сэм чувствовал, как растет ее нервное напряжение, он подошел к ближайшей рыбке и, ощущая дрожь отвращения, поднял ее и швырнул в волны, после чего вернулся к ней. Пульс рыбьей жизни все еще бился у него в кончиках пальцев.
– Если бы у меня было что-то, чем их можно было ухватить… – начала она и замолкла.
– У тебя не хватит сил, чтобы всех их побросать в море, – сказал он.
– Но они же живые! – Она отчаянно пыталась улыбаться и не отделять себя от него.
– Нет, они мертвые. Большая часть – мертвые, милая.
– Они мертвые? – спросила она, обернувшись к пожилому рыбаку.
– Нет, еще не мертвые. Большинство.
– Они оживут, если снова окажутся в воде?
– Конечно, оживут, – сказал он, стараясь успокоить ее, но не двигаясь с места.
Она сняла одну сандалию и пошла к рыбке, что трепыхалась, пытаясь упрыгать в воду, но не смогла ее ухватить, та выскользнула. Сэм подошел, поднял рыбку и швырнул ее в море. Он уже смеялся, а она все повторяла:
– Как жалко! Они ведь живые!..
– Да будет тебе, – сказал он, – они почти все уже мертвые. Сама погляди.
И он поднял одну, что лежала неподвижно; она безвольно повисла у него в ладони. Он бросил ее в воду, и она изогнулась дугой, когда коснулась воды, и она вскричала:
– Видишь? Она поплыла!
Пристыженный, недовольно улыбаясь, поскольку заметил, что рыбаки смотрят на него с улыбками на лицах, он побрел по берегу, выбрасывая на ходу в воду всех морских петухов. Он чувствовал, что, несмотря на эти улыбки, рыбаков зацепила ее настойчивость, и, бросая в море одну скользкую рыбку за другой, он видел каждую из них по отдельности, каждую, стремящуюся заполучить свой глоток моря, и ему больше не было стыдно. А потом осталось всего две рыбки, обе – морские петухи с белыми брюшками и застывшими темно-коричневыми плавниками и недоразвитыми зачатками ног, торчащими у них из шеи с обеих сторон. Они лежали на спине, неподвижно. Он не стал наклоняться и подбирать их, поскольку она, кажется, была готова пожертвовать ими, и пошел назад к ней, чувствуя отчего-то, что, если оставит этих двух умирать на берегу, она как-нибудь переживет такую утрату. Ему уже однажды пришлось открывать дома окно, чтобы выпустить мотылька, которого при иных обстоятельствах он бы просто прихлопнул, и если частью сознания он восхищался этой ее яростной нежностью по отношению ко всему живому, другой его частью он понимал, что она должна наконец осознать, что не умирает с каждым раздавленным мотыльком или пауком или неоперившимся птенцом или, как сейчас, с каждой рыбкой. Но дело было еще и в том, что он хотел, чтоб рыбаки увидели, что она не такая уж фанатичка, чтобы требовать, чтобы эти два последних, явно мертвых морских петуха тоже получили свой шанс выжить.
Он снова остановился возле нее. Улыбнулся и сказал:
– Эта работа как будто специально для тебя. Тут двадцать пять миль пляжа, и мы можем бродить тут и бросать рыбу обратно в море.
Она рассмеялась, притянула к себе его голову и поцеловала его, а он обнял ее, и она сказала:
– Только этих двоих. Ступай, Сэм. Может, они еще живые.
Он снова засмеялся и поднял одну из рыбок, понимая, что это будет еще более несправедливо, если эти две умрут, когда пятьдесят остались жить, и швырнул ее в волны. И тут на пляже появилась собака. Это был крупный коричневый ретривер со спутанной шерстью, он бросился в волны, погрузился с головой в воду и вынырнул с морским петухом, осторожно зажатым в пасти, выскочил на берег, очень гордый собой, и положил рыбу у ног Сэма.
– Погляди, как он осторожно ее принес! – воскликнул Сэм.
– О Господи! – Она засмеялась и нагнулась к собаке, к ее морде со светло-карими глазами, хранящей суровое выражение. Собака ответила ей весьма решительным взглядом настоящего спортсмена. – Ты не должен так делать! – Она беспомощно оглянулась на Сэма, и тот поднял рыбу и бросил ее обратно в море. Собака снова прыгнула в волны и достала ее, после чего с потрясающей стремительностью и гордостью, чуть ли не пританцовывая, вернулась к Сэму и положила рыбу у его ног и встала, дожидаясь следующего броска. Ее напряженные лапы дрожали от нетерпения.
– Ну так что? – спросил он у нее. – Вот ведь какая штука: тут образовался настоящий заговор против этих двух рыбешек. Этот парень натаскан на то, чтоб помогать человеку; человеку нужно есть, поэтому кому-то приходится умирать, милая…
Когда он это говорил, из пасти морского петуха, лежащего возле его ног, выскользнул серебристый пескарь.
– Ух ты, погляди-ка на это! – воскликнул он. – Видишь? А как насчет этой маленькой рыбки?
– Да! – сказала она, словно одобряя его намерение.
– Видишь? У одной жертвы имеется другая, своя жертва.
– Ладно, давай брось его скорей обратно.
– Но этот тип снова принесет его на берег. Эта рыбка обречена, – ответил он, и оба они рассмеялись. Но у нее в голове продолжали тикать часы, сообщая ей, что на счету каждая секунда, и она наклонилась к лежащей у ног рыбке, невзирая на отвращение, которое испытывала от прикосновения к ней. Он оттолкнул ее руку и поднял рыбку и бросил ее в воду, а когда собака повернулась и побежала за ней в волны, пробежал несколько шагов по берегу ко второй рыбке и швырнул в море ее.
– Ну вот, – сказал он, чуть запыхавшись, когда собака вернулась с первой рыбкой, – с одной справились. Нет, эта рыбка точно обречена, исходя из принципа, что человек должен есть, а эта собака – часть кормящей его системы. – Но теперь и сам он не мог оторвать взгляда от этой рыбешки, которая сейчас быстро дышала, судорожно разевая пасть, как оттого, что ее то и дело швыряли в воду, а потом ее доставала обратно собака, так и оттого, что ей все время приходилось летать, преодолевая порывы сильного ветра. – А рыбка-то просто хочет, чтоб ей дали спокойно умереть. – И он рассмеялся.
Она огляделась вокруг с почти безумным видом, она все еще улыбалась и смеялась с ним вместе, а потом заметила палку и побежала, побежала длинными танцующими прыжками, и собака посмотрела на нее, на палку, которой она стала размахивать, подзывая пса к себе. Она швырнула палку в море, и собака устремилась за ней в воду; Сэм быстренько поднял последнюю рыбку и бросил ее, и она вся изогнулась, вновь обретая жизнь, и скользнула в воду.
Берег теперь был совершенно чист, рыбаки возились, укладывая и убирая сети, и они вместе пошли обратно к дороге.
– Извини, Сэм, но они ведь были живые, и раз уж никто не собирается их есть…
– Ну, прилив унес бы их и мертвыми, милая, и их съели бы другие рыбы. Впустую они бы не пропали.
– Да, – сказала она.
Они шли, держась за руки, и она молчала. Он чувствовал, как внутри его раскрывается, расцветает ощущение огромного счастья – она заставила его заняться этими рыбами, которые сейчас плавают себе в море, потому что он поднял их с песка и бросил обратно в воду. А она подняла на него глаза и посмотрела, как маленькая девочка, с выражением открытого и искреннего изумления на лице, хотя улыбалась при этом улыбкой взрослой женщины, и сказала:
– Но некоторые из них могут выжить и жить потом до старости.
– Но потом они все равно умрут, – сказал он.
– Но по крайней мере проживут столько, сколько смогут. – И она засмеялась, хотя женская честь ее души прекрасно осознавала абсурдность этого утверждения.
– Это верно, – сказал он, – они доживут до преклонного возраста и добьются богатства и уважения…
Она взорвалась смехом:
– И дождутся, когда их дети станут взрослыми!
Он поцеловал ее в губы, благословляя ее самое и ее желания.
– Ох, как же я тебя люблю! – сказала она со слезами на глазах. И они пошли домой.
Неприкаянные
Ветер с гор дул всю ночь. Озверевшие потоки воздуха мчались, закручиваясь, по темному небу, насквозь продувая голубую пустыню, и со свистом уносились обратно в горы. Трое ковбоев спали, закутавшись в одеяла, повернувшись спиной к ближним изгибам поднимающихся амфитеатром гор, а лицом – к пустыне, заросшей полынью. Бесконечные приливы ветра, как бы омывая их завываниями, пробивались в их сон, и когда они прекратились, вокруг воцарилась мертвенно-бледная лунная тишина, от которой Гай Лэнглэнд проснулся и открыл глаза. Впервые за последние три ночи он слышал собственное дыхание, и в этой только что установившейся тишине поглядел на звезды и отметил, какие они нынче яркие и как их хорошо видно. Он ощутил прилив радости, выбрался из-под одеял и встал, полностью одетый.
На тихом плато, растянувшемся между двумя горными гребнями, Гай Лэнглэнд был сейчас единственной движущейся тенью. Он повернул голову вбок, и все его тело совершило полный оборот. Он смотрел в глубокое темно-синее небо, высматривая признаки приближающейся грозы. И понял: день предстоит им хороший, спокойный. Он отошел на несколько шагов от других двоих спящих и помочился на песок. Возбуждение, вызванное установившимися тишиной и спокойствием, пробуждало тело к новой жизни. Он вернулся и поджег связку сухой полыни, что собрал вчера вечером, набросал поверх быстро вспыхнувших язычков пламени несколько сучьев потолще, поставил почерневший кофейник на камни, окружавшие кострище, и присел на корточки, глядя на образующиеся оранжевые угли.
Гаю Лэнглэнду было сорок семь, но сейчас он был таким гибким и проворным, как никогда раньше. Блеск его глаз всегда усиливался, когда ему предстояло что-то делать – выпрямить гвоздь, укротить лошадь, – но сразу тускнел, когда делать было нечего, и тогда его лицо приобретало сонное выражение. Когда в том месте, где он в данный момент остановился, ему подвертывалась работа, он оставался там и, когда делать уже было нечего, уезжал. У него была жена и двое детей, сейчас они находились менее чем в сотне миль отсюда, и он не видел их уже более трех лет. Она изменила ему, и он был ей не нужен, но детям, конечно, лучше оставаться с матерью. Он начинал скучать по ним, а все, что он ощущал в такие моменты, было чувство тоски, но когда оно проходило, у него не оставалось никаких вопросов о том, что ему следовало бы сделать, чтобы собрать их всех снова вместе. Он родился и вырос на ранчо, на свободе, и никогда не понимал, как можно переделать то, что уже сделано, точно так же, как нельзя остановить в воздухе падающие капли дождя. Улыбка и выражение лица у него были соответствующие. Лоб был разделен на равные доли глубокими морщинами, так что брови были вечно приподняты несколько ожидающе, чуть удивленно, немного забавно, а губы всегда дружески улыбались. Уши торчали в стороны, как это часто бывает у маленьких мальчиков или молодых телят, и еще у него был по-мальчишески вздернутый курносый нос. Но кожу ему выдубил коричневой ветер, его маленькие глазки все видели и все подмечали и, кроме того, были приучены не выказывать страха.
Гай Лэнглэнд поднял глаза от костра к небу и заметил первый тоненький проблеск розового. Он встал, подошел к спящим и потряс Гвидо Раканелли за плечо. С места, где лежала голова Гвидо, донеслось ворчливое приветствие, но он не шевелился, и глаза его были закрыты. «Этот сучий ветер стих», – сказал Гай. Гвидо услышал, но не шелохнулся, продолжая сохранять позу спящего. Костям было явно тепло у костра, под толстым слоем жира. Гай хотел было еще раз его потрясти и наконец разбудить, но за последние несколько дней он начал подозревать, не решил ли Гвидо втайне вообще перестать летать. В движке самолета здорово стучали клапана, один амортизатор шасси сильно просел. Гай знал пилота много лет, он понимал и уважал перемены его настроения. Полеты туда и обратно над этими горными хребтами в нескольких футах от скалистых обрывов – это не такая работа, заниматься которой можно заставить силой. Но сейчас, когда ветер стих, Гай очень надеялся, что Гвидо нынче утром взлетит и они все же займутся своим делом.
Он поднялся на ноги и снова посмотрел на небо. И замер на месте, думая о Рослин. У него было большое желание иметь при себе хоть какие-нибудь заработанные деньги, когда он придет к ней сегодня вечером. Это желание возвращалось к нему снова и снова вместе с ощущением, что он каким-то образом уже миновал стадию шуточек и снова должен начать работать и зарабатывать на жизнь, как он всегда делал до того, как встретил ее. Не то чтоб он не работал для нее, но это было не то. Водить ее машину, ремонтировать ее дом, выполнять всякие ее мелкие поручения – все это было не то, что можно назвать настоящей работой. И все же, подумалось ему, это тоже работа. Но в то же время не настоящая.
Он перешагнул через второго спящего и потряс его. Перс Хаулэнд открыл глаза.
– Этот сучий ветер стих, Перс, – сказал Гай.
Глаза Перса уставились в небеса, и он кивнул. Затем он вылез из-под одеял, прошел мимо Гая и стал мочиться на песок, глубоко дыша, как во сне. Гай всегда считал его забавным, за ним было здорово наблюдать, когда он просыпался. Перс вечно на все натыкался и иной раз даже мочился на собственные сапоги. Просыпаясь, он сильно напоминал ребенка, вот и сейчас глаза у него были все еще сонные, а взгляд затуманенный.
– Это лучше, чем заниматься поденщиной, а, Перс? – бросил ему Гай.
– Точно, черт возьми, – пробормотал Перс и вернулся к костру, почесывая тело через одежду.
Гай присел возле огня и принялся сгребать пылающие угли в кучу, потом установил над нею на камни сковороду. Он мог браться за раскаленные предметы, не ощущая боли. Вот и сейчас он подвинул пальцем пылающий янтарным светом уголек.
– У меня от этих твоих штучек нервный припадок будет, – сказал Перс, глядя на него через плечо.
– Ничего особенного, просто огонь, – сказал Гай, ужасно довольный.
С минуту молчали, радуясь начавшему светлеть небу.
– Гвидо полетит нынче? – спросил Перс.
– Пока ничего не говорил. Видать, обдумывает.
– Скоро станет совсем светло, – предупреждающе проговорил Перс.
Он посмотрел в сторону ближайшего хребта и увидел порозовевшие скалы, окутанные тайной, вздымающиеся к слабо отсвечивающим звездам. Персу Хаулэнду было двадцать два. Высокого роста, с тощими бедрами, он стоял сейчас, не прилагая к тому никаких усилий, как стоят горы, на которые он смотрел, словно был создан прямо здесь, уже в джинсах, в тесной клетчатой рубахе с манжетами, застегивающимися на три пуговицы, в бежевой широкополой шляпе, сдвинутой на светлый затылок, с большими кистями рук, заткнутыми за пояс так, чтобы пальцы касались чеканной пряжки ремня с его фамилией, выбитой под фигурой вставшей на дыбы лошади. Это был его первый в жизни приз, выигранный на состязаниях по укрощению необъезженных лошадей, и ему нравилось касаться его, когда он стоял в ожидании, а он любил ждать.
Перс знал Гая Лэнглэнда всего пять недель, Гвидо – три дня. С Гаем он познакомился в одном баре в Боуи, и Гай спросил его, откуда он родом и чем занимается, и он рассказал ему свою историю, обычную для любого любителя родео. Сюда он приехал из Невады, как делал уже много раз с тех пор, как ему стукнуло шестнадцать, чтоб поучаствовать в местных родео и заработать деньжат, укрощая норовистых необъезженных лошадей, но нынешняя его поездка отличалась от предыдущих, потому что сейчас у него не было никакого желания возвращаться обратно домой.
У них сразу сложились добрые, приятельские отношения, и в тот вечер Гай взял его с собой в дом Рослин, чтоб он там переночевал, а когда Перс утром проснулся, то ужасно удивился, обнаружив, что образованная женщина с Восточного побережья может оказаться столь обычной в обращении, с таким чувством юмора и так интересоваться его мнением по самым разным вопросам. Так он и болтался некоторое время с Гаем и Рослин, и ему с ними было вполне комфортно; по большей части с Гаем, потому что Гай никогда не заикался о том, что ему следует начинать как-то налаживать свою жизнь. Это от Гая он заразился таким настроением – считать, что это совершенно нормально – просто плыть по течению, день за днем, неделю за неделей. Перс Хаулэнд никогда никому особо не доверял, но доверять Гаю не было никакой необходимости, потому что Гай ничего от него не требовал и не пытался им командовать. Ему был просто нужен напарник, чтоб отправиться на охоту за мустангами, а Перс никогда не занимался ничем подобным и очень хотел увидеть, как это делается. И вот он оказался здесь, в шестидесяти милях от ближайшего города, поднявшись в воздух на высоту семи тысяч футов, и в течение двух дней ждал, когда стихнет ветер, чтобы летчик мог поднять самолет и лететь в горы, где пасутся дикие лошади.
Перс посмотрел в сторону пустыни, которая уже начала демонстрировать молчаливый горизонт.
– Готов спорить, что Луна выглядит точно так же, если кто-то сумеет туда добраться, – заметил он.
Гай Лэнглэнд не ответил. Он уже чувствовал: дикие лошади где-то недалеко, щиплют траву, бродят в окрестных горах – и хотел поскорее попасть туда. Ткнув пальцем в сторону Гвидо Раканелли, он сказал:
– Тряхни-ка его, Перс. Солнце вот-вот взойдет.
Перс направился к Гвидо, но тот зашевелился еще до того, как Перс к нему подошел.
– Становится светло, Гвидо, – сказал Перс.
Гвидо Раканелли повернулся на могучей заднице и сел, вывесив живот поверх пояса, и стал изучать светлеющее вдали небо, словно оно несло ему какое-то личное сообщение. Его лицо осветилось розовым. Кожа вокруг его глаз была светлой, там, где ее закрывали летные очки, а все остальное, сожженное ветром, было коричневым. Его немногословность, постоянное безмолвие было более глубоким, чем безмолвие остальных, потому что щеки у него были такие пухлые, что напоминали половинки арбуза, как у бабуина, и выдавались возле рта далеко вперед. Тем не менее щеки были твердые, такие же твердые, как его необъятный живот. Сейчас он выглядел хищной птицей из диких джунглей, особенно когда поворачивал голову, рассматривая небо вдали, очень серьезная птица с коричневым лицом и белыми глазами. Голова у него была совершенно лысая. Он снял армейскую кепочку цвета хаки и поскреб пальцами макушку.
Гай Лэнглэнд поднялся и подошел к нему, протягивая тарелку с яичницей и толстыми ломтями бекона.
– Ветер стих, Гвидо, – сказал он, останавливаясь и глядя на пилота сверху вниз.








