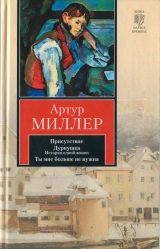
Текст книги "Присутствие. Дурнушка. Ты мне больше не нужна"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
– Мартин!
Ее голос звучал жалобой, но также и обвинением, он настиг его и внедрился в его самые молчаливые мысли, напрочь разбив его уверенность в собственной правоте. Он попытался вырваться, но она держала его за пиджак, и тот натянулся и съехал назад, так что пуговица застежки оказалась у него под подбородком.
– Мартин! – закричала она прямо ему в лицо.
Волна негодования поднялась у него внутри – чего это она так невежливо обращается с его костюмом, который он так аккуратно носит, и он ударил ее по руке, изо всех сил.
– Пусти! – крикнул он.
Его удар как бы развязал ей руки. Она шлепнула по его нахальной кисти, ухватила его за запястье и продолжала шлепать по ней, пока ему не стало больно. Он попытался убежать, оступился и шлепнулся на пол, ударившись задницей.
– Вот папа задаст тебе ремня! – закричала она. В глазах у нее стояли слезы.
Папа! Она расскажет все папе! Он пришел в такое бешенство, что ее лицо, казалось, отодвинулось куда-то на целую милю, и он увидел впереди себя широкую и ровную дорогу света. И с дрожащей челюстью, выкатив от ненависти глаза, он выкрикнул:
– Ты мне больше не нужна!
Ему показалось, глаза у нее страшно расширились, они расширялись все больше и больше, как всегда во время ссор. Он удивился: даже сейчас, как ему представлялось, он не сказал ей ничего дурного, одну только правду: он ей больше не нужен, стало быть, и она ему больше не нужна. Но вот она стоит перед ним, пораженная: рот раскрыт, рука прижата к щеке, смотрит на него сверху вниз с ужасом – он и не подозревал, что взгляд человека вообще способен выражать такой ужас. Он ничего не понимал: ужасной ведь может быть только ложь. Она отступила назад и продолжала смотреть на него как на нечто странное; потом отворила Дверь и ушла в дом.
Позади он слышал грохот моря, и этот звук знакомо бил ему в спину. Он встал, чувствуя себя странным образом опустошенным. Прислушался, но от нее не доносилось никаких звуков, она не плакала, этих звуков он не слышал. Он спустился с веранды и прошел несколько шагов по тротуару до места, где начинался песчаный пляж, поколебался немного, опасаясь испачкать ботинки, но все же пошел дальше на берег. Он знал – он очень плохой мальчик, но не понимал почему. Он подошел к самой воде, что ему строго запрещалось. Она, кажется, это видела.
Здесь можно было чувствовать себя наедине с самим собой. Сильный ветер наверняка отнесет ее голос в сторону, если она его позовет, к тому же, вспомнилось ему, она теперь уже не может быстро бегать. Точно так же, как она теперь перестала танцевать с ним вокруг стола и не разрешает больше запрыгивать по утрам к ней в постель, а если он подкрадывался к ней сзади и обхватывал руками, она тут же быстро выскальзывала из его объятий. И никто, кроме него, не замечал этих перемен, и в этом знании, как ему казалось, таилась некая опасность. Папа не знал, Бен тоже. Он шел по самому краю мокрого песка, и все его тело было как бы погружено в рев накатывающихся волн. Он прижал ладонью ухо к голове и мысленно загадал желание. Вот если б он был похож на отца и брата! Тогда бы он и не знал того, чего ему знать не полагается. И уши его тут совершенно ни при чем. Поскольку он выглядел иначе, чем они, он и видел другое, чего они не видели, и он обладал знанием вещей, которые хороший мальчик знать не может. Как, например, их не может знать тот дантист.
Дыхание теперь с трудом проходило сквозь горло, словно там было полно мелких камешков, а он все старался выбросить из головы воспоминания о том ужасном дне. Высокая волна внезапно лизнула его ботинок, и он отпрыгнул назад. Наклонился, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы вытереть ботинок ладонью. И вдруг осознал, что уже коснулся этой злой воды. Он понюхал ладонь. Нет, ничем гнилым не пахнет. Или, может быть, это Бог сегодня сидит в воде, и ему нельзя входить к Нему, поэтому вода и не пахнет гнилью, даже если ему запрещено к ней прикасаться. Он отошел на несколько ярдов и сел на песок, и образ дантиста смешался с дрожью страха оттого, что он прикоснулся к воде, и он позволил себе испытать прилив какого-то пугающего удовольствия.
Он ясно видел сейчас тротуар перед их многоквартирным домом в городе – вот мама идет домой, а он идет рядом с нею и слышит, как у нее в руке шуршит пакет из упаковочной бумаги, в который сложена бакалея. И еще он вспомнил ощущение, которое всегда испытывал, идя рядом с нею: что не нужно думать, куда надо поворачивать, где остановиться, когда ускорить шаг, а когда замедлить. Они были как бы соединены невидимой связью, и ему только и оставалось, что быть там, где он находился. А потом вдруг они остановились. Подняв глаза, он увидел лицо незнакомого мужчины, совсем близко от ее лица. И тут со щеки этого мужчины упала слеза, пролетев мимо носа Мартина. А она разговаривала с ним и как-то очень странно смеялась – ею словно бы овладело крайнее возбуждение, возможно, вполне искреннее. А он называл ее по имени, этот незнакомец. И потом, когда они в холле дожидались лифта, она опять рассмеялась и сказала, все с тем же задыхающимся смехом:
– Знаешь, а он был в меня здорово влюблен! И я уже была готова выйти за него замуж, представляешь? Он тогда был всего лишь студентом. Ох, сколько книг он мне тогда приносил, все время!
Сквозь грохот волн он по-прежнему слышал ее возбужденный голос, прямо над своей головой, точно так, как слышал его тогда, в холле. И он снова покраснел от смятения, но это унизительное ощущение возникло вовсе не от этого воспоминания или от той случайной встречи. Он не мог возразить себе ее и впрямь замужем за тем дантистом, поскольку она была женой папы, она была его мама. Вообще-то он едва помнил, что она говорила в тот день, помнил только ее смех и возбужденное дыхание, когда она рассталась с дантистом и они вошли в подъезд своего дома. Он никогда до этого не слышал, чтобы ее голос звучал таким образом, столь возбужденно, и это заставило его тут же принять твердое решение никогда и никому не рассказывать, что он обратил внимание и на этот странный тон, и на ту довольно странную женщину, которая подобным тоном разговаривала. А ужас, который скрывался за его смятением, проистекал от понимания того, что он знает нечто, чего не знает папа. С того дня он ощущал себя подобно маленькому пастушку, который пасет стадо огромных животных, и их следует оберегать от понимания того, какие они огромные и сильные; и если он устраивался на минутку поиграть, чтобы они этого не видели, или даже шутил с ними или стегал их, он ни на секунду не забывал, что его пастушеская дудочка никогда не сможет совладать с их неосознанной дикой силой, если они однажды понимает, что они вовсе не единое целое, но отдельные существа, что они не связаны мысленно друг с другом, но способны разговаривать и дышать самостоятельно, по отдельности и по-разному, когда не видят друг друга. Только он один знал это, только ему одному было поручено оберегать их от этого знания и от понимания того, что все они теперь совсем не такие, какими были до того, как дантист подошел к маме на улице.
Как и всегда, когда он вспоминал того незнакомца, он вспомнил и следующий за этим день, воскресенье, когда вся семья отправилась на прогулку, и когда они подошли к тому самому месту на тротуаре, он даже задержал дыхание, уверенный, что, когда папин ботинок коснется его, тут же раздастся страшный грохот и треск. Но папа прошел по этим бетонным плиткам и ничего не заметил, и мама тоже ничего не заметила, поэтому Мартин в этот момент ясно и четко понял свой долг: ему одному предстоит сохранять бдительность. Потому что даже при том, что мама действительно странно вела себя с незнакомцем, она не понимала реального значения этой случайной встречи, как понимал его он. Ему никогда не следует давать ей понять это, никоим образом не раскрывать ей истинный смысл того, что она сделала. Вместо того чтобы возбужденно смеяться и сообщать: «Знаешь, он был так в меня влюблен, что я чуть не вышла за него замуж», – она должна была завопить и завизжать и прийти в ужас. Но он никогда ей этого не скажет.
И сейчас его мысли мешались и метались, как случалось всегда, когда он доходил до последней части воспоминаний, когда представлял себе, что случится, если папа когда-нибудь узнает не только про то, что тогда произошло, но и то, что ему, Мартину, известна эта тайна. Папа строго поглядит на него с высоты своего роста и взорвется страшным ревом от обиды и ужаса: «Мама чуть не вышла замуж за дантиста? Да что ж ты за мальчик такой?! Да как ты мог вообразить себе подобную чушь?! Ай-яй-яй-яй!» И его поглотит этот рев. Боль от такого предположения заставила его вскочить на ноги.
Он шел по берегу, подбирая маленькие улиточьи раковины и дробя их в мелкую пыль; кидал камушки, ломал прутья, но эта угроза никак не оставляла его в покое. Понемногу, медленно-медленно до него стало доходить, что никогда прежде он не видел маму такой перепуганной, как только что, когда он от нее убежал. Он нередко доводил ее до бешенства, но ничего подобного еще никогда не случалось, не было в ее глазах такого выражения. И еще, когда она его ударила, то оскалила зубы. Такого никогда не случалось, зубы она никогда не оскаливала.
Оскаленные зубы и дико расширенные глаза… Он поглядел на море. Может, это связано с тем, что нынче праздник? Он уже верил, что от его плохого поведения исходит некий невидимый луч, некий сигнал, который уходит за пределы его семьи и вливается во тьму, где-то далеко; эту мысль он никогда не обдумывал, он это просто всегда знал. И возмездие придет к нему из этой тьмы, как оно должно последовать из непреложного и непременного приговора, от которого невозможно укрыться, спрятаться или уклониться. Возмущение, что он увидел в ее глазах, теперь представлялось ему испугом за него, испугом оттого, что он навлек на себя из тьмы. Она не просто разозлилась на него там, на веранде, она испугалась за него и вместе с ним. Он, должно быть, сказал ей нечто такое, что было не просто оскорблением, но и грехом. А он уже и не помнил, что ей сказал. Неспособность вспомнить пугала его и сама по себе; она открывала перед ним весьма возможные очень неприятные последствия.
Ох уж этот дантист! У него екнуло сердце; неужто он и впрямь по оплошности сообщил ей, что знает, что она вела себя с этим незнакомцем таким странным образом? Или, может быть, она считает, что он уже рассказал про все папе? Ему захотелось броситься домой и сказать ей: «Мама, я никогда не говорил папе про дантиста!» Но как только он представил себе это, он тут же замер на месте, поняв, что еще и не может сказать ей все, что он знает. А если расскажет Бену, Бен придет в ужас лишь от того, что у него хватило дурости хотя бы произнести подобное вслух. Он медленно брел вдоль берега, такой же одинокий и унылый, как навязанный ему долг, невольно делясь своей тайной с бородатым морем, в запретных глубинах которого скрывались глаза, которые все видели, видели его, видели то, что у него в голове. И, медленно продвигаясь вперед, он уже воображал себе, как это будет выглядеть, когда он утратит эту свою способность воображать; если папа когда-нибудь узнает о том, что ему известно, и взорвется криком, и тогда он постепенно исчезнет. Но это будет еще не конец. Он вообще-то останется там, где и был, все время будет их видеть и все слышать, вот только они-то его видеть не будут. И внезапно он почувствовал, что тогда сразу же разразится плачем, будет оплакивать их и то, что они его потеряли, и тогда он сразу исправил то, что уже себе вообразил. В сущности, они будут его видеть, когда будут на него смотреть, но как только повернутся к нему спиной, он тут же исчезнет. Это было просто отлично. Ночью, например, он сможет вылезти из постели и, невидимым, пройти к ним в спальню и уютно там устроиться и сидеть, а они и не узнают, что он рядом. А если он почувствует себя усталым, когда будет уже очень поздно, то просто ляжет в кровать между ними, и все будут отлично спать. За исключением того – предусмотрительно добавил он, – что ему нужно будет следить, чтобы не налить в постель, а не то они проснутся утром, обнаружат это и будут обвинять друг друга и ссориться.
Тут он заметил, что стоит неподвижно на одном месте, лицом к океану. И понял – а это была как будто очень давняя мысль, которая никогда его не покидала, – что может войти в воду и утонуть. На секунду ему показалось, что в этом нет ничего страшного и никакой надежды, а одна лишь радость оттого, что ему уже не нужно будет ничего желать, ни к чему стремиться. И он сразу вспомнил то время, в начале этого лета, когда они с братом купались, еще до завтрака, пока на пляже никого не было. И некоторое время играли в воде, а потом настала пора возвращаться домой, а он никак не мог выйти из воды. Откат тащил его в море очень сильно, когда он пытался выплыть наперекор ему. А потом он развернулся в воде – а его уже тошнило и рвало – и поплыл по течению. Как легко это оказалось, и как быстро он плыл! Еще немного, и он доплыл бы до Европы. А потом он лежал в постели весь перевязанный, и рядом сидел доктор, и все повторяли, что он непременно утонул бы, если бы Молочник случайно его не заметил.
Он никогда в открытую не отрицал этого в разговорах с Ними. Но сейчас, стоя здесь, на берегу, он знал, что вовсе не тонул. Он непременно добрался бы до Европы, потому что У Него была тайная сила, о которой никто не знал. И он вдруг вспомнил, что сказал ей: «Ты мне больше не нужна!» Его собственные слова вернулись к нему, резкие, все красные от ярости и злости. И почему это так ужасно? Да, она ему не нужна. Он уже умеет завязывать себе шнурки на ботинках, он умеет ходить, совсем не уставая… Ей он не нужен, так зачем ему притворяться, будто она нужна ему? И что тут ужасного, это было ему недоступно. Тем не менее это, видимо, было все-таки ужасно, только он не понимал – почему. Если б он только мог понять, что действительно ужасно, а что просто страшно. Как здорово это было бы, подумал он, – утонуть сейчас в океане! Как же она тогда будет причитать и плакать над его мертвым, изуродованным лицом, умоляя его сказать хоть что-нибудь. Бен тоже будет вне себя, в отчаянии, а папа… Папа, вероятно, будет стоять и ждать в отдалении, не желая мешать доктору и дожидаясь, пока ему скажут, что произошло. И вот тогда он чуть шевельнет губами, и все вскрикнут. «Он сейчас заговорит!» – закричит она. А он откроет глаза и скажет: «Я ходил по берегу океана. И увидал волну, а в волне увидал бороду. Она была длинной, с целый квартал. И вся седая. А потом я увидел лицо. У него были синие глаза, как у дедушки, только гораздо больше. И у него был очень-очень низкий голос, как у китов, которые кричат на дне океана. Это Бог».
– Это Бог! – ахает мать, складывая на груди руки, как она обычно это делает.
– Как это может быть Бог? – спрашивает Бен, демонстрируя свое отвращение к его лжи.
– Потому что Он поцеловал меня.
– Докажи! – говорит Бен смеясь.
И он открывает рот, и они заглядывают туда, точно так, как все они делали, когда у него болели зубы, накануне Нового года, и им пришлось вызывать к нему множество дантистов. И у него во рту они видят весь океан, а сразу под его поверхностью они видят синие глаза и плавающую бороду, а потом из его рта вырывается низкий, чудовищный рев, такой же, как рев океана. А он боковым зрением улавливает какое-то движение. Там стоит мужчина, одетый в черное.
Он не озаботился полностью повернуться на бок, но в самый же первый момент заметил, что у мужчины начищенные черные ботинки, на плечах белая атласная шаль для молитвы и черная шапочка-кипа на темени.
Но потом он заставил себя повернуться к этому мужчине лицом. От страха язык у него засосало куда-то назад, на целый дюйм назад, в гортань, но страх быстро отпустил его: мужчина действительно был там, потому что там же были и другие люди, стоявшие позади него небольшой группой. Они были далеко, так далеко, куда он мог бы докинуть мяч. Ветер развевал белые концы их молельных шалей. Они стояли лицом к морю и молились вслух, читая молитвы по черным молитвенникам, что держали в руках, и раскачивались взад и вперед несколько более сильно, подумалось ему, чем он когда-либо видел в синагоге, и он заметил среди них отца и брата. А они знают, что он стоит здесь? Никто даже не посмотрел в его сторону; они продолжали обращаться к воздуху над морем.
Он никогда не видел на берегу стольких людей в начищенных черных ботинках. Он никогда не видел молельных шалей на открытом месте, на солнце. На его взгляд, это было неправильно, это вызывало у него некоторое тревожное ощущение, пульсом бившееся в висках. Он опасался за них, за то, что они творят такое, словно с синагоги сорвали крышу и там сейчас появится Бог, а не просто скрижали из Ковчега Завета. Они стояли лицом к Нему, и Он, по-видимому, был очень близко, и это было страшно. Видя их взгляды, обращенные внутрь себя, он размышлял о том, что они, видимо, не понимают, что стоят на берегу, всего в ярде от бушующего океана. Может, ему следует незаметно пробраться к папе и сказать ему, и тогда папа поднимет глаза, оторвется от своего молитвенника, увидит, где оказался, и закричит: «Что мы наделали! Как это мы ушли из shul [55]55
Синагога (идиш).
[Закрыть]!» И тогда они все повернутся и побегут назад в синагогу, и их молельные шали будут развеваться, а потом они станут благодарить его за то, что он спас их от греха, от того, что они смотрели прямо в открытое лицо Бога.
Может быть, ему даже и не полагалось смотреть на это, как тогда, в прошлом году, когда дедушка в синагоге сказал ему: «А теперь тебе не надо смотреть» – и заставил его прикрыть глаза. Но он все же на секундочку успел глянуть между пальцами, и там, на возвышении, увидел ужасное зрелище. Кантор, он же рабби, или еще кто-то, с длинной бородой и еще трое или четверо стариков как раз закрывали себе лица своими шелковыми молельными шалями. У рабби на ногах не было ботинок, только белые носки. У всех у них были белые носки, и они вдруг начали что-то дико петь и даже танцевать! Но не какой-нибудь красивый танец, а танец стариков, по большей части приседая и приподнимаясь, раскачиваясь и переваливаясь с ноги на ногу, словно ряд сдуваемых ветром палаток, а из-под шалей доносились жалобные вопли, плач и внезапные выкрики. Потом все они повернулись лицом к шкафу, где хранились Скрижали Завета, и опустились на одно колено, а потом и на другое, а потом, подобно падающим домам, склонились вперед и упали лицом вниз и все вытянулись неподвижно на полу. Прямо там, на алтаре, где рабби или кантор, или кто он там был, всегда стоял так неподвижно и даже ни на кого не глядел прямо. Его здорово поразило то, что эти старики так танцуют.
Никто из этой небольшой группы мужчин не посмотрел на него, даже Бен, даже папа. «Они узнали, что я тогда подглядывал, как танцует кантор», – подумал Мартин, и еще они поняли, что его уже не спасти; теперь уже не имело значения, видит он их сейчас или нет, потому что он плохой мальчик. По сути дела, можно было считать, что они все пришли сюда, чтобы оплакать его, что такой вот он законченный негодяй, бандит. Если б здесь сейчас оказался какой-нибудь хороший мальчик, вроде одного из его двоюродных братьев, с нормальными ушами, они бы, вероятно, бросились все к нему, заставили бы прикрыть глаза и не смотреть. Он отвернулся от группы мужчин, сосредоточив все внимание на грохоте моря, стараясь даже не слышать их молитвы. Но это не принесло облегчения, все не приносило и не приносило, а потом голос кантора, человека, которого он разглядел первым, вдруг взлетел куда-то ввысь, а потом еще выше, пока не стал похож на девичий, и Мартину пришлось обернуться и посмотреть, что там происходит.
Сейчас они все молились гораздо громче и выкрикивали что-то пугающее, обращаясь к волнам, и при этом кантор и все остальные мужчины колотили себя сжатыми кулаками в грудь. Их удары звучали как отдельные звуки барабанов, упрятанных в землю, и они стонали или кричали от боли, и эти вопли снова и снова летели над волнами, и Мартин увидел, как нечто сверкающее вылетело из руки кантора, описало в воздухе дугу и упало в волну. Дохлая сардина? Или это блеснули брызги? И воцарилось молчание. Никто не двигался. Рты у всех открывались и закрывались, но слышен был только низкий гул и рокот, сливавшийся с грохотом волн.
Мартин ждал, а затем вдруг почувствовал страх при мысли, что кантор, как он это проделал на прошлой неделе в синагоге, достанет сейчас изогнутый бараний рог и станет в него дуть. «Ахо-о-о-йя!» При воспоминании об этом диком, животном звуке у Мартина поползли по спине мурашки, и он мысленно взмолился, чтобы не услышать его сейчас, только не сейчас, когда Бог так близко, что этот звук тут же Достигнет Его слуха и заставит Его показаться из океана и испепелить их всех одним взглядом своих синих глаз. Ох, как тогда вспенится поверхность моря, какие могучие потоки, настоящие реки зеленой воды потекут вниз по огромной ниспадающей бороде!
Без всякого предупреждения или знака все вдруг начали пожимать друг другу руки. Теперь они уже разговаривали, с облегчением, дружески, и смеялись, кивали и складывали свои молельные шали, закрывали молитвенники – словом, вели себя как добрые соседи. Мартин почувствовал, что внутри у него звучит благодарственная песнь о том, что Бог пребывает там, где Ему и положено пребывать. «Благодарю тебя, Господи, что Ты не вышел на поверхность!» Он побежал и протиснулся сквозь столпившихся мужчин к отцу, совсем забыв про то, что ему вроде как и не полагается все это видеть. Первым он увидел Бена и возбужденно окликнул его, пытаясь к нему протолкнуться. Бен, заметив его, дернул папу за рукав, и папа обернулся и тоже его увидел, и они оба заулыбались, и он почувствовал, что сейчас они им гордятся. И он, не раздумывая, выкрикнул:
– Бен, я это видел! Я видел, как он бросил это в воду! – Как здорово, что он видел чудо, и видел его не один! – Я видел, как оно полетело в волны! – Ему сейчас было легко и свободно, как и Бену, и не нужно было ничего прятать у себя внутри.
– Что? В воду? – удивленно переспросил Бен.
От страха у Мартина закололо в глазу, словно иголка вонзилась. Он покраснел от этого вздорного вопроса, но желание поделиться увиденным пересилило.
– Кантор!.. Он что-то бросил туда! – Он посмотрел вверх на отца, ожидая подтверждения, но тот лишь мягко рассмеялся, глядя на него сверху вниз, удивленный, ничего не понимающий, просто любящий.
Бен покачал головой, тоже глядя на отца.
– Ну и парень! – сказал он. – И чего он только не выдумает!
Папа рассмеялся, но вроде как одобрительно, решил Мартин и несколько секунд радовался этому одобрению, пока шел вместе с ними по берегу к их домику. По крайней мере он заставил папу засмеяться. Но он ведь действительно видел, как что-то описало в воздухе дугу и упало в море – почему же они не хотят это подтвердить? В душу потихоньку закрадывалось болезненное ощущение. Он чувствовал, что уши у него все сильнее и сильнее оттопыриваются в стороны, он больше не мог выносить свое одиночество, то, что его снова отбросило в объятия его собственных тайн.
– Я видел это, Бен, – упрямо повторял он, пытаясь остановить брата. – Пап! Я видел, как он что-то бросил, честное слово! – вдруг выкрикнул он.
Отец, кажется, встревожился и посмотрел на него добрым взглядом, все еще ничего не понимая, желая лишь, чтобы сын хорошо себя вел.
– Он просто взмахнул рукой, Марти. Когда бил себя в грудь.
Ну, хотя бы так.
– Но что у него было в руке? Я же видел, как он что-то бросил!
– Он отбросил свои грехи, тупица, – сказал Бен.
– Точно, – подтвердил папа. – Отбросил свои грехи, выкинул их в океан.
Мартин почувствовал в тоне отца некий скрытый юмор. И задумался: не оттого ли это, что о подобном не следует говорить вслух? А потом подумал, может, папа совершенно не верит в то, что в руке у кантора были грехи?
– И они сверкают, да, пап? – живо спросил он. Более чем чего-либо еще, он желал сейчас, чтобы папа сказал «да», как будто они видели это вместе, и ему уже не будет больше так одиноко со своим знанием.
– Ну-у-у… – протянул папа и замолчал. Потом вздохнул. Он не рассмеялся, но и не был вполне серьезен.
– Так блестят или нет? – настаивал Мартин.
Папа уже собрался было ему ответить, но так и не ответил, и Мартину стало не по себе, он больше не мог выносить это молчание.
– Я видел такое… – Внутренний голос предупреждающе зазвучал вновь, но он уже не мог остановиться: – Это было как сардинка, она пролетела в воздухе и упала в воду.
– Сардинка! – Отец разразился смехом.
– Ох, Господи! – застонал Бен, стуча себя кулаком по голове.
– Ага, и она была неживая! Я хочу сказать, мертвая! – в полном отчаянии поправился Мартин.
– Мертвая, конечно же! – Бен засмеялся. – Пап, а знаешь, что он наплел нам на той неделе?
– Заткнись! – заорал Мартин, отлично зная, что сейчас последует.
– Что лошадь молочника…
Мартин ухватил брата за рукав и потянул вниз, на песок, но Бен продолжал:
– …давит копытом мух!
Мартин изо всех сил заколотил брата по спине, молотя его обоими кулаками.
– Эй, эй! – крикнул папа пронзительным голосом, почти таким же, как у Бена.
– Я сам видел! – Мартин дергал брата за руки и пинал его по ногам, а отец пытался их разнять.
– Хорошо-хорошо, ты видел, ты сам все видел! – кричал Бен.
Папа мягко оттащил Мартина от брата.
– Ну ладно, хватит. Перестань. Будь мужчиной, – сказал он и отпустил его. И Мартин ударил отца по руке, когда тот его отпустил, но отец ничего не сказал.
Они шли через пляж. Мартин попытался успокоиться, заткнуть себе глотку, которую сводило, так из нее рвался наружу крик. И прежде чем понял, что снова может говорить нормально, произнес с рыданием в голосе:
– На лошади всегда сидит туча мух.
– Хорошо-хорошо, – ответил Бен с отвращением и больше ничего не сказал.
Мартин шел рядом с ним, в груди у него бушевал гнев. В конце их улицы стояла какая-то женщина в фартуке и смотрела на расползающуюся в стороны группу мужчин, наверное, высматривая своего мужа. Увидев ее, Мартин придвинулся поближе к отцу, чтоб она, может быть, решила, что он тоже был вместе со всеми, весь день постился в синагоге и молился на берегу. Она глянула на них, когда они подошли ближе и ступили на асфальт, и уважительно произнесла:
– Gut Yontef [56]56
С праздником (идиш).
[Закрыть].
– Gut Yontef, – одновременно и очень веско ответили папа и Бен. Мартин попытался произнести то же самое, но было уже поздно; его ответ прозвучал бы одиноко, голо, словно сам по себе, и, может быть, это было бы даже смешно, потому что он сегодня столько раз ел. Он поднялся по ступенькам в их домик и вдруг ощутил ужасную слабость и неуверенность, потому что не был одним из них.
Дверная пружина завизжала, и его так ничего и не понявший отец придержал дверь, давая пройти Бену, затем положил свою огромную руку Мартину на плечо, наполнив его теплым ощущением гордости. И только когда дверь с грохотом захлопнулась, он вспомнил оскаленные зубы матери и ее возмущенный взгляд.
– Ма! – окликнул Бен.
Ответа не последовало.
На кухонной плите что-то исходило паром без всякого присмотра. Отец Мартина прошел в кухню, окликая мать по имени, потом вернулся в гостиную, и Мартин увидел на его лице выражение полной растерянности, переходящей в тревогу. Мартин вспыхнул, он боялся того, что он знал, но чего не знал отец. И тут же вообразил себе, что она ушла навсегда, исчезла, чтобы они, трое мужчин, могли сесть здесь и спокойно покушать. А потом Бен уйдет, и они останутся вдвоем с папой, и как он тогда будет слушаться! И каким идеально-серьезным он всегда будет с папой, а тот всегда будет все обсуждать с ним, тоже серьезно, как со взрослым, как он всегда разговаривал с Беном, как велит ему начистить ботинки, точно так, как приходилось их чистить Бену каждую субботу, и будет рассказывать ему про праздники, так что он всегда заранее, а вовсе не накануне, задень или за два, будет знать, что наступает Рош Хашана, или Тишебаф, или что еще, и он в любое время будет делить с ними знание того, что соответствует Закону, а что нет.
Дверь ванной комнаты отворилась, оттуда вышла мама. Он сразу увидел: она не забыла. Глаза у нее были красные, такие же, как тогда, когда умер дядя Карл – оттого, что нагнулся за телефонной книгой. У Мартина закололо шею при виде ее безысходного горя. Да, тут уже не до шуток, он это видел: папа и впрямь был напуган, у Бена глаза стали как плошки.
– Что случилось? – спросили они ее, донельзя обеспокоенные.
Она перевела взгляд с них на Мартина, и в ее остекленевших глазах застыло выражение бессильного непонимания и пересохшего горя.
– Жаль, что я дожила, чтобы услышать такое, – сказала она и повернулась спиной к отцу Мартина.
Даже теперь Мартин еще не мог поверить, что она намерена нажаловаться на него папе. И еще – он не мог точно вспомнить, что она может ему рассказать, но для нее перспектива открыть все, что между ними произошло, была ужасающей до полного умопомешательства, а после этого он останется один-одинешенек, наедине со все понимающими теперь взглядами отца и Бена, а потом на него обрушится крик и гром, которые раздавят его в порошок, превратят в ничто.
– Знаете, что он мне сказал?
– Что?
– «Ты мне больше не нужна»! Вот что он мне сказал!
Возникло такое ощущение, что никто не в силах даже вздохнуть. У Бена на лице была написана такая обида и удивление, что, казалось, он вот-вот упадет в обморок. А Мартин ждал, что она скажет дальше, что она сделает, какой еще последний факт о нем приведет, и этот факт свалится на него как камень или выскочит из ее рта как какое-то маленькое животное; и, увидев это, они все будут знать, и он тоже будет знать, какой он на самом деле плохой мальчик.
Но она не стала продолжать. Это было все! Мартин понятия не имел, что еще она может сообщить, но решающее, конечное, ревущее как океан зло так и не вступило в комнату, и у него отлегло от сердца. Она уже снова заговорила, но только о том, как он ее ударил. И хотя папа стоял, качая головой, Мартин видел, что его мысли где-то далеко отсюда.
– Не следует такое говорить, Марти, – сказал он и пошел в спальню, на ходу снимая пиджак. – Давайте-ка поедим, – добавил он уже оттуда.
Ему хотелось броситься к отцу и поцеловать его, но что-то останавливало: некое разочарование, жажда и страх окончательного разоблачения.
И тут мама вдруг закричала:
– Ты что, не слышал, что я тебе сказала?! Он же каждый день меня с ума сводит!
В спальне раздались папины шаги, они приближались. Так, так, может, сейчас все это и произойдет, раздастся рев его громоподобного голоса, полного давящего отвращения. Папа появился в дверном проеме – в рубашке с короткими рукавами, огромный, неподвижный.








