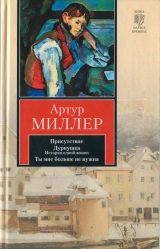
Текст книги "Присутствие. Дурнушка. Ты мне больше не нужна"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Папа сидел, немного покраснев от стыда за свое воспитание и свою семью, а Мартин продолжал улыбаться и щипать в отчаянии одеяло. Боковым зрением он видел три книги, стоявшие на ее прикроватном столике, и тут у него похолодело внутри: неужели это те самые книги, которые подарил ей плачущий дантист? «Ох, сколько книг он мне тогда приносил!» Ее голос, тот самый, что звучал тогда в холле, летал и пел сейчас у него над головой, и в нем звучала все та же тоска. От этого воспоминания он покраснел. Нет, папа никогда не должен об этом узнать!
– Вот когда я вырасту… – начал он.
Они все обернулись к нему, улыбаясь его неожиданному заявлению.
– Что будет, когда ты вырастешь? – спросила мама, все еще красная от переполнявших ее чувств.
Он опустил глаза на одеяло; он не собирался ничего произносить вслух, и лицо у него запылало от стыда.
– Так что тогда будет, милый? – продолжала настаивать мама.
А он и сам не знал, действительно ли ему хочется сказать, что он тогда будет учить папу, чтобы тот мог читать книжки, сидя в кресле, как читает она, или же, что когда он вырастет, то станет сам приносить ей книги, чтоб она больше не вспоминала про дантиста, и тогда они больше не будут спорить и ссориться, она и папа. Одно только он знал точно: что не хочет, чтоб она заставляла папу краснеть от стыда.
А она продолжала его спрашивать, что произойдет, когда он вырастет, и он понял, что нужно что-то быстро придумать.
– Папа дал нам курицу, – сказал он. И все рассмеялись в удивлении, и он почувствовал облегчение и тоже засмеялся, хотя и не понимал, что тут смешного. – Кусочки курицы лежали сверху, на горохе и морковке! – добавил он.
– Тоже мне, официант! – засмеялась мама. И все они засмеялись еще громче, но папа покраснел, и Мартину захотелось броситься к нему и извиниться.
Она сейчас как будто гордилась им, но Мартин-то знал, что гордиться им не стоит.
– Иди сюда, поцелуй меня. – Она протягивала к нему руки. Он потоптался на месте, поджимая пальцы в ботинках. – Иди же! – И она улыбнулась.
Опасаясь снова ее обидеть, он сдвинулся на дюйм вперед, к ее протянутым рукам и замер на месте, продолжая тянуть пальцами одеяло.
– Бен возьмет меня с собой в школу, – сказал он, держась вне ее досягаемости.
– Ему не терпится в школу, видите? – похвалилась она, обращаясь напрямую к папе, и Мартин в тот же миг расцвел и засиял от ее гордости за то, что он так похож на нее. Но когда увидел, с каким довольным и невинным видом папа кивнул в ответ, тут же упал духом; он чувствовал только то, что ей не следует так прямо и открыто заявлять в присутствии папы о том, что он – ее собственность. В воздухе, отделявшем его сейчас от матери, он ощущал разрастающееся присутствие зла, этакого взаимного понимания, обусловленного неким тайным сговором; он страстно стремился к нему, и в то же время это было для него невыносимо.
– А я могу сказать, как пишется «берег», по буквам! – вдруг заявил он – и испугался.
– А как же! Ты ж любое слово можешь сказать по буквам! – Она взмахнула рукой, как бы отсылая к нему эти свои слова. – Ну давай, скажи по буквам «берег»!
– Берег, – произнес он обычным образом, прежде чем произнести по буквам.
Он заметил, что Бен улыбается; отчего бы это? Он что, гордится им или, наоборот, сомневается, что он и в самом деле способен произнести это слово по буквам? Мартин напряг память, вспоминая каждую букву.
– Б… – начал он.
– Правильно, – сказала она, удовлетворенно кивнув.
– …е…
– Очень хорошо, – сказала она, с гордостью взглянув на папу.
– …р… – произнес он менее уверенно.
Она, кажется, уловила его колебания и промолчала. Он смотрел теперь на отца, ловя его великодушную улыбку, его совершенно бескорыстный взгляд; и в это самое мгновение понял, что папа не знает, как правильно пишется слово «берег». Сам он, и Бен, и мама, знали, один папа оставался в своем терпеливом невежестве.
– Б-е-р… а дальше? – подсказала мама. Он ощущал обволакивающую силу ее команды, словно это ветер подул ему в спину, и он уперся ногами в пол, чтобы противостоять ему.
Но папа ничего не заметил, он ждал только чуда, которое должно было вот-вот появиться изо рта его сына, и чувство собственного предательства как огнем опалило Мартина.
– Ну же, милый! Б-е-р…
– Б-е-р… – снова начал Мартин медленно, чтобы выиграть время. Он опустил глаза, словно отыскивая последние буквы, и тут его пронзило понимание того, что он, в сущности, обучает собственного отца. Да как он смеет учить папу?! Она должна заткнуться, иначе на всех на них обрушится нечто страшное. Потому что… Он не знал, почему это произойдет, но не хотел стоять вот так перед папой и обучать его тому, что узнал от нее, а иначе… Он уже запутался в возможных последствиях, утонул в них, словно в глубине нахлынувшей волны. – А еще я могу сказать по буквам «телефон», – заявил он.
Все засмеялись. Слово «берег» теперь почему-то оказалось под запретом. Он вдруг вспомнил, что однажды уже произносил слово «телефон» по буквам папе, прочитав его на обложке телефонного справочника. И теперь всей душой желал произнести его для папы снова и стереть всякие воспоминания о слове «берег».
– Сперва закончи со словом «берег», – сказала мама, словно чуть жалуясь. – Ты же можешь его произнести.
Тут вмешался Бен:
– Оно пишется так же, как слово «верен».
– Я знаю! – крикнул Мартин брату. Сердце у него застучало быстрее, он испугался, что Бен сейчас сам произнесет «берег» по буквам.
– Или как слово «через», – сказал Бен.
– Заткнись! – заорал Мартин, и мама с папой засмеялись. – Я сам могу его сказать! – крикнул он папе и маме.
– Ну давай, скажи, – попросила мама.
Он взял себя в руки и приготовился, но теперь это он остался в одиночестве и как бы молил их, всех троих, позволить ему продемонстрировать, как он умеет произносить слова по буквам. А сам уже не мог выносить это унижение, смотреть в лицо опасности, что проистекала из того, что ему необходимо было выдать им нечто в обмен на их разрешение занять место рядом с ними. Золотистая аура, озарявшая его, исчезла; он просто стоял там как голый, лишенный собственного положения в семье, и он начал тихонько всхлипывать, сам не понимая отчего, кроме того что сейчас ненавидел их всех, словно они каким-то образом предали его и посмеялись над ним.
– Ну, в чем дело, дорогой? – спросила она и протянула к нему руку.
Он прямо-таки ощетинился от этого ее фальшивого тона, и она убрала руку.
– Ну ладно, пошли-ка спать, – сказал отец, подходя к нему.
Он оттолкнул отца, упершись ему в живот, но не изо всех сил.
– Не хочу я спать!
Что-то оставалось незавершенным, какой-то неоконченный бой, и он страстно желал его продолжить, как желал мира.
Его ладонь продолжала ощущать пряжку отцовского ремня. Он поднял глаза на папу и увидел его гаснущую удивленную улыбку. Вот сейчас он снимет ремень и выпорет его! Перед глазами стояла красная пелена, но сквозь нее Мартин видел надежду на конец этой схватки, на мир. Ее сменило видение того, как его сейчас и впрямь выпорют, и тогда воспоминание о дантисте будет изгнано из его памяти и он никогда больше не услышит этого звука – высокого, возбужденного смеха матери, какой он слышал тогда, в тот день. О да! – все это будет изгнано со звонким хлопком ремня и с яростным выкриком папы: «Вот я тебя сейчас!..» Да, да, вот сейчас он его выпорет! А потом папа повернется и ударит маму, и она ударится об стену и дальше уже никогда не станет заставлять его учить папу, никогда и ничему.
Но папа лишь наклонился к нему, похлопал по спине и сказал:
– Уже поздно, профессор, пошли-ка спать.
И Мартин почувствовал, как огромная ладонь отца ложится сзади ему на шею, и позволил отвести себя к двери. А когда он уже выходил из гостиной, то услышал голос брата, усиленный звучавшей в нем ответственностью за то, что он его учит:
– Это произносится б-е-р-е-г, Марти.
Несправедливость всего случившегося обрушилась ему на голову кучей острых гвоздей. Сначала он услышал грохот, потом увидел, как скатерть сползает на пол по его ногам, как катятся в его сторону тарелки и бьются об пол, как разлетаются по всей комнате фрукты из блюда, как описывает в воздухе дугу горящая свеча, он ощутил, как чья-то рука хлещет его полбу, потом по заднице, и он бежит, бежит – и утыкается сперва в Бена, вырывается у него из рук и тыкается в мамино бедро, а потом он вдруг взлетел вверх, суча ногами в воздухе, и смотрит теперь в потолок со следами трех мух, которых однажды прихлопнул там папа. Все вокруг стало красным, словно глаза ему застила пелена его собственной крови, и он чувствовал, как пальцы ног упираются в носки ботинок, когда он пинает папу. «Эй, эй!» Его опустили на пол, он ударился об него ногами и заметил, что рука отца тянется к животу, словно тот у него болел, и ощутил, как боль, которую он причинил отцу, ножом врезается ему в горло, и после этого почувствовал себя странно освободившимся от них, переполненным самим собой – скверным мальчишкой, неуловимым непоседой; он быстро глянул на них, замерших в ступоре, отлично зная, что его никогда никто не может поймать и удержать, если он сам того не захочет. В первое мгновение никто не двигался с места, и он слышал лишь собственное тяжелое дыхание.
Он бросился в свою комнату, схватил измятые штаны, метнулся обратно в гостиную и швырнул их на пол, на обозрение всей семьи. После этого он уже знал, он рванет из дома вниз по улице и никогда больше сюда не вернется. Нет, поправил он себя, не так: он пробежит через пляж и бросится в воду! В бородатый океан, где ему самое место, – он его не боится, как боятся они! Мама сделала к нему шаг, и он замер, судорожно хватив ртом воздуху. Слова сами вырвались у него откуда-то из живота: «Ты мне больше не нужна!» Рот открылся, он уже кричал, но не издавал ни звука, язык его прилип к глотке.
– Мартин!
Он снова закричал.
– А-а-ах! – вырвалось наружу. Корень языка был холоден как лед. Он почувствовал страх. Все они теперь приближались к нему очень осторожно. Он сглотнул, но язык не желал возвращаться туда, где ему положено быть. Он ощутил, что его куда-то несут, потом у него под головой оказалась подушка.
В спальне было темно, и их лица лишь наполовину освещала луна, заглядывавшая в окно. Он долгое время не видел их, но мог слышать их разговор и озабоченные восклицания. Он не мог сейчас шевелить мозгами, не мог заставить мысли оторваться от собственного рта, где они старались нащупать его язык. Он ощущал чью-то ладонь у себя на руке, он повернулся на бок, ожидая увидеть рядом мать, но это оказался отец, сидевший в кресле. Он поглядел туда, откуда доносился голос мамы, и она, оказывается, сидела в ногах постели вместе с Беном. Это было странно: папа всегда стоял в ногах его кровати, когда он болел, а мама сидела рядом. Повернувшись снова к отцу, он почувствовал себя совершенно беспомощным и благодарным, он сейчас очень желал понять свое новое положение в семье.
– Скажи что-нибудь, Мартин, – испуганно попросила мама, отделенная от него огромным расстоянием.
Он не сводил глаз с полуосвещенного лица отца и ждал. Но отец, хотя и испуганный, что было видно, не произносил ни слова; он просто сидел рядом и держал Мартина за руку, словно передавая ему через это касание какую-то новую, неизмеримо глубокую мысль. И Мартин своим молчанием умолял отца заговорить, но отец продолжал молчать.
– Что с тобой, милый? Все хорошо. Ничего страшного не произошло. Скажи что-нибудь. Скажи: «мальчик». Можешь сказать «мальчик»?
Корень языка уже превратился в сплошной лед. Мозги были заняты тем, что ощупывали полость рта, поэтому голос мамы доносился до него откуда-то издалека, и эта ее отдаленность облегчала ему возможность не отвечать ей. Будучи не в силах отвечать, он ощущал странное облегчение, отсутствие необходимости думать и изобретать стратегию дальнейшего поведения. Эта отдаленность от них от всех, да и от собственных ощущений, позволила ему почувствовать себя как бы в свободном плавании, и, сам о том не подозревая, он постиг и усвоил способность быть невидимым – у него не было никаких сомнений в том, что он лежит в постели, однако никто сейчас не мог на него сердиться, пока он не может отвечать по их требованию, и это навязанное ему молчание давало возможность по-новому, спокойно смотреть на все, он освободился от необходимости все время, каждую секунду думать о том, что он должен и чего не должен сказать в следующий момент. Внезапно оказалось, что в его жизни вроде как ничего не происходит и все вот-вот произойдет. Вокруг него, казалось, собиралась и накапливалась красота, все они колыхались, вздымались и опадали все вместе в нависшей над ними неизбежности, в том, что должно свершиться, в том, что было как неспетая, но вполне слышимая песня. Дистанция, которую опасливо соблюдала его мать, смутно казалась ему уважительной, а ладонь отца у него на руке обещала ему некую новую надежду, суть которой понять он не мог. Мать продолжала просить его что-нибудь сказать, и еще он слышал голос Бена, и в их словах непрестанно звучало удивление его поведением, но оно не несло в себе никаких обвинений. «Неужели я сломал себе язык?» – размышлял он. Странно, но это его не ужаснуло, а всего лишь оставило в подвешенном состоянии, и в этом не было никакой боли.
Он чувствовал, как течет и течет время, и в душе не осталось больше никакой злости, а лишь беспокойное любопытство, которое, как он чувствовал, постепенно сближало его с ними – когда вдруг в этой полутьме возникло нечто для него новое, новое чувство, которое поднималось в нем, возникая из его собственной правдивости. Этот факт захватывал все его мысли, то, что они все открыли это в тот же самый миг, что и он сам. Это было уже не то, что он наполовину выдумал и во что наполовину уверовал, это действительно происходило, это охватило и подавило его всего, но в то же время и для них явилось поразительным открытием. Все они сейчас разделяли одно-единственное убеждение, и это внезапно образовавшееся их единство, как огнем обрушившееся на них без всякого предупреждения, выжгло, испепелило в нем ощущение того, что у него еще остались какие-то тайны и секреты. Он чувствовал, что его что-то поддерживает в пространстве, а они повисли вокруг него, и в этот момент не существует уже ни мамы, ни папы или Бена, а есть просто три сгустка тепла, охватывающие его и не имеющие никаких собственных мыслей. Сейчас ему казалось, что это именно то, что он так старался найти, это было подлинным и идеальным, тогда как все остальное, все прошлое – споры и ссоры, улыбки и вопли – было лишь дурным сном.
Она продолжала убеждать его попробовать сомкнуть губы и попробовать произнести звук «б». Но эта странная зима у него во рту как будто заморозила ему верхнюю губу, и он никак не мог опустить ее вниз. В лунном свете двигалось нечто странное, он присмотрелся и увидел: отец кусает себе нижнюю губу. Ему еще никогда не приходилось видеть, чтобы у папы так кривилось лицо. Он продолжал смотреть. Папа, в лунном свете ставший наполовину зеленым, смотрел на него сверху вниз, сильно прикусив губу, и его единственный освещенный глаз странно выкатился от ярости. Вздымание и опадание замедлилось, потом прекратилось. К языку Мартина начала приливать теплота, а губа перестала быть такой застывшей. Он ощутил страх в груди. Папина ладонь сжимала ему руку, и через нее он чувствовал живую силу огромного тела отца. В нем, казалось, собирался и накапливался гром, увеличивая его в размерах и приводя отца в ярость, как яростно чернеет небо, внезапно объятое грозой. С губ Мартина сорвался чмокающий звук, и шею защипало от внезапно выступившего пота. Теперь он видел себя унесенным куда-то вдаль, выброшенным вовне, в ночь, словно смятый обрывок тряпки.
– Папа! – выкрикнул он, откидываясь на подушку.
– С ним все в порядке! – послышался крик мамы, испугавший его. Он услышал, как она поспешно ринулась к нему, огибая кровать, увидел ее руки, протянутые к нему, и страх разбил его молчание.
– Мама! – всхлипнул он, и она упала прямо на него, судорожно и неистово целуя его и твердя ему прямо в лицо:
– Да, да, говори, мой маленький, говори! С ним все в порядке!
Эта ее благодарность, такая неожиданная и такая чистая, отнесла его прочь от наказания, которого он ожидал всего секунду назад; ее общность с ним затмила его последнюю мысль, и он легко, без усилий поплыл вместе с нею сквозь свет. Она уже плакала и стояла, выпрямившись, глядя вниз на него и сложив руки вместе, как на молитве.
И тут же Мартин снова увидел отца, увидел, что тот вовсе не рад, не благодарен, у него точно такой же вид, как был минуту назад. И услышал голос отца, прежде чем понял его слова; голос звучал как гром, который рокочет и грохочет, прежде чем разразиться молнией. «Ч-ч-ч-чер-р-рт побер-р-ри!»
Мама резко обернулась и посмотрела на него.
– И когда ты только перестанешь его донимать! – заорал он прямо ей в лицо.
– Я?.. – начала было она оборонительным тоном.
– Ты все донимаешь и донимаешь его, пока совсем с ума не сведешь! – Грохот теперь усилился, формируя слепящую белую молнию, и Мартин весь напрягся и замер в ожидании страшного удара, и его мозг дрожал под завывание ветров, которые, казалось, уже мчались свирепо в потемневшем воздухе. – Ну, пролил он немного супу, подумаешь! Черт возьми, да как он может чему-то научиться, если не будет ничего проливать!
– Да я только… – слабо принялась возражать она.
– Ты «только»!.. – Ох, он ей даже ничего объяснить не дает!
Мартин с удивлением отметил, что гнев папы обращен вовсе не на него! И как она напугана – стоит там, смотрит на него, все еще молитвенно сжимая руки. Громовой гнев отца теперь поразил землю, и он уже не мог разобрать слов, но испуг матери сказал ему все, ее испуг и опущенный взгляд Бена. Оба они сейчас получали то, что заслужили, оба они сейчас все дальше и дальше выталкивались из папиной любви.
– Нельзя так обращаться с мальчиком! – Теперь он говорил уже более спокойным тоном и более строго и резко. – Если он не может есть самостоятельно, не давай ему ложку; а если может, не приставай к нему, не донимай его! – Она ничего не посмела ему ответить. Папа прошелся по комнате и встал, возвышаясь над нею. – Я, конечно, не профессор, но так дело не пойдет. Не пойдет. Ты сама себя в гроб вгонишь, да и всех остальных тоже.
– Я ж просто пыталась…
– Так прекрати эти свои попытки! – проревел он, а луна стояла как раз над его ухом. – А теперь пошли. Пусть он поспит. Пошли.
Сердито дыша, он повелительно махнул рукой, и она направилась к двери. На пороге она помедлила, желая, Мартин это знал точно, поцеловать его на ночь, но вместо этого послушно прошла мимо папы и вышла из комнаты, и Мартин почувствовал ее облегчение и сдержанную радость, когда она молча скрылась из виду.
После этого папа обернулся к нему и сказал так же строго, как говорил перед этим:
– Пора уже поубавить прыти с этими твоими шуточками. Слушай, что она тебе говорит. Понял?
– Да, папа, – прошептал Мартин. Любовь стиснула ему горло, не давая говорить.
Папа наклонился, Мартин замер в ожидании удара, но отец расправил одеяло и вышел из комнаты.
Мартин на секунду забыл, что Бен все еще здесь, стоит в ногах кровати. В душе возникла убежденность в собственной доблести; ощущение было такое, как будто он постился весь день вместе с отцом, и он все еще слышал отзвуки этого глубокого, грохочущего голоса, который так внезапно разбил, расколол воздух в его защиту. И он на мгновение почти поверил, что это он сам издавал такой рокот и грохот; он повторил, скопировал про себя этот звук, а потом и гневное выражение отцовского лица, и быстро присвоил все это себе. Очистившись от всего прошлого и теперь стремясь вести себя по-новому, он с нетерпением ждал утра, когда пойдет вместе с отцом, и, возможно, они встретят кого-нибудь, и он услышит, как отец скажет: «Это мой сын». Его сын! Впервые в жизни он почувствовал это твердое, непреходящее чувство гордости за свое происхождение, а вместе с ним еще и силу того, кто знает, что за ним все время присматривают, а значит, и доверяют ему, и он не должен никогда забывать об этом доверии. Перед его мысленным взором промелькнул образ разъяренного отца, а позади папы был дедушка, а потом еще и другие мужчины, все очень серьезные и бородатые, они все пристально и вроде как выжидающе смотрели на него, они были благодарны зато, что их собственная праведность и смелость вновь проявились в нем. И, окутанный теплом их одобрительных взглядов и кивков, он начал соскальзывать в сон.
Разбудило его громкое рыдание. Он быстро приподнялся. Бен! Он посмотрел в темноту, высматривая брата, о котором совсем забыл, он хотел ему сказать – да какая разница, что именно он хотел ему сказать! – ему просто больше нечего было прятать, и он желал протянуть руку и прикоснуться к нему.
– Бен?
Непонятно почему, но Бена в противоположном конце кровати не оказалось. Мартин подождал. И вот опять, теперь уже тише, послышался плач. «Отчего это Бен так расстроился?» – подумал он.
– Бен? – снова позвал он.
Плач продолжался где-то в отдалении, вполне самостоятельно, независимо ни отчего, но он долетал до ушей Мартина, который чувствовал, что его таким образом отталкивают, отвергают. И тут он увидел, что Бен сидит прямо рядом с ним и смотрит на него через проход, что разделяет их кровати. Он был полностью одет.
– Что с тобой? – спросил Мартин.
Лунный свет освещал одну щеку и угол глаза; другая часть лица Бена оставалась невидимой в темноте – Мартин не мог определить его выражения. Он ждал, когда Бен заговорит – с одним только любопытством, без всякого страха. Но теперь он слышал также и прерывистое, судорожное дыхание брата, и хотя не мог вспомнить за собой никаких грехов, чувствовал все же, как в продолжающемся молчании накапливается некое осуждение.
– Что случилось? – спросил он.
Дрожащий от горестных, совершенно похоронных чувств, Бен сказал:
– Как ты только мог сказать такое?!
– Не плачь, – начал было Мартин умоляющим тоном. Но Бен все так же сидел и плакал, закрыв лицо ладонями. – Они же спят —в благородном негодовании напомнил он.
Но Бен при упоминании о родителях заплакал еще сильнее, и прежние страхи Мартина снова навалились на него; да и прежнее ощущение тайны снова ожило и злобно зашевелилось.
– Да не плачь ты так!
Он быстро сполз с кровати и наклонился, заглядывая брату в лицо. Им овладела паника, судорогой свела ему локти.
– Я совсем не хотел так говорить, Бен! Пожалуйста, перестань! – И все-таки он по-прежнему не понимал, что такого ужасного было в том, что он сказал, и это непонимание само по себе свидетельствовало о том, какой он плохой.
Он вдруг протянул руку, желая отвести ладони Бена от лица, но Бен отпрянул и упал на постель спиной к Мартину. Из спины Бена вырвался целый водоворот облаков, морских глубин и бородатых тайн и закрутился вокруг головы Мартина. Он беззвучно забрался обратно в свою постель.
– Я больше никогда не буду так говорить, Бен. Обещаю, – сказал он.
Но Бен не ответил. Его рыдания уже стихали. Мартин ждал, однако Бен так и не отреагировал на его обещание, не принял его, и в молчании брата он увидел свой приговор: его отвергли. Лежа в темноте с открытыми глазами, он видел, что хотя папа кричал, выступая в его защиту, это было потому, что папа не понял, как понял Бен, какой он на самом деле плохой. Папа ничего не знал, поэтому защищал его. А Бен знал.
Нет, он не мог больше так лежать. Он сел и шумно втянул носом воздух, чтобы Бен услышал и повернулся к нему. Но Бен лежал неподвижно и тихо. Может, он уже засыпает, прямо так, одетым? Это нарушение давным-давно установленного порядка навело его на другие мысли, и он вспомнил, что в гостиной по-прежнему валяется разбитая им посуда. Как было бы чудесно, если бы он сейчас незаметно выбрался отсюда и все там прибрал, тихо, не производя никакого шума, а утром все поразились бы и снова стали его любить!
Он уже спустил ноги на пол. Бен по-прежнему не шевелился. Он низко пригнулся и на цыпочках вышел из спальни, вытянув руки вперед, в пустую темноту.
В столовую лунный свет не проникал, и он двигался очень осторожно, дюйм за дюймом, опасаясь произвести шум. Руки коснулись стола, и он вытянул их вперед. Стол был пустой. Только теперь он точно вспомнил, как все это происходило, снова услышал этот жуткий грохот, и реальное осознание того, какой он плохой, было как удар в лицо. Он опустился на колени, злобно вознамерившись все здесь прибрать. Его коленка попала на сливу и раздавила ее, и он отпрянул. Он присел, чтобы обтереть коленку, и почувствовал под собой кусок холодного мяса и подскочил; это оказалась куриная нога. Встав на четвереньки, он пополз прочь от стола, стараясь подавить в себе растущее чувство отвращения. У окна, выходящего на передний двор, он поднялся на ноги, выглянул и увидел настоящее чудо.
Еще никогда в жизни он не видел такой яркой луны. Ее свет даже отражался в окнах дома напротив, через улицу. В царящем молчании он вдруг услышал тоненький звон у себя в ушах, похожий на писк насекомых. Его глаза впитывали таинственное свечение, и через мгновение он уже не помнил, что привело его сюда. На него снизошло ощущение полной новизны; он был готов делать что-то, чего никогда прежде не делал. Совершенно внезапно все вокруг наполнилось тайной; пока никто его не видит, все в его руках. Никто не знает, что он здесь стоит, он никогда еще не бродил по дому, когда все спят. Он даже может выйти! Его охватило возбуждение от этой возможности незаконно обрести свободу – выйти на улицу и быть единственным во всем мире, кто не спит! Он протянул руку и повернул ключ в замке входной двери, и она отворилась, что несколько удивило его. Глядя сквозь сетку, он обратил внимание на то, какой теплой была ночь. И услышал по-новому тихий и мягкий шум набегающих волн; он отодвинул немного раму с сеткой, чтобы высунуть голову и посмотреть влево, после чего выбрался на террасу и встал лицом к океану. Он уже успокоился, бурные волны последних нескольких дней улеглись. И Бог исчез?
Это нынешнее магическое спокойствие океана приковало к себе все его мысли. Пока никто сюда не смотрел, Бог вылетел из воды с шумным всплеском, весь в пене; а когда взметнувшийся вверх всплеск упал обратно, волны улеглись и море успокоилось. Бог ждал там, пока они не выбросят все свои грехи, и Он забрал их с собой, оставив воду чистой и без волос, без бород. Как же это чудесно, что папа и другие мужчины знают, как обращаться с Богом! Как молиться Ему и когда выбрасывать Ему свои грехи и когда идти домой и кушать.
Папа, да и Бен тоже, и все остальные имели с Богом полное взаимопонимание и знали, что следует делать дальше и чего Он от них хочет, чтобы они сделали.
Стоя лицом к поблескивающему берегу, к белому как соль песку, что расстилался перед ним словно небо, приглашая пройтись по нему, глядя на зеленую реку лунного света, текущую по поверхности океана прямо к его глазам, он страстно желал понять, что он сам должен сделать для Бога, как понимали это все остальные. Его тело напряглось и вытянулось, словно он давал безмолвную клятву – это было абсолютно чистое желание, которое быстро сменилось осознанием этого факта: точно так, как тогда, когда он вставал и садился в синагоге со всей религиозной общиной, не зная, почему и зачем он это делает, но довольный тем, что делает это вместе со всеми, демонстрируя полное повиновение, точно так же он сейчас клялся в повиновении морю, луне, усеянному звездами небу и берегу и молчанию, которое расстилало свою пустоту повсюду вокруг него. Что именно было ему велено делать, он не знал, но некое приказание доходило до него из ночи, и он был за это благодарен, и оно помогало ему стать лучше и не быть таким одиноким. Он чувствовал – не осознавая конкретных подробностей, – что стал охранителем невинности, незнания Бена и родителей и что об этом не известно никому, но это знает ночь. Он смутно чувствовал, что с помощью неких слов, которые, как он твердо знал, роятся где-то у него в голове, он почти что сумел натравить их друг на друга: они кричали и вопили один на другого и на него самого, так что если бы он сказал то, что мог сказать, они все пришли бы в ужас при одном только виде друг друга, и тогда начался бы страшный, чудовищный шум и грохот. Он должен оберегать их от этого знания, он знал это наверняка, он получил это знание, как воду, когда его томила жажда, с полным спокойствием во взоре, с полной внутренней сосредоточенностью и с удовольствием, со страстным желанием, которое было больше, чем просто знание.
И он вдруг почувствовал себя совершенно вымотанным. Сон валил его с ног, а он все стоял, держась за перила. Он вытянул руку дальше свеса крыши террасы и ощутил на ней лунный свет. Он не был теплым! И вот, омыв в нем обе руки, он попытался ощутить его теплоту и понять его структуру, но ощущение ничем не отличалось от ощущения темноты. Он поднес свои поцелованные луной пальцы к лицу, чтобы получше понять лунный свет, но от них не исходило никакого тепла. Он подался вперед и попытался перевеситься через перила, чтобы подставить лунному свету лицо, но не смог дотянуться. С отяжелевшими веками он неуверенной походкой спустился с низкого крыльца и направился к углу дома, где начинался пляж, и вышел из тени на открытое пространство, залитое лунным светом. Поднял глаза к небу, и свет ослепил его, и он внезапно сел, откинувшись назад, на напрягшиеся руки; потом локти подломились, и он лег на песок.
Краем уже меркнущего сознания он старался уловить лицом тепло, и постепенно ему это удалось. Сперва потеплели веки, потом переносица, потом рот, они ощущали на себе распространяющееся от лунного света тепло. Он увидел брата, потом папу, потом маму, увидел, как он расскажет им, какой он теплый, этот лунный свет! – и тут же услышал их смех: они смеялись над невозможностью чего-либо подобного, и их смех был как ворота, закрывающие ему путь в их мир, и даже когда он начал злиться и стыдиться и вспомнил, какие у него огромные, торчащие в стороны уши, он продолжал ощущать себя их защитником и охранителем. Он позволит им смеяться и не верить ему, но тайно, незаметно для всех, кроме глаз, что наблюдали за всем происходящим из моря, он – властью, данной ему его молчанием, – будет охранять их, беречь от всего плохого, от всякой беды. И вот, объединившись, слившись воедино с этим установлением, ощущая себя ответственным за неустойчивый мир, он заснул, наполненный мощью своей пастырской миссии.








