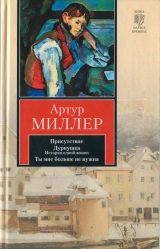
Текст книги "Присутствие. Дурнушка. Ты мне больше не нужна"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Высоко, в пустых пространствах гор, трава, которую они щипали нынче утром, в темноте распрямилась. Там, где трава была сочнее и гуще, где все еще было сыро от весенних дождей, уже начали исчезать отпечатки их копыт. Когда первый розовый проблеск зари следующего дня осветил небо, жеребенок поднялся и, как всегда на заре, отправился куда глаза глядят в поисках воды. Кобыла затопталась на месте, и ее копыта застучали по твердой глине. Жеребенок повернул голову и вернулся к ней, встав рядом с пустыми глазами, нюхая теплеющий воздух.
Мимолетная встреча с жокеем
Тут прямо как в самом шикарном салуне, это лучшая забегаловка в Нью-Йорке, верно? Тут даже в сортир не зайдешь, если у тебя из ушей не торчат стодолларовые купюры. Ты только погляди вон туда, на того седого бездельника и на его шлюху, он там надирается, чтоб выкинуть из башки память о собственной жене, а все для чего? Да чтоб покувыркаться с этой Сью, которой он в любом случае уже за все заплатил. Я их всех просто обожаю. И сам я навсегда связан с ними, с этим миром, с этой жизнью, со всеми этими подонками.
Я страшно рад, что мы сидим тут с тобой и разговариваем. Отчего это? А кто может сказать, отчего мы идем навстречу одним людям, а на других и внимания не обращаем? Я вот сейчас совершенно счастлив. Они ведь даже не могут должным образом оценить природу преданности и верности одного человека другому, она совсем другая, чем по отношению к женщине, это своего рода вызов. Вот я иной раз выигрывал на скачках, а иногда мне бывало стыдно, и все из-за того, что эта клятая лошадь у финишной линии заставила меня дрыгаться и дергаться, вместо того чтобы закончить дистанцию гордо и стильно. Я вот могу найти общий язык с любой лошадью гораздо лучше, чем обычно может любой другой сукин сын, но иногда тебе выпадает какая-нибудь кляча с перебитыми ногами, и ты трясешься на ней, прямо как траханая камбала в кузове грузовика без рессор. Ты ж скачешь на потеху другим ребятам, чтоб они тобой восхищались, твоим стилем. В прошлый раз на скачках в Аргентине я влетел в ограду, и потом меня всего собирали по кусочкам, скрепляли мне проволокой и винтами аж двадцать два перелома, и после трех месяцев в больнице я перестал получать цветы. Жокей, он как кинозвезда, свет в окошке для всех этих подонков, шлюхи пускают слюни и мусолят твое имя, которое у тебя словно на траханом лбу напечатано. Ни одного приличного человека вокруг. Ну, за исключением двоих парней, а в основном это мой Верджил, этот преданный мне сукин сын. Я за эту паскуду что хошь готов отдать.
Кто нынче понимает такие веши? Ходил я тут в прошлом году к этому доктору Хэйпику, такой милый старый хрен, весь такой церемонный, самый лучший, если верить тому, что про него говорят. Ну, улегся на эту раздолбанную старую кушетку, а он поискал вокруг, пошарил по мусорным корзинам и приносит мне программку скачек! Я-то уверен, что меня тут за гомосека принимают, потому что все так начинают думать, если все время крутишься среди мужиков, а тут нате вам, является этот хрен и начинает тебя пытать насчет шестого заезда и спрашивает, есть ли у меня знакомый приличный букмекер и все такое прочее. Я у него часа три проторчал, он не принял нескольких назначенных на прием пациентов, отказывал всем подряд, а когда я наконец убрался оттуда, он взял с меня всего за полчаса! Да откуда мне, черт побери, знать, кто победит?! Да я этого не знал, даже когда сам участвовал в скачках. Боже ты мой, да этого и сама лошадь не знает! И чего они всю дорогу с этим возятся, я хочу сказать, все анализируют? Все, кого я знаю, кто ходит на скачки, выходят оттуда сущими знатоками, прямо судьями! Надо, конечно, признать, все эти подонки – сплошь умники и умницы. Ну ладно, готов с этим смириться. Только, Господи, оставьте меня в покое, дайте мне помереть смеясь, коли уж мне пришло время помирать. Я уже готов. Если я свалюсь с сугроба прямо под колеса такси, вон там, на улице, то только обрадуюсь. Вот я люблю свою жену, восемнадцать лет на ней женат, и детишек тоже, только ведь всегда приходит время, когда надо подводить черту – где придется, когда придется, но пока еще есть свободное место в уголке, чтоб провести эту черту. А люди боятся это сделать, ты заметил это, так оно везде, где бы ты ни был. Они вот ставят такие маленькие точки, а черту подвести не могут. Нынче никто уже не знает, с чего сам он начинается и где кончается, это они вроде как чертили карту и засунули Чикаго в Латвию. Они больше ни за что не допустят, чтоб кто-то погиб из преданности и верности другому, – тут ведь ничего не сопрешь, не выгадаешь.
И что я вообще знаю, полуграмотный, с такими, как у меня, мозгами, растянутыми, как мехи аккордеона? Но одно я знаю хорошо – что такое стиль. Стиль во всем, в любой вещи. Самое главное – это не выиграть, а проскакать на траханой лошади, на которой никто другой не может удержаться. Вот на такой поганке и надо скакать! Чтоб остальные жокеи смотрели и знали, что эта гадина хочет тебя убить. Вот тогда все флаги начинают развеваться и все частицы твоего тела смеются. Вот я однажды отправился навестить своего папашу.
Я об этом никогда никому не рассказывал, да ты и сам знаешь, как я люблю рассказывать. Честно, никому не рассказывал. Я тогда делал эту передачу по телевидению, брал интервью у всяких поганых авторов про ихние книжки – идея была такая, что жокей вроде как способен читать то, что напечатано, и все это шло отлично, пока я однажды не влез в свой «ягуар» и не рванул в Мексику – просто уже не мог больше все это выносить. Я ничего не имею против воровства, наоборот, руками и ногами за, ноя против этих мелкотравчатых карманников, а эти авторы, черт бы их побрал, вовсе и не были хоть сколько-нибудь приличными писателями, но мне каждую неделю приходилось крутиться вокруг них, словно это какой-нибудь мощный призер-скакун прошел милю, ни разу не споткнувшись, да еще и со слепым жокеем в седле. Ну вот, как бы оно ни было, а однажды студия получает письмо из Дулута, штат Миннесота, и в нем спрашивается, не родился ли я во Франкфурте, штат Кентукки, и не звали ли мою мамашу так-то и так-то, и если все именно так и есть, то, значит, он, наверное, мой родной папаша. Нацарапано таким похабным стариковским почерком, будто он писал, трясясь на тракторе. Ну, я сажусь в самолет, а потом подъезжаю прямо к его дверям, а он, оказывается, маляр.
Я просто хотел на него поглядеть. Увидеть его собственными глазами. И вот он стоит, ему лет семьдесят, а может, все сто. Он нас бросил, когда мне был год. Я и не видел его никогда. Но всегда мечтал о нем, думал, что он какая-нибудь большая шишка, или, может, какой элегантный и классный вор, или, скажем, считается классным философом у себя там, в Кентукки, чем-то вроде Руссо, или, например, стильный малый, крутой со всякими красотками, думал, что он нас бросил и отправился на поиски фортуны. Ну, что-нибудь такое, интересное. А он – вот он, маляр. И живет в районе, где кругом одни ниггеры. Я, наверное, последний из таких, кто их терпеть не может. А один такой живет прямо по соседству с ним, нормальный вообще-то парень, и жена у него милая. И легко заметить, что они к нему хорошо относятся. Ну вот, стою я там и думаю: и зачем я только сюда приехал? Кто он такой? И кто я такой, если это мой папаша? Но самое похабное в том, что при этом я знаю, что мы с ним одной крови. Это точно так, как ты говорил: я сын своего отца. Я понимал это, хотя он был для меня полным чужаком. Мне просто хотелось что-то для него сделать. Что угодно. Я был готов положить за него жизнь. В конце концов, кто до конца может разобраться в этой ситуации? Может, это моя мамаша выперла его из дому. Кто может разглядеть, что внутри, когда видно только то, что снаружи? Ну, я и спрашиваю его, мол, чего ты хочешь?
Я, говорю, что угодно тебе куплю, могу это себе позволить, я как раз был при деньгах, это было после дерби. Он тоже был маленького роста, но не такой коротышка, как я, ну вот, а он и говорит, что трава у него на заднем дворе выросла такая высокая и могучая, что у него не хватает сил даже протолкнуть сквозь нее свою газонокосилку. И нет ли у меня такой газонокосилки, с приделанным к ней движком.
Ну вот, телефон я хватаю, и нам присылают целый грузовик разных косилок, всех типов. И он половину дня занимается только тем, что изучает и обследует каждую, а в итоге выбирает одну с мотором, который будет побольше вот этого чертового стола. И я ему ее покупаю. Мне уже надо было ехать, чтоб успеть на обратный рейс, потому что я обещал Верджилу, что буду в Сан-Педро и присмотрю за одной красоткой, которую ему пришлось оставить на целую ночь, так что я иду на задний двор, чтоб попрощаться. А он даже движок не выключил, чтоб поговорить нормально. Ну, я и оставил его там наслаждаться и радоваться новой игрушке, прыгая рысью по заднему двору вслед за этой траханой косилкой.
Господи, и когда это я успел так нажраться?! Вон те две шлюхи, что сидят напротив, всю дорогу смотрят на нас. Что ты сказал? Да какая разница, как они выглядят, они все одинаковые, я их всех люблю.
Пророчество
Некоторые зимы в этих краях почти непереносимы. К концу ноября на древние долины всегда опускается туман и никогда полностью не уходит отсюда до апреля. Иногда ночами он вдруг появляется на вершинах горного хребта, оставляя долины внизу чистыми и прозрачными, и никто не знает, отчего он так движется, но он и впрямь все время передвигается, иногда опускаясь на какой-нибудь конкретный дом, и висит там день за днем, а больше нигде не появляется. А в некоторые зимы солнце вообще как следует не выглядывает по два месяца подряд. И вокруг висит сплошная серая пелена, в которой тонут все виды и пейзажи, и с деревьев весь день капает, если, конечно, их ветки не покрыты скрипучим льдом.
В начале зимы, конечно, всегда есть надежда, что на этот раз она будет вполне приличная. Но когда день за днем и неделя за неделей все тот же монотонно задувающий ветер высасывает из дома все тепло и серо-стальная пелена на небе не рассасывается даже на мгновение, то сперва у стариков, а потом и у всех остальных понемногу начинает портиться настроение. В супермаркетах ни с того ни с сего возникают дрязги и склоки, на автозаправочных станциях завязывается смертельная вражда на всю жизнь, люди вдруг решают уехать и уезжают, причем навсегда, и всегда отмечается резкий рост совершенно необъяснимых дорожно-транспортных происшествий. Люди ломают себе руки, налетая на деревья, местоположение которых знают на память; всегда находится одна или две жертвы, которых переезжает их собственный автомобиль, вдруг скатившийся назад по подъездной дорожке; и от полного отчаяния принимаются решения, которые полностью меняют течение жизни множества людей.
К концу декабря в одну из подобных зим Стоу Раммел решил лично осмотреть и проверить, как развешаны его архитектурные наброски и как расставлены макеты на постоянной выставке его работ в одном из новых университетов Флориды, кампус которого он разрабатывал и проектировал несколько лет назад. В то время ему было за пятьдесят, он давно миновал этап становления и укрепления собственного авторитета и имени и утратил всякое стремление к дальнейшему их прославлению, и к этому времени прошло уже десять лет с того дня, как он зарекся заниматься преподаванием. У него больше не возникало никаких сомнений в том, как будут восприниматься его проекты и конструкции; теперь это всегда был сплошной безоговорочный успех. Теперь он уже не мог построить ничего – будь то частная резиденция в Пенсильвании или церковь в Бразилии – без того, что всем сразу становилось очевидно, что это построил именно он; и если его даже и прорабатывали то там, то тут за повторение все той же «воздушной легкости», это были столь фантастически причудливые, а иногда даже игривые здания, что спустя некоторое время признание публики душило все споры относительно их прочих достоинств. Стоу Раммел пользовался международной славой и признанием, в глазах иностранцев он был создателем истинной Американы, оригинальным дизайнером, чья изобретательная ребячливость в работе со сталью и бетоном становилась еще более достоверно-искренней под воздействием его личности.
Он почти тридцать лет прожил в том же самом каменном фермерском доме, с той же самой женой, что само по себе было примечательным ребячеством; он вставал каждое утро в половине седьмого, сам варил себе кофе по-французски, потом съедал свой корнфлекс и пил еще кофе, выкуривал четыре сигареты, читая воскресный выпуск «Гералд трибюн» и вчерашнюю «Питсбург газетт», потом натягивал высокие фермерские ботинки и шел по дорожке, увитой диким виноградом, в свою мастерскую. Это было невообразимо огромное здание со стенами, сложенными из дикого камня, из булыжников, многие из которых он свозил сюда в течение шести лет со всех континентов, пока работал геологом, занимаясь разведкой нефти. Обломки, оставшиеся от его несостоявшихся карьер в других областях, кучами валялись повсюду: гора проволочных клеток для мышей с того времени, когда он пытался стать генетиком, и микроскоп, брошенный боком на подоконник; вертикальные стальные колонны, прикрученные для прочности к голым потолочным балкам, с укосинами и кронштейнами в виде стальной паутины, торчащими в разные стороны; конструкции в виде каменной кладки на полу от времен, когда он изобретал этот чудовищный камин, дым от которого должен был проходить через весь дом, чтобы его было везде видно, на каждом этаже, сквозь проволочные решетки. Его папки с планами и чертежами, рабочий стол, чертежная доска и высокий табурет являли собой единственный островок чистого пространства среди всего этого хаоса. Во всех остальных местах лежали или висели, обращенные в видимые формы, его идеи – макеты, рисунки, десятифутовые холсты с монохромными изображениями, оставшиеся от тех дней, когда он занимался живописью, – а под ногами целый развал книг с изуродованными обложками, чьи внутренности выглядели так, словно их растерзал какой-то маньяк. Цепной привод от велосипеда, который он однажды использовал в качестве основы для дизайна эмблемы «Камден Сайкл компани», висел на веревке в одном углу, а над его столом, рядом с несколькими пыльными шляпами, болталась чистенькая пара роликовых коньков, на которых он иногда катался перед домом. Работал он всегда стоя, засунув левую руку в карман, как будто остановился здесь всего на минутку, набрасывая что-то с удивленным видом человека, наблюдающего за работой другого. Иногда он тихо фыркал на невидимого наблюдателя, стоящего рядом; иногда смотрел сурово и осуждающе, когда его карандаш рисовал нечто, вызвавшее его неодобрение. Все это создавало такое впечатление – если бы кто-то заглянул сюда сквозь одно из окон мастерской, – будто этот человек со сломанным носом, мускулистыми руками и мощной шеей просто сторож или уборщик, пробующий силы в хозяйской работе. Этот дух свободной непринужденности распространялся и на его небрежное отношение к собственным вещам, и посторонние люди часто принимали его за свидетельство того, что ему все это наскучило или просто надоело рутинно повторять одно и то же. Но ему вовсе не было скучно; он достаточно рано, еще на начальном этапе своей карьеры, нашел собственный стиль и считал удивительным явлением, что мир им восхищается, и никак не мог понять, почему должен этот стиль менять. Есть же, в конце концов, на свете такие счастливчики, которые все выслушивают, но умеют слышать только то, что хорошо для них, а Стоу, если судить по сложившейся ситуации, был именно таким счастливым человеком.
Он вышел из дому на следующий день после празднования Нового года, надев толстую куртку и меховые перчатки из овчины, но без шляпы. Во Флориде он будет щеголять в этом же наряде, несмотря на то что его жена Клеота не раз напоминала ему в последние пять дней, что следует взять с собой что-нибудь полегче. Так что когда они прощались, она пребывала в раздраженном настроении. И когда он уже сидел, согнувшись, за рулем своего универсала и ощупывал отворот брючины в поисках ключа зажигания, который уронил за секунду до этого, она вышла из дому в накинутой на голову огромной румынской шали, которую купила в этой стране во время одной из их поездок за рубеж, и сунула ему в окно чистый носовой платок. Обнаружив наконец ключ под ботинком, он завел мотор, и пока тот прогревался, он повернулся к ней. Она так и стояла в истекающем каплями влаги тумане, и он сказал:
– Холодильник разморозь.
Он заметил удивление на ее лице и рассмеялся, словно это было самое забавное выражение, какое он когда-либо у нее видел. Он так и продолжал смеяться, пока она тоже не засмеялась. У него был низкий голос, в котором явственно слышались отзвуки хороших и вкусных блюд, которыми она его кормила, и хорошего чувства юмора; взрывной смех, который полностью отражал его настроение. Он всегда усаживался поудобнее, когда смеялся. Когда он смеялся, то ничто иное для него не существовало. А она словно была создана для того, чтобы снова влюбиться в него сейчас, стоя на этой разъезженной подъездной дорожке, в холодном тумане, и бесясь оттого, что он уезжает, хотя это вовсе не нужно, бесясь оттого, что они состарились и что жить им, кажется, осталось не более недели. Ей было теперь сорок девять – высокая, сухопарая женщина хорошего происхождения, с суровым узким лицом, несколько напоминающим колокольню или какое-то другое архитектурное сооружение, предназначенное в давние времена для непрерывных молебствий. Ее густые брови четко выделялись на лице, образуя две линии, то и дело поднимавшиеся к высокому лбу и огромной массе каштановых волос, падавших ей на плечи. Ее серые глаза смотрели немного подслеповато, их выражение походило на взгляд испуганной лошади; такой взгляд обычно бывает у некоторых женщин, появившихся на свет в самом конце длинной генеалогической линии семейства, давно порвавшего с деланием денег, но, помимо всего прочего, в целости сохранившего свои владения и богатства. Сама же она была до крайности неопрятна и неаккуратна, когда простужалась, целый день сморкалась в один и тот же носовой платок и носила его при себе, насквозь мокрый, болтающимся у пояса, а когда занималась садом и огородом, есть садилась, не помыв руки и ноги. Но когда начинало казаться, что она уже полностью погрязла в бездарной грязной пейзанской возне, она вдруг являлась чисто вымытая и причесанная, глубоко вдыхая воздух, и ее руки, пусть и с обломанными ногтями, спокойно ложились на край стола с утонченной деликатностью – так сказать, милость природы и длинной генеалогической линии – и в тот же миг всякому становилось ясно, насколько яростно и свирепо она горда и сколь непреклонна в отдельных вопросах личного свойства. Она даже разговаривала иначе, когда была чисто вымыта, вот и сейчас она вымылась к его отъезду, и ее голос звучал ясно и довольно резко.
– Бога ради, поезжай поосторожнее! – крикнула она, все еще пытаясь сохранить несколько иронический тон в своей обиде на его отъезд. Но он не услышал, он уже сдавал машину задом по подъездной дорожке и крикнул «би-би» пеньку, мимо которого проезжал, тому самому пеньку, на который за последние тридцать лет неоднократно налетали машины многих гостей и который он постоянно отказывался выкорчевать. Она стояла, натягивая шаль на плечи, пока он не вывел машину на дорогу. Потом, когда машина остановилась, нацелившись радиатором на спуск с холма, он посмотрел на нее сквозь стекло бокового окна. Она уже поворачивала к дому, но его взгляд заставил ее остановиться, и она застыла на месте в ожидании того, что вроде бы обещал его взгляд: прощальных слов без всяких шуточек. Он иногда смотрел на нее как бы изнутри себя, подумалось ей, и этот взгляд всегда поражал ее, даже теперь, когда его не поддающиеся щетке волосы стали желтоватыми, а дыхание с трудом вырывалось из прокуренных и забитых никотином легких, – взгляд длинного и сухопарого юнца, от которого она, как оказалось, никак не могла оторваться однажды в Лувре, в тот судьбоносный четверг. Сейчас же она держалась сухо и строго, но была готова снова рассмеяться, и, конечно же, он ткнул в ее сторону указательным пальцем, снова проблеял: «Би-би!» – и с ревом растворился в тумане, причем его нога явно удивила его самого той внезапностью, с какой надавила на акселератор, точно так же, как всегда удивляла его собственная рука, когда он работал. Она пошла назад к дому и скрылась там, ощущая это свое возвращение, чувствуя в опустевшем доме некие открывающиеся новые возможности. Любое расставание – это немного смерть, она это знала и поэтому тут же выбросила эту мысль из головы.
Она очень любила всякие вечеринки, на которых всегда разговаривала, танцевала и выпивала всю ночь напролет, но ей всегда казалось, что остаться в одиночестве, особенно в одиночестве в собственном доме, – это самая реальная часть жизни. Теперь она могла выпустить из клеток трех попугаев, не опасаясь, что на них кто-нибудь наступит или что Стоу выпустит их, оставив открытой одну из дверей; теперь можно было стереть пыль с комнатных цветов, а затем устроить себе внезапный перерыв и выбрать какой-нибудь старый роман и почитать, начав с середины; поимпровизировать на арфе, наигрывая ча-ча-ча; и в конце концов – и это было самое лучшее – просто посидеть у дощатого стола в кухне с бутылкой вина и газетами, читая объявления вместе с новостными сообщениями, никак не реагируя на это сознанием, но позволив душе зависнуть над всеми желаниями и устремлениями. Именно так она сейчас и поступила, довольная тем комфортом и спокойствием, который навевали туман за окном, царившая вокруг тишина и темный вечер, который уже подкрадывался.
Она уснула, облокотившись на руку и слушая, как поскрипывает дом, словно живет своей собственной жизнью все эти свои двести лет, слушая попугаев, шуршащих чем-то там в клетках, и изредка трепет крыльев, когда один из них опускался на стол и начинал ходить по газете, чтобы затем усесться на сгибе ее руки. Каждые несколько минут она на мгновение просыпалась, чтобы обозреть свое одиночество: да, Стоу едет себе на юг, оба мальчика далеко, у себя в школе, и на плите ничего не подгорает, а Лукреция приедет на ужин и привезет с собой троих своих гостей. Потом она заснула, снова совсем внезапно и так глубоко, как больной, измученный лихорадкой, а когда проснулась, было темно, и в ее глазах снова была ясность. Она встала, пригладив волосы и разгладив одежду, чувствуя благодарность за эту обволакивающую темноту за стенами и, помимо всего прочего, за отсутствие необходимости отвечать, реагировать, даже ожидать, что Стоу вот-вот войдет или выйдет, и тем не менее теперь, начав возиться у плиты, она бросила короткий взгляд в возможное будущее без него, будущее в одиночестве, как сейчас, и от внезапной боли у нее закружилась голова и она обнаружила, как ей тяжело дожидаться, когда Лукреция явится наконец вместе со своими гостями.
Она прошла в гостиную и включила три лампы, затем вернулась в кухню, где зажгла верхний свет и повернула выключатель, включив прожектора, укрепленные на сарае во дворе и освещавшие подъездную дорожку. Она понимала, что ей сейчас страшно, и внутренне посмеялась над собой. В конце концов, они еще очень молоды и совершенно не готовы к окончательному расставанию. И как это могло случиться, что прошло уже целых тридцать лет? – подумалось ей. Но все именно так – девятнадцать плюс тридцать будет сорок девять, и ей уже исполнилось сорок девять, а замуж она вышла в девятнадцать. Она все еще стояла с бараньей ногой в руках, натирая ее приправами, и вдруг совершенно внезапно почувствовала тошноту, а потом в душе поднялся гнев, жажда насилия, отчего ее бросило в дрожь. Тут она услышала, как открылась задняя дверь, и сразу же пошла к ней через кладовку; она знала, что это должна быть Элис.
Пожилая женщина уже вошла и теперь негнущимися побелевшими пальцами расстегивала плащ.
– У меня с телефоном что-то стряслось, – сказала она, сразу же подтвердив, что явилась сюда за помощью, а вовсе не с целью навязать свое общество.
– И что ты будешь делать? – спросила Клеота, не двигаясь с места посреди кладовой и закрывая таким образом собственным телом доступ в кухню. Внезапная вспышка гнева удивила даже ее самое; она никогда не осмелилась бы перекрывать гостье доступ в дом, если бы Стоу был здесь, и ее всю пробирала дрожь от этой агрессивности по отношению к его старухе-сестре.
– Да, наверное, надо в телефонную компанию сообщить? – сказала Элис, уже самим тоном демонстрируя, что она распознала выставленный перед нею внешний барьер, но вовсе не намерена уходить сразу.
– Ну конечно, ты можешь воспользоваться нашим телефоном, – ответила Клеота, повернулась спиной к старухе и вернулась в кухню к бараньей ноге.
Элис, в резиновых сапогах почти до колен и резиновой рыбацкой шляпе с провисшими полями, добралась до телефона и, держа трубку подальше от уха и мигая выцветшими глазками, живо проинспектировала всю кухню, пока дожидалась ответа оператора. Между аппаратом и ларем для муки стояла маска с островов Фиджи – длинное резное лицо. Она с отсутствующим видом повернула маску вбок.
– Элис, пожалуйста, не трогай!
Старая дама резко обернулась, явно шокированная, так что ее широкополая шляпа съехала набок и косо повисла на голове. Клеота с надувшимся от напряжения лицом склонилась перед плитой и поставила блюдо в духовку.
– Но она криво стояла, лицом к стене, – стала объяснять Элис.
Клеота выпрямилась, щеки ее покраснели. На дом обрушился порыв ветра, и от удара он весь задрожал.
– Я не раз просила тебя ничего здесь не трогать, Элис. У меня сегодня гости, и мне еще кучу дел надо переделать. Так что будь любезна, делай, что тебе нужно, и дай мне закончить начатое.
Она пошла к холодильнику, открыла его и встала, полусогнувшись и заглядывая в него, пытаясь сосредоточиться на том, что ей нужно оттуда достать.
Старуха положила трубку:
– Твой, мне кажется, тоже не работает.
Клеота не ответила, по-прежнему стоя перед открытым холодильником, не в состоянии ни о чем думать.
С минуту они стояли, ожидая друг от друга продолжения, – так у них не раз бывало с тех пор, как Элис девять лет назад переехала в другой дом, дальше и ниже по дороге. Потом старая дама повесила плащ, и ее водянистые глазки с голодным выражением обежали всю кухню, словно отыскивая какую-нибудь новую деталь обстановки, которую она, может быть, раньше не замечала. Ей и не приходило в голову спросить, в чем дело, и не потому, что ей это и так было понятно, но потому, что она давно воспринимала как должное, что эта женщина ее ненавидит той беспричинной ненавистью, которую ничто и никогда не уничтожит. В автобиографии, над которой она трудилась каждый день – в плохую погоду на кухне, в хорошую – в саду за домом, под яблоней, – она разрабатывала собственную классификацию человеческих типажей, неменяющихся личностей, созданных доисторическим духом, каждый из которых имел функциональное предназначение испытывать остальных, точно таких же, неменяющихся. Клеота, согласно ее концепции, была из категории Вечно Недовольных. Она не винила Клеоту за такой склад личности; она даже жалела ее, понимая при этом, что ни слова, ни дела никогда не смогут умерить ее жажду иметь противника, врага. Клеота, подобно многим другим извращенным и непостижимым феноменам, была Неизбежностью.
Элис продолжала топтаться возле двери из кухни в кладовку. Слишком быстро она не уйдет. По ее глубокому убеждению, она имела полное право быть приглашенной на сегодняшний ужин; несомненно, ее пригласили бы, если бы Стоу был дома. Кроме того, она была голодна, пропустив нынче ленч, а несколько кусочков, что она проглотила за день, едва ли могли заменить готовящуюся еду. А если тут ожидаются еще и мужчины, они непременно – как всегда бывало прежде – заинтересуются ее мнениями и взглядами, судя по тому, что многие из гостей брата говорили ему после встреч и бесед с нею.
Она прошла до двери на задний двор и обернулась к невестке:
– Доброй ночи.
Голос ее дрожал от обиды, мешая говорить, и первые же его звуки заставили Клеоту застыть на месте; она едва повернула голову, чтобы ответить на слова прощания. Элис взялась за ручку двери. На языке у нее вертелся вопрос, и она попыталась его задавить, прежде чем он выскочит, но было поздно: она услышала, как спрашивает:
– А кто у тебя нынче будет?
Половник, который Клеота держала в руке, ударился о плиту, упал и покатился по полу.
– Элис, да тебе-то какое дело? Ты же прекрасно знаешь, что я имею в виду, так что нечего вокруг этого разговоры разводить.
Старая дама качнула головой, повернула дверную ручку и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь.
Клеота подняла половник и замерла на месте, вся дрожа. Дом опять не принадлежал ей одной, не был ее безраздельной собственностью. Негодование, вызванное этим непрошеным визитом, заставило ее скрипнуть зубами; Элис было прекрасно известно, что если ее телефон не работает, их аппарат тоже не действует, поскольку они подсоединены к одной линии. Она явилась просто для того, чтоб продемонстрировать свое право на свободу передвижения в данном помещении, чтобы лишний раз показать, что Стоу прежде всего ее младший братик, чем бы он теперь ни стал и на ком бы он ни был женат.
Клеота, которая не верила ни в какого определенного бога, невольно посмотрела на потолок, жаждая заполучить ухо, которое бы ее услышало, и прошептала: «И почему она все никак не умирает?» Элис, в конце концов, было уже семьдесят три, и она уже ничего собой не представляла, один только запах, пара водянистых глазок и, помимо всего прочего, сжатая властная пружина, спрятанная в доме, который Стоу купил для нее, когда умер ее муж. Сейчас она чувствовала, как это нередко с нею бывало, что эта старуха продолжала жить лишь для того, чтобы тайно подсмеиваться над нею. Она, конечно, понимала, что это совершенно абсурдная мысль; эта женщина сумела выжить после падений на льду, сломанного бедра, простуд и воспаления легких прошлой зимой, потому что хотела жить для собственного удовольствия, но это упрямое нежелание сдаваться для Клеоты было чем-то неприличным, как если бы у этой старухи было нечто незаконное в ее непреклонном устремлении к продолжению жизни, которое никогда не исчезнет.
Клеота подошла к фиджийской маске и повернула ее так, как она стояла прежде, словно это могло отменить вмешательство Элис. Она прикоснулась к тяжелому темному дереву, и ее палец замер на грубо вырезанном месте под нижней губой. Оно всегда напоминало ей бородавку и делало маску как будто живой, а прикосновение к этому месту вызывало воспоминание о руках отца, державших ее, когда он ее ей дарил. Каким бы он ни был бездарным, этот человек, он прекрасно знал, как исчезнуть из жизни людей, которым он уже ничем не мог помочь. Теперь она ощущала даже растущую гордость за своего папашу; всю жизнь он с идиотским чувством собственного достоинства организовывал эти безумные экспедиции, читал не те книги, увлекался уже вышедшими из моды антропологическими теориями, плавал к каким-то безвестным островам, тратил годы на изучение племен, уже давно исследованных и каталогизированных, и преуспел лишь в том, что забил дома своих детей разнообразными дурацкими сувенирами, привезенными из Южных морей. Однако теперь, когда он уже никогда не вернется, она разглядела в его жизненной истории некую скрытую цель, к которой он, как ей ныне казалось, должно быть, всегда тайно стремился. Это было его желанием – всячески декларировать и демонстрировать собственную пустоту и бессодержательность, что он и продолжал делать до самого своего идиотского конца, когда ему захлестнуло веревочной петлей лодыжку и он упал, уйдя лысой головой в воду. Так его и обнаружили – висящим за бортом его шлюпа на внешнем рейде Сан-Франциско. И как странно, что этот идиот постепенно превратился – для очень многих, помимо нее самое, – в весьма уважаемого человека! И это вовсе не было неправильным, думала она. У него была страсть, а это, как она теперь понимала, решало все.








