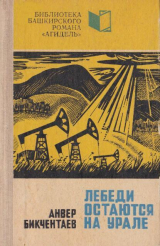
Текст книги "Лебеди остаются на Урале"
Автор книги: Анвер Бикчентаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
К ней можно пройти по улице, а еще лучше – через огороды. Быстрее и удобнее: никто не заметит.
За углом под двумя березками вырисовываются знакомые очертания избы, маленькой и уютной. Вот здесь должна стоять грубо сколоченная скамейка. Камиля приходила сюда на свидание, мелькая в темноте белой шалью. Она всегда спешила: на свидание и со свидания.
Буран крадучись подошел к окну. Если даже Камиля не одна, он все равно зайдет к ним. За столом сидели братья Камили, близнецы, подросшие за эти годы. Перед ними лежали учебники. Неродной ее отец возился с хомутом, мать растапливала печку, а Камили не было в избе. Неужели она не дождалась Бурана и пошла к ним? Наверно, разминулись.
Под ногами хрустнул снег. Старик повернулся к окну. Буран отпрянул назад – не хотел, чтобы его узнали. Скажут, под чужими окнами ходит, как мальчишка. Раздражающе заскрипела, точно застонала, калитка, и в соседних дворах залаяли собаки.
Вернувшись домой, Буран прошел прямо в женскую половину.
– Чего тебе, сынок? – обернулась к нему обрадованная мать. – Спасибо, что заглянул.
Женщины с любопытством посмотрели на него. Среди них не было Камили. И снова мать отвела затуманенные глаза. Что она знает и не решается сказать ему?
В его отсутствие появились новые гости. Особенно Буран обрадовался Хайдару, своему другу.
– Как только узнал о твоем возвращении, сразу же махнул к тебе, – проговорил Хайдар. – Гуляли мы… Взял гармошку и смылся.
Друзья обнялись.
– Где пропадал, вояка? – прогудел Ясави.
– Разве я не рад Бурану? – кричал Галлям. Он успел уже опрокинуть не одну касу[6]6
Каса – глубокая чаша.
[Закрыть]. – Почему я должен молчать, я вас спрашиваю?.. Хочу – пью, а хочу – пляшу. Сердце мое переполнено, вот что!
Буран потянул Хайдара за рукав. Тот быстро смекнул, в чем дело.
– Гармонь захватить?
– Оставь пока. Посидим на завалинке.
Тихая апрельская ночь встретила их мерцанием звезд, словно подмигивавших друзьям. Буран невольно сравнил родное карасяевское небо с тем, что оставил там, на севере. Совсем не похоже. Даже звезды не те…
Степенная семья Большой Медведицы застыла над баней, а Малая, казалось, примостилась на березах. Упала далекая неизвестная звезда, наискось прочертив небо.
– Соскучился по аулу, – сказал Буран. – Тут все свое, родное. Вот, к примеру, я проехал через весь Уссурийский край. Виноград разводят, рис выращивают и живут богаче нас. А все же не хотел бы я там жить. Ну, понимаешь, и воздух у нас другой, и тишина своя, особенная, и даже коровы как будто мычат не так… Тебе, может, кажется это смешным…
Хайдар закурил и ответил:
– Соскучился, говоришь? Служба в армии – не малый срок. Многое у нас изменилось за это время. При тебе еще не было колхоза. В прошлом году, почти перед посевной, сколотили его. Много было мороки с землей, лошадьми, инвентарем. С непривычки, что ли, ничего толком не получалось. Галлям три раза выходил из колхоза и три раза возвращался. То он не хочет, а жена просится в колхоз, то наоборот. А без кузнеца какой же колхоз? До сих пор они, кажется, окончательно не решили, как им быть… Два раза амбары с семенами горели. Ладно, из района помогли. А самое смешное приключилось осенью. Не знали, как раздавать доход. Решили было по едокам, да ведь не все же в семье работали. Сошлись было на том, чтобы платить по работе, у кого сколько трудодней, опять не получилось – не все одинаковый пай внесли. Одни в колхоз передали по два коня или машину, а такие, как я, кроме своих рук, ничего. На одиннадцатом собрании дело чуть до драки не дошло. Смешно и обидно рассказывать. Единоличники управились раньше нас, и без собраний обошлось. Там все ясно, а у нас одни споры и никакого толку. Ну и натерпелись же мы!
– И как же порешили?
– Поделили по работе: как кто трудился. И взносы, конечно, учли. Вот теперь на носу вторая весна. Ты в колхозе останешься?
После службы многие товарищи Бурана завербовались на стройки – кто в Сибирь, кто в Донбасс, кто на Урал. Теперь везде строят. Бурану тоже предложили поехать на курсы монтажников, а потом – на любую стройку. Да потянуло домой. Куда пойти, он еще не решил. Может быть, и в колхозе останется.
Тем временем Хайдар подробно рассказал о событиях, которые произошли в отсутствие Бурана. Вспомнил он и про Хадичу, родившую трех близнецов.
– Здоровые, живут себе. Бабы пособили молочком. Все смеялись: колхозные ребята, общие! Булат, сын муллы, – помнишь, вместе учились в школе? – стрелял в уполномоченного. Поймали, осудили. Твой двоюродный брат Сагит поехал в Уфу учиться на агронома. Ясави так и говорит: «Свой агроном будет!» Богатеев выселили. Да кое-кто еще остался, мутят народ. В ауле, как и по всей округе, неспокойно. Сам знаешь, у многих сохранилось оружие еще с гражданской…
Буран не дал договорить, погасив папиросу, спросил:
– Не женился еще?
Хайдар с удивлением взглянул на друга.
– Есть одна девушка на примете…
– Не секрет кто?
Хайдар попыхтел папироской, зажег другую.
– Наша, карасяйка?
– Ты ее знаешь… Помнишь Зифу с Нижней улицы? Ее мать – портниха, Айхылу!
Буран почему-то не стал рассказывать о сегодняшней встрече на дороге, только спросил:
– За чем же дело встало?
– Непонятная она какая-то… Неровная у нее душа. То ласковая, то замкнется, силком слова не вырвешь. А то еще насмехаться начнет. Без нее мне будто воздуху не хватает. Коня могу повалить – такая во мне сила, а останусь с ней один на один – слова не могу сказать. Или ни с того ни с сего начинаю нести всякую чепуху. Она удивляется, но терпит: видит, что мучаюсь. И все-таки, кажется, любит…
Женская компания пировала весело. Запевала Айхылу, сочный голос ее вырывался из окна, и песня летела в весеннюю ночь.
– Ее мать. Славно поет! – заметил Хайдар. – А Зифа еще лучше.
Среди пьяных голосов можно было различить гортанные выкрики Галляма.
– Всегда он буянит, – усмехнулся Хайдар.
Все выше и выше забирается голос певицы. Песня навевает грусть.
– Почему ты ничего не говоришь о Камиле?
Хайдар бросил папироску, поднялся. Потянулся за толстым сучком, который торчал над головой. Сучок треснул.
– Ее увез Хамит, – глухо отозвался Хайдар.
– Увез? Хамит?
Нелегко было Бурану произнести эти слова. Хайдар заговорил сердито, точно в этом виноват был прежде всего он сам:
– Никто из нас ничего не знал. Сегодня он прискакал верхом, черт знает, как он там выкрутился. Ему повезло, что не умер пастух. Врачи спасли… Прискакал, посадил Камилю на телегу и увез в горы. Одни говорят, будто к родственникам, другие – в леспромхоз. Никто толком ничего не знает. И почему вдруг Камиля с ним поехала? Ничего не понимаю.
Ах, вон оно что! Значит, Хамит не зря насмешливо разговаривал с ним, не зря ставил коня поперек дороги…
Хайдар скорее ощутил, чем увидел, как опустились могучие плечи друга. На какой-то миг Буран потерял почву под ногами, как тогда, во время бури, когда его нашли без сознания на каменистом берегу…
Голос деревенской портнихи то разносится далеко, то затихает, как крик улетающей вдаль головной птицы в стае журавлей. Песня бесхитростно рассказывает о путях-дорогах джигита. Буран в эту минуту так же одинок, как этот грустный голос певицы. Да, совсем один…
Он шумно вздохнул и с усилием поднялся. С нижней улицы донеслись шаловливые звуки гармошки. Заскрипел вздернутый к небу журавль – видно, молодайка засветло не успела запастись водой. Беспокойным блеянием откликнулись овцы.
Хайдар мягко обнял друга за плечи:
– Пошли, Буран, к девчатам.
Буран снял с плеч его руку, круто повернулся и отошел от друга. Открыл ворота, молча свернул направо. Хайдару хотелось броситься за ним, остановить его. Он понимал, что Бурана в эту минуту нельзя оставлять одного…
Буран шел шатаясь, невидящими глазами глядя перед собой, не понимая, куда и зачем он идет. Дворняжки кидались ему вслед, яростно хватали за полы шинели.
Злой насмешкой казалась ему сейчас веселая песня, долетавшая из родного дома. Буран прибавил шаги, чтобы поскорее уйти от этой преследующей песни. А песня все летела и летела в весеннюю ночь, догоняя его.
На перепутье
1
Серый силуэт окна лег на стену. Буран потянулся к карманным часам, подарку командира части. Шесть ноль-ноль. Улыбнулся. В это время в полку побудка. А тут все тихо. Не шумит старшина: «Сонное царство, в штыки!» Солдатские сапоги не громыхают в коридоре. Буран не торопится занять свое место в строю. Он всегда стоял третьим: два парня из-под Ростова были выше его.
Тишина. Только петух кричит-разоряется. Наверное, такой же драчун, как и прежний. А вот и еще один пропел, и еще… Догадайся тут, чей петух будит аул.
Двухэтажная казарма, серое и низкое небо, придирчивый старшина, утренняя политинформация, пароходы, которые так долго не доставляли писем, – все это далеко позади. Было это все или не было?
Подумать только, командир отделения утопает в мягкой перине! За такую перину старшина влепил бы минимум трое суток наряда вне очереди. Пришлось бы ребят кормить картошкой собственной чистки! А командир взвода, наверно, еще добавил бы…
Стало немного грустно. Конечно, всякое бывало: и ругали и в наряд посылали, а все же все как родные стали.
Под нарами шуршит еж, заменяющий в доме кота.
Бурану вспоминается вчерашний день. Он занялся было крыльцом – ноги на нем можно поломать. Срубил старые стойки, выкинул ветхие доски и присел покурить. Папироса зажигалась за папиросой, а топор и рубанок так и оставались лежать на земле. Дума была не о них. Мать тревожно поглядывала в окно на сына. Наконец материнское сердце не выдержало, Танхылу вышла на крыльцо.
– Ведь это не к спеху. Ты отдохнул бы сначала. Сходил бы к товарищам, погулял…
Буран, чтобы скрыть душевную смуту, улыбнулся.
– Успею еще погулять. Сначала вот крыльцо починю.
Мать не поверила сыну. Он чего-то недоговаривает. Сердце ее сжалось. Танхылу робко спросила:
– Здоров ли ты?
– Пока что грех на здоровье жаловаться.
…Все идет своим чередом. День сменяется ночью, дума – думой. Вот и еще один день прошел в родном ауле, наступило утро. Чуть заиндевевшие стекла окон посветлели. Пора вставать, старое крыльцо тебя дожидается. Новый забор надо поставить. Дела много, только поспевай.
Натянув хромовые сапоги, почистил их маленькой походной щеткой, натер куском красного бархата, который хранился в вещевом мешке. Сапоги блестят. Теперь и в строй стать не стыдно. Даже командир полка не смог бы придраться.
Накинув шинель, Буран бесшумно открыл дверь, боясь разбудить стариков, спавших чутким сном в другой половине избы.
Лицо и открытую шею обдало свежим ветерком. На дворе шел снег, вероятно последний. Большие белые хлопья лениво ложились на землю.
В детстве, когда шел снег, Буран наивно думал: это над Карасяем летят несметные стаи гусей и роняют свой пух над аулом. Память живо нарисовала другую картину. Падают такие же хлопья снега на плечи, на платок Камили. Тогда они были еще подростками. По щекам Камили текли слезы. Отца ее, налогового инспектора, члена какой-то крестьянской комиссии, человека молчаливого и смелого, нашли в колодце. Ушел из дому и не вернулся. Два дня пролежал в колодце!
Буран помнит, как снял шапку и протянул ее Камиле. Он сам, когда плакал, вытирал слезы шапкой. Мягкая, теплая, она приносила успокоение.
Сердито сняв шинель, Буран повесил ее на сучок. Что прошло, того не вернешь… В шесть десять солдаты занимались гимнастикой. «Ну-ка, браток, вспомним старое. Руки на уровне плеч, ноги вместе! Делай: раз, два, три, четыре…»
Взглянув налево, он увидел – за ним следят. Три курносые девчонки выглядывали из-за забора. Вот еще не хватало! Девчонки живо разнесут сплетни по аулу. Еще, чего доброго, подумают, что солдат молится на улице. Старики, мол, дома на коврике, а этот дядя – на улице, на снегу. Вряд ли кто-нибудь, кроме него, занимается в ауле гимнастикой…
Буран пошел на огород, за сарай. Оглянулся: нет ли еще кого?
И снова стал считать: «Раз, два, три, четыре…»
Пять минут – бокс, два – прыжки на месте. И опять Буран почувствовал на себе чей-то взгляд: за ним украдкой следила соседка-молодайка.
Ну и пусть смотрит! Буран не станет менять своих армейских привычек.
Наконец-то он дома. И не на побывке, не по отпускному удостоверению приехал, а навсегда. Буран прошелся по двору, оглядел все хозяйским глазом. Нет, починку нельзя откладывать. Он прикинул. На баню пойдет кубометра два полудюймовых досок. Доски нужны и на ворота. Да еще придется привезти два столба. А с крышей можно подождать и до осени.
Завтракал Буран вместе с отцом. Танхылу с утра понесла молоко на сепаратор. Закир, вытирая бисеринки пота, выступившие на лбу, поднес сыну стакан самогонки:
– Чтоб голова не болела!
Глаза у старика довольные, веки припухли. Пьет он залпом – опрокинул стакан и проглотил. А когда подвыпьет, любит философствовать – все карасяевцы на один лад.
– Можешь еще отдохнуть, сын. Сеять начнем не раньше чем дней через десять. Еще земля не согрелась. Осенью первый колхозный хлеб получили. Можно продать часть, если затеешь свадьбу.
Сын покачал головой.
– Каждой ягоде свое время, отец. Не успел переступить порог, а ты уже о свадьбе хлопочешь. Торопишься.
Закир налил себе и сыну по второй.
– Дело отца посоветовать. Не хочешь, подождем до осени, до нового урожая. Разумно поступаешь, значит, не забыл наш обычай. Весной день год кормит, лето – страда, осень – свадебное время.
– Про зиму говорят: «Лошади нет в сарае – заботы нет в метель!»
Старик засмеялся.
– Одним словом, сам решай. Недостатка в невестах нет, в чужой аул не придется ехать за ними. Вот одна из них сама бежит.
В избу вошла Магира, дочь Ясави. Буран приметил еще в первый вечер эту высокую, ладную девушку. Смело взглянув на Бурана, неторопливо, с достоинством – чувствовалось, что знает себе цену, – она, стоя у порога, сказала:
– Отец просил передать: вечером ждем вас к себе. – Немного помолчав, добавила: – Обязательно приходите!
– Стоило ли беспокоиться? Подумаешь, какая важность, сын вернулся! Передай отцу спасибо, придем, – степенно ответил Закир.
Девушка ушла, оставив в комнате запах цветочного одеколона.
Немного погодя отец, собираясь на работу, спросил:
– Чем займешься сегодня?
– Поброжу немного.
Побрившись, почистив пуговицы шинели, пришив чистый подворотничок, Буран вышел из избы.
Снег все еще валил, покрывая чистой пеленой грязные сугробы, засыпая узкие пешеходные тропинки и дорогу, на которой уже не было видно санных следов. Снежные хлопья таяли на щеках, облепляли ватой плечи. Теплый ветер гнул столбы дыма.
Конечно, первыми, кого встретил Буран, были дети.
– С приездом, дядя Буран! – приветствовали они недружным хором.
Собаки, поджав хвосты, ворчали: запах ваксы им не знаком. Ничего, привыкнут.
Галлям, выглянув из кузницы, помахал голой до локтя рукой.
– Забегай вечером, желанным гостем будешь!
Приглашали все, таков обычай в Карасяе, гостю каждый рад. Невесело в доме, где не бывают гости.
Буран шел, придирчиво приглядываясь к избам. По письмам, которые он получал, можно было подумать, что Карасяй неузнаваемо изменился. Отец подробно описывал каждое приобретение колхоза, каждую новую постройку.
А посмотришь – почти все по-старому. Вот только правление колхоза в новом здании, но, пожалуй, и его нельзя считать новым – собрали из кулацких домов. Вот виднеется коровник, его не было раньше. Появился трактор, несколько жаток. И все-таки отец преувеличивал… Но чего же ты хотел, ведь только начали работать вместе! Буран остановился перед двумя добротными избами с заколоченными окнами. Жили в них братья Сабир и Салих, середняки. Они не захотели жить в колхозе. Хайдар говорил – на стройку подались.
Буран свернул в клуб. Раньше библиотекой заведовала Камиля. Она узнавала шаги Бурана, когда он еще поднимался по ступенькам лестницы, и смущенно выходила навстречу.
Не легко теперь открыть эту дверь в библиотеку. Сохранилось еще объявление на куске фанеры: «Помни, в библиотеке два раза в неделю моют полы!» Его писал Буран перед уходом в армию. Здесь ничего не изменилось: книжные полки у стен, на столе деревянная чернильница, украшенная резной фигуркой медведя с отломанной головой, и географическая карта осталась на старом месте – между окнами.
У книжного шкафа стоял чернявый парень. Ба, Кабир собственной персоной!
– Доброе утро!
– А, Буран, с приездом! Слышал, слышал, что ты вернулся.
Буран протянул руку.
– Давно перебрался сюда?
– Клубом, конкретно, заведую с тех пор, как избрали секретарем ячейки, а в библиотеке недавно – после того, как сбежала Камиля…
Зачем это он сказал, нарочно или просто так?
– Теплое местечко, ничего не скажешь.
Избач пожал плечами.
– Пришел на учет становиться? Документы в порядке?
Буран протянул комсомольский билет, но предупредил:
– На учет погожу еще… Может быть, уеду на стройку.
Кабир долго вертел в руках комсомольский билет. Для чего-то развернул бумагу, в которую была завернута книжица с силуэтом Ленина:
– Взысканий не имеешь?
– Не заработал. В армии этого не полагается.
– И в армии, конкретно, от человека зависит… – пробормотал Кабир. – А почему это на билете буквы расплылись, даже прочесть трудно? Это не положено, – сердито сказал Кабир.
В его голосе Бурану почудилась неприязнь. «Чего он придирается? Без него, что ли, не знаю, что положено? Побывал бы в моей шкуре, тогда бы не то запел».
– В бурю опрокинуло шлюпку. Часа два принимал соленую ванну. А билет был в кармане гимнастерки…
Кабир вспыхнул.
– Не думай, что только вам досталось. Мы тут без дела тоже не сидели. Возьми раскулачивание. Кто забирал кулака? Мы. Кто искал спрятанный хлеб? Мы. Кто по ночам охранял аул? Мы. Далее. Самогонные аппараты разбивали? Разбивали. С бандитами боролись? Боролись. Неграмотность ликвидировали… Еще не известно, кому больше доставалось. Если взять конкретно, то нам. А ты мне про шлюпку рассказываешь… И насчет себя быстрее решай. Мне перед райкомом за каждого человека отчитываться.
Буран подумал: видно зависть грызет, что в армии не удалось побывать, вот и бахвалится. Отец рассказывал, что из-за недоглядки Кабира чуть человека на тот свет не отправили. Не одни комсомольцы все делали. И партийцы и беднота.
Буран усмехнулся: «А насчет соленой ванны у тебя не спросился».
2
Перед рассветом во дворе послышались чужие голоса, заржали кони, залаяли собаки.
Отец, как всегда, дежурил в канцелярии. Буран, накинув на плечи шинель, вышел в сени. Мать проснулась тоже. Она тихо шептала:
– Будь осторожен. Разные люди теперь шляются вокруг. В прошлую неделю…
Буран, не дослушав, резко отворил дверь и увидел геологов, которым он помогал переправиться через Белую.
– Пришлось вернуться? – спросил Буран.
Приезжие обрадовались ему, как родному.
– Горные потоки не пустили. Придется здесь переждать.
– Вот и хорошо! Добро пожаловать! – торопливо приглашал Буран. – Наш дом просторный, места всем хватит. Заходите. Сейчас мать самовар поставит, согреетесь.
– Горячий чай нам не помешает, – улыбнулась женщина.
Пока геологи разгружали сани, вносили вещи, раздевались, радуясь тому, что наконец добрались до теплого угла, Буран помог ямщику распрячь лошадей. Вдруг его внимание привлек глухой гул, доносившийся с реки. Вскоре гул перешел в оглушительный грохот. Видимо, рассвет растормошил реку. Заскрежетала Белая.
Буран забеспокоился. Хотя и неудобно оставлять гостей, надо торопиться, – мало ли что может натворить рассерженная река!.. Аул третий день ждал этой минуты. Люди не спали по ночам, все прислушивались: не взбунтовалась ли Белая?
Буран, войдя в избу, взволнованно сообщил:
– Река тронулась! Сбегаю посмотрю.
– Я тоже с вами! – поднялся Хамзин.
– Подождите меня, только оденусь, – заволновался и Великорецкий.
Женщины были в другой половине избы и не заметили суматохи.
Шум и грохот усилились. Под ногами вертелись собаки. Весело кричали мальчишки, не понимая, почему хмурятся их отцы и деды.
На берегу уже собралась толпа карасяевцев. У самой воды сидел на корточках старик Шаймурат. Он молча следил за внешним валом. Вдоль берега двигалось ледяное поле, огромные глыбы льда вздымались, становились на дыбы, вползали на берег, разрушая его. Буран не чувствовал страха. Океан не так завывал! Посмотрели бы карасяевцы, какие волны поднимал северо-восточный ветер!
Зимой люди прячутся в избах за плотно закрытыми дверями. Ледоход распахнул настежь двери, вывел всех на улицу. Люди расстегнули воротники, вдохнули свежий ветер. На душе у Бурана стало радостно. Исчезла внутренняя скованность, точно ее сняла река, сбросившая с себя толстый ледяной покров. Сбрось и ты, Буран, свое горе, распахни шинель, подставь грудь весеннему ветру!
Пусть грохочут и разбиваются ледяные громады. Пусть порывы ветра клонят к земле молодые ивы, пусть неистовствует природа. Ему хотелось громко крикнуть: «Слушайте, весна идет!»
Буран стоял на яру, сняв фуражку и подставив лицо ветру. Он всматривался в далекие силуэты горных вершин. Где-то там, в горах, была Камиля.
Вдруг он услышал голос Хамзина:
– Смотрю на вас и думаю: поехали бы вы с нами! Нам нужны такие молодцы.
«Может, и правда податься с ними?» – мелькнула мысль. И тотчас же пришла другая: «Погожу. Старикам надо помочь».
Буран увидел, как Шаймурат поднимается на берег…
– Не зальет. Аул может спать спокойно, – сказал он.
А за спиной старика бухала река, шуршали льдины, слизывая глину яра.
Шаймурат подошел к приезжим.
– Народ болтает – вы уходите в горы и вам нужен проводник? – спросил он.
Хамзин окинул его недовольным взглядом, сухо ответил:
– Нам нужны молодые парни.
– Когда старый человек обращается к тебе, первым твоим словом должно быть приветствие. Так нас учили…
Хамзин опешил. Великорецкий с любопытством взглянул на старика.
– О чем он просит? Чего тебе надобно, старик?
– Кто из вас самый главный? – спросил Шаймурат по-русски.
– Допустим, я.
– Так слушай меня, старший. Я хочу идти в горы вместе с вами. Слышал я, вы забираетесь в самые глухие места. Такие спутники мне нужны.
– Допустим, мы вам подходим, – вмешался Хамзин. – А что вы у нас будете делать? – Он критически оглядел старика: одни кости, прикрытые старой шинелью…
– Смотреть за лошадьми. Пахать. Ухаживать за пчелами. Если надо, плести лапти. Бишбармак[7]7
Бишбармак – национальное кушанье.
[Закрыть] готовлю. Землю копать могу, – стал перечислять Шаймурат, загибая скрюченные маленькие пальцы, и неожиданно закончил: – Кумыс умею пить.
Хамзину не понравился словоохотливый старик.
– Бабай, тебе бы на печке лежать, а не о работе думать.
Старик недружелюбно покосился на него.
– Как известно, свежий воздух и воздержание в пище закаляют человека. Я надеюсь прожить до ста лет.
Буран вмешался в разговор:
– Лучшего проводника вам не найти ни в Карасяе, ни в соседних аулах.
Хамзин недовольно спросил:
– А сами вы отказываетесь окончательно?
– Пока не знаю. Если надумаю, я вас разыщу.
Ему не хотелось никого посвящать в свои планы.
Через день Шаймурат ушел с геологами в горы.
3
Буран тщательно обстругивал каждую доску: ведь воротам стоять многие годы. По ним будут судить о мастерстве и сноровке того, кто их построил. По старому обычаю карасяевцы гордятся своими воротами, украшенными резьбой. И Буран не ударит в грязь лицом.
Рубанок однообразно скользит под рукой, желтые кудри стружек с шуршанием отлетают в сторону.
Вот поставит Буран ворота и подастся в горы или в город. Не жить ему в Карасяе без Камили. Уехала она – и как будто всю красоту и радость увезла.
Буран вздохнул. От Камили нет ни слуху ни духу, точно в воду канула. Карасяевцы долго сплетничали по этому поводу. Одни утверждали, что Камиля вышла замуж, другие предполагали насилие.
– По доброй воле Камиля не стала бы с ним даже разговаривать. Хамит на все способен. Разве он не вышел сухим из воды, когда был арестован? Правда, ему повезло – избитый человек выжил…
Буран не вступал ни в какие разговоры. Ему не нужно сочувствие людей и не интересуют их догадки. И без того тошно. Да разве куда денешься от болтовни? Как-то заглянул к нему Хайдар. Теперь он все время пропадал в поле. Известно, кто весной пашет, тот осенью жнет. Загорел, лапти почернели в борозде.
– Все хозяйством занимаешься? – спросил Хайдар, устало опускаясь на бревно. – Да, за эти ворота трудодней не запишут. А в вашей семье ведь один отец работает в колхозе. Или ты решил махнуть рукой на родной аул?
Буран свернул козью ножку. Задымили помолчали.
– Не знаю еще, как решу!
Хайдар засмеялся.
– Дороги зовут?
В самом деле, что мешало Бурану ходить за плугом? Зов дороги или тоска по любимой? Может быть, и это, но скорее всего мечта. Мечта, отнимающая спокойствие у человека.
С детства его безотчетно тянуло к машинам. С большим трудом через райком комсомола добился он зачисления на курсы трактористов, но пришел срок, и Бурана призвали в армию. Армия усилила любовь к технике. Приборы там были зорче человеческих глаз, автомобили мчались с такой скоростью, что за ними не угонишься на самом быстроногом скакуне. Куда там хваленым карасяевским жеребцам! А вездеходы, которые взбирались на крутые склоны гор, амфибии, что плавали на воде! А пушки! Стреляешь здесь, а снаряды летят далеко за горизонт. Оказывается, кроме Карасяя и похожих на него деревень, где дедовским способом выращивали хлеб, был другой мир.
На призывной комиссии он попросился в танковую часть и выдал себя за тракториста. Да ничего не вышло. На проверке выяснилось, что он совсем не умеет водить машину. Медицинская комиссия тщательно проверила его глаза и слух. Видел и слышал он отлично. Думал, что быть ему моряком. С председателем комиссии такой разговор вышел. «Тебя, Авельбаев, – говорит, – во флот можно зачислить, только не в русский, а швейцарский!» А сам смеется. Буран не понял, почему он смеется, и с обидой сказал: «Почему в швейцарский? Я у себя хочу служить!» «Потому, что у Швейцарии нет морского флота. У тебя, – говорит, – двух сантиметров в грудной клетке не хватает».
Зачислили в погранчасть. Мечтал сесть на танк, а посадили на коня и дали в руки винтовку. Всю свою любовь он отдал своей винтовке. Такого же восторженно-бережливого отношения к ней требовал и от подчиненных бойцов, когда стал командиром отделения. Ну и доставалось же им, бедным!..
После окончания службы комиссар полка посоветовал ему поехать на большую стройку, о которой писали в газетах. Наконец-то могла осуществиться его мечта! Но на дороге встала Камиля. Он, конечно, не стал говорить седому комиссару о девушке, в армии не положено распространяться о любви…
Не дождавшись ответа, Хайдар сказал:
– Что касается меня, то я налегаю на плуг, а осенью о свадьбе думать буду…
По небу плывут облака – белые барашки, тихо вокруг.
– Тебе пора жениться. Зифа – стоящая девчонка. Я ее вчера на улице видел… – поддержал его Буран.
Внезапно тишина была нарушена отчаянным свистом, пронзительным гиканьем и звоном маленьких колокольчиков, которые обычно подвешивают к дугам во время свадебных выездов. Буран взглянул на улицу, и его глазам представилась знакомая картина: пять или шесть мальчишек бежали, схватившись за руки, как будто катился громадный клубок перекати-поля. Мальчишек сопровождали собаки, взвизгивая и яростно лая. Ребята остановились перед недостроенными воротами, дружным хором заорали:
– Бу-ран, те-бя вы-зы-ва-ют в кан-це-ля-рию!
Перекати-поле покатилось дальше, вероятно, еще за кем-нибудь.
Буран проводил шумных вестников улыбкой. В детстве ему самому частенько приходилось так же мчаться по улицам аула. Давно ли это было?
«Зачем я понадобился Ясави? Маловато дал он мне погулять! – думал Буран, шагая по улице. – Наверное, будет уговаривать остаться в Карасяе. Начнет рассуждать о дедовских обычаях… «Теперь другое время, – скажу я ему. – Мне никто не помешает уйти на строительство в город или в горы, на рудники. Я хочу начать новую жизнь. Кусочек ее я видел, когда служил в армии».
В канцелярии висели плакаты, на которых были нарисованы тракторы, рубли, величественные заводы и список взрослого населения аула – членов колхоза… Смотри-ка, даже телефон есть!
– Девушка, дашь мне Сулейманова или нет? – орал Ясави в трубку.
Он показал Бурану на стул напротив себя. Наконец Ясави добрался по проводам до какого-то Сулейманова. Разговаривал он с ним без всякого почтения. Сулейманов, видно, возражал Ясави.
– Так мы никогда не договоримся! – кричал Ясави в трубку. – Ты мне скажи прямо: получу я горючее или нет? Будет известно на той неделе? А ты, дорогой товарищ, соображаешь, что сев на носу? А?
Бросив трубку, Ясави никак не мог успокоиться.
– Вот будет пленум, проучу я этого чинушу. Понюхает он нашей критики… Подсыплю я ему перцу!.. А вам чего? Почему бросили конюшню? – вдруг насупился он, увидев двух колхозников, переступивших порог. – Опять не поладили.
Это были соседи: Ибрагим и Халил.
– Не поладили, – сокрушенно согласился Халил.
– Ты помолчи! – перебил его Ибрагим.
– Сам помолчи!
– Пусть кто-нибудь один объясняет что к чему! – прикрикнул Ясави.
– Значит, наши поля находились рядом…
– Мое поле около лесочка, а его пониже, – закивал головой Ибрагим.
– Поля наши и сохранились в отдельности. Они озимыми засеяны. Не перепахивать же…
Ясави вышел из терпения:
– Давайте покороче. Чего вы хотите? Из колхоза выйти?
– Да нет! – забормотал Халил.
– И не думали, – подтвердил Ибрагим.
– Тогда зачем же пришли?
Соседи переглянулись, и Халил выпалил одним духом:
– Мы хотим спросить: нельзя ли по-прежнему оставить между нашими полями межу? Мы из-за этой межи в былое время два раза судились, а когда приехал землемер, даже подрались. Помнишь?
– Наша межа нас обоих устраивает, – поддакивал Ибрагим.
– Не будет никакой межи между вами, забудьте вы свои распри! – улыбнулся Ясави. – Идите. Межа останется только между аулами.
Крестьяне почесали затылки.
– Говорят, все колхозы распустят. С будущего года будто все пойдет по-старому.
– Кто это говорит? – вскипел Ясави.
– В народе говорят, – упрямо стояли соседи на своем.
– Не слушайте вы болтовню врагов, – поднялся Ясави. – Будет не так, как они мечтают, а по-нашему.
И стукнул кулаком по столу.
– Это, конечно, так… – засмеялся Халил.
– Довольно! Подумайте лучше о лошадях. На кого их оставили? – перебил его Ясави.
Не успели Халил и Ибрагим прикрыть за собой дверь, как позвонил телефон. Ясави схватил трубку и в следующую минуту уже кричал:
– И горсти не дам! Самим не хватает семян. Намотайте это себе на ус. Что касается удобрений, их совсем нет у нас. Послал человека, вернулся ни с чем. Не стану же каждый раз в райком жаловаться, там без меня много жалобщиков. А ты мне, как сосед, уступи… Я тебя в другой раз выручу…
Буран только хотел начать разговор, как в правление ворвался разъяренный Галлям, подталкивая перед собой жену.








