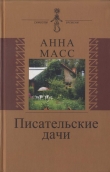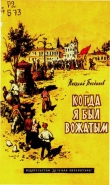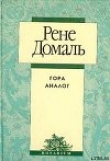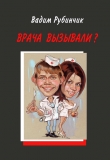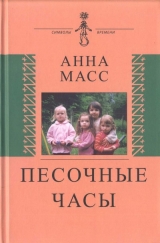
Текст книги "Песочные часы"
Автор книги: Анна Масс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Ксюша умерла. Я читаю записки
Наконец-то меня выпустили на улицу, укутанную поверх шубы в байковый платок и в больших подшитых валенках выше колен. Двигаться в такой одежде можно было с трудом, но зато мороз не пробирал. Первым делом я взглянула на крышу знакомого сарая. Нетронутое одеяло снега покрывало крышу. Никто не играл в снежки, не строил крепость, не прыгал с разбега вниз. Я протоптала тропинку к нашей с Алькой щели. Щель была закрыта снегом, но я разрыла снег и увидела на том дворе Альку в Ксюшином шерстяном платке, из-под которого еле виднелось бледное, худое личико. Алька увидела меня и подошла к забору.
– А у нас Ксюша померла, – сказала она, и лицо ее сморщилось так, что стало похоже на лицо старушки. – От сыпняка.
Я молчала. Не могла понять, как это – Ксюша померла. Не укладывалось в воображении. Такая живая, с коромыслом через плечо, светлая коса вокруг головы – нет, не может быть.
– А у Марика с Левкой мать померла. Их давеча в детский дом забрали.
– В детский дом?
– Ага.
Мне представился мой деревянный складной домик со слюдяными окошками, что остался у меня в Москве. Детский домик. Только большой. Там стоят кроватки, столики. И там теперь живут Марик и Левка. Может быть, и Ксюша там теперь живет. Понарошку. Как будто. Потому что «померла» – не понятно, а понарошку и как будто – понятно и убедительно.
Алькина бабушка вышла на крыльцо и позвала Альку. Не злым, как обычно, а слабым, надтреснутым голосом. Алька побрела к дому, волоча ноги и сгорбившись. Концы Ксюшиного платка тащились за ней по снегу, и Алька была похожа на маленькую больную птичку.
А я пошла по узкой тропке на задний двор, где леденело белье. К своему дереву с дуплом.
В дупло нанесло снега, я выгребала его окоченевшей рукой без варежки, чтобы нащупать записки, совала их в карман, озиралась по-шпионски – не видит ли меня кто. Помнится, записок было гораздо больше, я же чуть ли не каждый день, а бывало и по два раза в день бегала к воротам. Может, их птицы растащили, а может, провалились на дно дупла и теперь не дотянешься? А те, что достала, смялись в комочки, а дома, в тепле, размокли, расползались в руках. Все-таки я их спасла – устроила между страницами книги «Ребята и зверята». Они там высохли и расправились. Хорошо, что они все были написаны карандашом. Если бы чернилами – их бы уже не прочитать, чернила бы расплылись от влаги. А карандашом – можно. И я их наконец-то прочитала.
«Мая любимая Аня ты меня не бойся
Аня я тебе штото скажу ты не уходи»
«Дарагая любимая моя Аня
Мы должны установить место для записок. Как по твоему где оно будет. Пока записку передаст мой брат. Ответ дай немедленно».
Марик.
«Дарагая моя возлюбленная Аничка я тебе буду всё время писать но ты когда прочтеш хоть одну рви».
«Аня ты изменила мне я пишу тебе последнюю записку
Ответ немедленно».
(Я – изменила?! Никогда этого не было, и быть не могло! Это он увидел со своей крыши, как к нам пришла мамина подруга Татьяна Борисовна со своим сыном Мишкой. И чтобы мы им не мешали болтать, они велели нам с Мишкой поиграть вдвоем. Мы и играли. Строили дом из палочек. Вот он и подумал. Но потом он понял, что это не так, и простил).
«Дорогая моя Аничка, я думал, что ты бросила меня а любиш своего друга.
Милая Аничка я тебя прошу нечего не показывать этому мальчику.
Ане от Мары».
Я спрятала их обратно в книжку и часто тайком перечитывала. До сих пор их храню, эту память о первой любви, запечатленной карандашом на обрывках грубой оберточной бумаги. И много лет мечтала о том, как мы встретимся с Мариком. Придумывала подробности встречи. Могло же случиться чудо, и однажды в кино, например, наши места окажутся рядом, или мы столкнемся в троллейбусе, или я поеду с родителями в Ленинград и там, на Литейном, увижу его, едущего на велосипеде, настоящем «диаманте», со звонком, ручным тормозом и багажником, и он узнает меня, обернется…
Но нет, чуда не случилось. Мы никогда с ним больше не встретились.
Теплый театр
Мама ведет меня по длинной Кооперативной улице вдоль высоких сплошных заборов с запертыми воротами. Валы серого в сумерках снега высоко поднимаются с двух сторон. Мы идем как будто по узкому снежному коридору. Платок закрывает мне рот и нос, верхушки щек прихватывает морозом, на глаза наворачиваются слезы.
Снежный коридор кончается, и мы выходим на белую просторную площадь. Я вижу каменный, полукруглый, приземистый, освещенный яркими фонарями дом с колоннами. Театр. В окружении деревянного города он так великолепен со своими колоннами и фонарями, с широким подъездом, с извозчиками у подъезда, что во мне как будто бы тоже начинают светиться фонари восторга.
Мы входим. Блаженное тепло фойе. Какое слово: «фойе»! Упругое, праздничное, не то что – «ставня» или «печка». А как пахнет в театре! Дома так никогда не пахнет. Это запах театра – чуда, красоты, радости. Запах предвкушения.
Мама вводит меня в зрительный зал – золотой и белый, хрустальный, лепной и резной. Королевский дворец из сказки про Золушку представляется мне, потому что красивее и праздничнее Омского драматического театра ничего нет и быть не может.
Последний ряд партера немного приподнят над остальными рядами, и тут, у самой стены, как воробьи на проводах, сидят на спинках кресел дети артистов – «наш двор». Нет, мы скорее похожи не на воробьев, а на тощих диковатых галчат. Для некоторых театр – это второй дом, где они торчат иногда с утра и до конца спектакля, где за ними присматривают добрые капельдинерши, и где родители, не снимая грима, наспех кормят их в буфете.
Мы смотрели сказку для взрослых – «Сирано де Бержерак» – с огромными куклами по сторонам кулис. Красавица Роксана в белом длинном платье с пышными рукавами страдала на сцене так, словно только и есть одна причина для страдания – любовь.
А еще мы смотрели «Синий платочек» – про войну, про солдат на фронте и про тех, кто живет в тылу, про нас. На сцене – фронтовой блиндаж, три бойца отдыхают после боя, вспоминают мирное время. Самый старший – его играет смешной, толстый Пажитнов – «Лёнькин папа» – мечтает наесться до отвала и «соснуть минуточек сто двадцать». Он поет на мотив знаменитой песни:
Сала кусочек,
Каши горшочек
И каравай вот тако-ой!
Приходит посылка из тыла, из Сибири. В ней – печенье, варежки и синий платочек, на котором вышито имя «Валя». Платочек этот выбирал герой пьесы, которого играл очень красивый молодой артист Коля Тимофеев. И начиналась история двух судеб, тянущихся друг к другу через войну. История со счастливым концом.
Мама играла в этом спектакле небольшую роль бабушки – учила вышивать гладью своего внука, который и послал на фронт синий платочек со своим именем. Получилась путаница: герой пьесы решил, что Валя – это девушка, и стал писать ей письма. А отвечал на них мальчик. Потом-то всё объяснилось, герой встретил свою любовь, когда лежал раненый в госпитале в том самом сибирском городе, и она оказалась сестрой того мальчика, и тоже Валей.
Мне было немножко обидно, что мама играет старушку. Хотя ее игру похвалил сам режиссер Захава, чем мама очень гордилась. Но в жизни мама вовсе не была старушкой, могла бы, если бы поручили, сыграть и мальчика. Может быть, не так хорошо, как Надя Генералова, которая играла Валю. Надя была на сцене совершенно как настоящий мальчишка. Нет, пожалуй, так сыграть мама не смогла бы. Все-таки она была не такая уж молодая.
Когда у нас в доме не было дров, мама часто водила меня в театр. Там всегда топили.
Как и прежде, слушали мы каждый день голос диктора по радио, но теперь в торжественном этом голосе слышались радостные нотки.
– Кажись, погнали немца-то, – говорила Анна Васильевна.
– Погнали! Погнали! – соглашалась мама. – Неужели скоро домой?
Всё чаще я слышала эти слова: «Скоро домой». Их произносили тетя Лена, и Шура, и даже Маринка.
Как-то пришла к нам артистка Мила и привела с собой дочку Олю, ту самую, которая кричала от голода, когда мы ехали в поезде. Теперь Оле было два года, она была смешная, круглая, с ямочками на щеках, умела говорить «валенки» и пыталась схватить за хвост Барсика.
– Только по детям и замечаешь, как время бежит, – сказала мама. – Неужели два года прошло?
– Даже не верится, что скоро домой! – сказала Мила.
– А театра нет! – вздохнула тетя Лена. – Не могу себе представить Арбат без нашего театра.
– Хорошо, что ТЮЗ согласился дать нам помещение. Будем пока играть с ними в очередь.
– Пока! А потом?
– Уверяют, что построят новый театр на том же месте.
– Да, но когда это будет!
– Хорошо бы вернуться до сентября, – сказала мама. – Я хочу отдать Аню сразу во второй класс.
– До сентября обязательно вернемся, – сказала Мила. – Я думаю, нас отправят не позже августа.
Но проходили недели за неделями, а нас всё не отправляли и не отправляли. Уже на яблоне начали краснеть маленькие кислые яблочки, задули холодные ветры с дождями. Короткое сибирское лето подходило к концу.
– Скоро мы поедем? – приставала я к маме.
– Нет эшелона, – отвечала она. – Вот дадут эшелон, и поедем.
– А когда дадут эшелон?
– Не приставай. Ты же видишь, в каком я ужасном состоянии!
Мама была в ужасном состоянии, потому что Витю не отпускали с завода, и он не мог уехать вместе с театром в Москву. Он не имел права уволиться, потому что завод дал ему бронь. А если бы не было брони, Витю призвали бы на фронт, потому что через полгода ему стукнет восемнадцать, призывной возраст. Мама ходила к директору театра, к администратору, к главному режиссеру, и все они обещали что-то сделать, похлопотать, и мама то надеялась, то снова впадала в ужасное состояние. В конце концов завод обещал отпустить Витю, но не раньше апреля или мая. А был еще только август. Это значило, что театр и все Витины друзья уедут домой, в Москву, а Витя останется зимовать в Омске.
Домой!
Эшелон дали в начале сентября. Вещей у нас оказалось гораздо меньше, чем два года назад, когда мы приехали. Почти все вещи сменяли на продукты. Последнюю свою ценность – концертное платье – мама перед самым отъездом сменяла на туфли для меня. Туфли были замечательные – почти не ношеные, светло-коричневые, кожаные, на шнуровке, с широкими, прошитыми белой замшей рантами. Они были мне велики, но Шура сказала, что это как раз очень хорошо – дольше проношу. Она завернула туфли в газету и спрятала в чемодан.
– Поедешь в старых, – сказала она. – Ничего, что драные, в поезде сойдеть. А новые – в школу наденешь.
Я тоже собрала свое имущество – книгу с запрятанными между страницами записками, кубик с изображением самолета и несколько самых красивых черепков. Шура дала мне тряпочку, чтобы можно было завернуть мое имущество. Получился маленький узелок.
Свой самый любимый черепок – тот, на котором был нарисован поросенок возле кирпичного домика, я подарила Альке. Она приняла подарок и сказала:
– Знаешь, чё? Я его не буду к своим ложить, а лучше я его вот здеся, около забора закопаю, и он будет тебя дожидаться. Вернешься – откопаем.
– Ладно, – согласилась я.
Как не похож этот красивый поезд с голубыми вагонами на тот, в котором мы сюда приехали! Нет одеяла на вагонном окне, солнце заглядывает в вагон, и лица у пассажиров веселые – тоже не то, что тогда! А как изменились две мои московские подруги, Валя и Лена! У Вали за эти два года выросли две длинные косы, а Лена, наоборот, оказалась наголо постриженной – у нее был сыпной тиф. Обе стали очень взрослые – они эти два года проучились в школе, и в Москве им предстояло идти уже в третий класс. И мальчик Саша тоже ехал в нашем вагоне со своей бабушкой Фаней Избугалтерии. Бабушка стала худой, с седыми короткими волосами и в обычных очках, а Саша – веселым и приставучим.
– Ты знаешь о том, что смех без причины – признак дурачины? – спросила его Валя.
– А вот и не без причины! – ответил он. – Мы же домой едем!
Валя подумала и сказала:
– Да, пожалуй, ты прав. Это уважительная причина.
День и ночь отстукивали колеса свою мерную мелодию.
Я слушала и смотрела в окно. «Скорее, скорее, скорее!» – торопила я поезд. И он словно понимал, как нам всем не терпится домой. Паровоз тонко и весело гудел, на поворотах я видела, как черный дым вырывается из трубы, уплывает в сторону и тает в синем небе.
Вокзалы, вокзалы… Крынки с молоком, белая, рассыпчатая картошка на зеленых листьях. Скорее, скорее!
И вот последняя остановка: Москва! Встречающие стучат в вагонные стекла, машут руками, смеются и плачут. Потолкавшись у дверей, мы выходим на залитый солнцем перрон. Какие-то незнакомые или полузабытые люди тормошат меня, Маринку, целуют.
– Как выросла! А Маринка! Уезжала совсем кроха, а сейчас!..
Мама тоже с кем-то обнималась, смеялась, а из глаз ее катились слезы.
Мы подъехали к нашему дому на грузовике. И когда меня сняли с грузовика и я увидела решетчатые железные ворота с завитушками и пиками, и каменный серый забор, и булыжную мостовую, и двор с круглым палисадником – я вдруг всё вспомнила! Вспомнила довоенную лужу, в которой мне однажды разрешили «подрызгаться», вытертые, скошенные три ступеньки, ведущие к моему третьему подъезду… Скорее, скорее! Мы с мамой и Шурой, торопясь, поднялись на свой четвертый этаж. Мама сунула ключ в замочную скважину, но долго не могла повернуть его, потому что руки у нее не слушались от нетерпения. Наконец, дверь открылась, и мы вошли в квартиру.
…Зеленая скатерть стала серой от пыли, я стащила ее и подняла легкую фанерную крышку сундучка. И замерла на минуту. Время, которое столько дней летело без остановки, вдруг остановилось. Два года они ждали меня, мои игрушки, а я ждала встречи с ними. И вот мы встретились. Они сидели точно так, как я их посадила, и были точно такими, какими я их помнила. Я вынимала их по одной – зайца, плюшевого мишку, пушистого белого мишку-муфту, одноглазого тигра, кукол. Они усаживались вокруг меня, смотрели на меня блестящими глазами, словно хотели сказать: вот ты и дома! Ну как? Ты рада?
Я была счастлива, и только какое-то легкое беспокойство мешало мне полностью наслаждаться встречей. Что-то я хотела сделать – и забыла. Я усаживала игрушки на полку, стараясь, чтобы им было поудобнее, – ведь как они устали, бедные, в тесном сундучке. А беспокойная мысль все летала где-то рядом… И вдруг я вспомнила!
Сбегала в переднюю за своим узелком и вернулась. Книжка, черепки и кубик с самолетом выглядели жалкими рядом с моими богатыми, хоть и потрепанными игрушками. Но здесь была моя первая самостоятельно прочитанная книжка, подарок моей омской учительницы, а в книжке – записки, память об омском друге. И облезлый кубик, и разноцветные черепки – с ними у меня было связано столько воспоминаний!
Я отвела им на полке самое удобное место.
Вошла мама и сказала:
– Сегодня же отнесу в школу твои документы. Учебный год уже две недели как начался. А когда вернусь – распакуем вещи и примерим платье, в котором ты пойдешь в школу.
Школа 43-го года
Слышу поскрипывание перьев «ласточек», «звездочек», «солдатиков», постукивание мела по доске. Вижу три ряда черно-коричневых парт с изрезанными и исписанными крышками. Красивое, молодое, но с горькими морщинками возле рта лицо Веры Михайловны. У нее погиб на фронте муж, бывший учитель нашей школы. Сыну Вовке два года. Она изредка приводит его, закутанного в платок, и он тихо сидит на последней парте, рисует.
Я учусь во втором классе «А» женской средней школы номер 43, в Мертвом переулке (который года через два переименуют в Островский, потому что, оказывается, в доме напротив школы с 1930 по 32 год жил автор знаменитого романа «Как закалялась сталь»). В этой же школе учится Валя Шихматова – в третьем «Б». Школа близко от дома, первые два дня меня провожает мама, а потом я запомнила дорогу и стала ходить одна, а иногда с Валей.
Мальчики нашего дома, оба Мишки – Горюнов и Рапопорт – учатся в 59-й мужской, в Староконюшенном переулке. Наташу Захаву, Аню Горюнову и Наташу Абрамову отдали в 29-ю, на Зубовской. Внешне и 59-я и 29-я красивее нашей: дореволюционные здания бывших гимназий в лепнине, цветных витражах, с громадными фонарями-окнами по фасаду. Не сравнить с нашей скромной кирпичной четырехэтажкой, построенной в начале тридцатых годов без всяких украшений. Но зато у нас знаменитая директорша – Любовь Георгиевна Богдасарова, «Любаша», заслуженный учитель, орденоносец. К тому же она дальняя родственница Рубена Николаевича Симонова, главного режиссера театра Вахтангова, и к вахтанговцам у нее особое расположение. Старшим ребятам, вернувшимся из эвакуации, которые из-за войны не смогли закончить десятый класс, она устроила экзамен экстерном и всем выдала аттестаты зрелости. В том числе и моему брату Вите, которого, как и было обещано, к весне отпустили с завода. Он вернулся в Москву и поступил в педагогический институт имени Крупской, на литературный факультет. Жека Симонов и Вадим Русланов поступили в Щукинское театральное, Кирка Рапопорт – в иняз на факультет военных переводчиков, Егор Щукин – в архитектурный – и всё это благодаря Любаше.
Она живет одна в маленькой квартирке при школе. Время от времени берет к себе кого-нибудь из учениц, из самых неблагополучных семей.
Несколько раз в год в школе устраиваются благотворительные концерты в пользу нуждающихся учениц. На этих концертах выступают артисты-вахтанговцы и студенты щукинского театрального училища. Известные певцы Бунчиков и Нечаев дуэтом исполняют популярные советские песни. Ираклий Андроников рассказывает нам про загадку НФИ. Дочки Бунчикова и Андроникова тоже учатся в нашей школе.
На деньги от концертов организовывается бесплатное питание для неимущих учениц, им покупают путевки в летние пионерские лагеря, дают бесплатные ордера на одежду и обувь.
Любаша, сгорбленная, маленькая, ходит по школьным коридорам, позвякивая связкой ключей за спиной, на плечи наброшен серый вязаный платок. Если замечает какой-нибудь непорядок – орет на провинившегося гортанным скрипучим голосом, а иногда трясет за плечи и грозит: «Я с тебя шкуру сдеру!» Ни с кого на моей памяти не содрала, но у меня коленки начинали дрожать, когда я слышала звон ее ключей и видела ее сгорбленную фигуру в глубине коридора.
И не только у меня. Ее все в школе боятся.
Нянечка перед началом уроков подливает фиолетовые чернила из чайника в стеклянные стаканчики-чернилки, вставленные в отверстия парт. Мы обмакиваем в них перья и пишем в тетрадях в косую линейку слова и предложения. Средний и указательный пальцы всегда запачканы чернилами.
Зимой, в особо холодные дни, перо, опускаясь в чернильницу, пробивает тоненькую корочку льда. Вера Михайловна разрешает нам сидеть в шубах. Вешалка с шубами стоит прямо в классе, у задней стены. На всех тетрадей не хватает, и Вера Михайловна делит каждую на три части и раздает всем поровну.
Некоторые девочки носят в школу собственные чернильницы – беленькие «невыливайки» в самодельных мешочках на тесемке. У этих невыливаек конусообразные горлышки, поэтому чернила не выливаются (мне-то этого чуда все равно не понять). Хотя, если потрясти, а потом резко опрокинуть, то прекрасно выливаются, и особо озорные девочки этим пользуются. У некоторых лежат на партах кругленькие изделия из нескольких слоев цветных кусочков материи – перочистки, о них вытирают пёрышко, если к нему прилипает волосок или соринка. Мне очень нравятся эти штучки, скрепленные посередине пуговицей или металлической заклепкой. Они похожи на праздничные юбочки для крохотной куколки. Хочется иметь такую же, но я не знаю, где ее приобрести, а спросить стесняюсь.
На окна по утрам опущены черные бумажные рулоны: еще не отменили затемнение. На потолке из шести плафонов горят два. Из-за тусклого света, а может быть, из-за начинающейся близорукости, я не вижу, что написано на доске, и неправильно списываю. А дома неправильно решаю примеры и пропускаю буквы в словах. Листочки по арифметике и по русскому испещрены красным учительским карандашом. Мама сердится. Говорит, что я не стараюсь. А я стараюсь и сама не понимаю, откуда берутся ошибки.
Вообще, я многого в школе не понимаю и боюсь. Не ориентируюсь в школьном пространстве. Вера Михайловна посылает меня в учительскую за мелом, а я не могу отыскать учительскую, возвращаюсь и от стыда вру, что мела не оказалось. Боюсь на перемене пойти в туалет, а потом не отыскать свой класс, и терплю. Даже возвращаясь из школы домой, иногда, задумавшись, поворачиваю не туда, а потом долго ищу свой переулок.
Дичусь своих одноклассниц. Другие девочки учатся вместе с первого класса, давно друг друга знают, собираются стайками на переменах, а я, попав сразу во второй класс да еще и опоздав к началу занятий, чувствую себя чужаком. Прошло порядочно времени, прежде чем я начала запоминать в безликой массе своего второго «А» отдельные лица, имена и фамилии. Девочки, с которыми мне хотелось бы подружиться, смотрят на меня сверху вниз и не принимают в свою компанию. Они отличницы и активистки, у них на партах лежат аккуратно обернутые учебники с закладками, слоёные юбочки для вытирания перьев, точилки для карандашей. Эти девочки всегда знают, что задано, всегда поднимают руки на вопрос учительницы. А я болтаюсь на периферии с такими же растяпами и двоечницами, как я сама. Нина Акимова, с которой меня посадили за одну парту, щиплет меня за ногу и стряхивает чернила с пера мне на платье, когда учительница не видит. Я молчу, потому что боюсь Нину. Она драчунья. Мое маленькое личное хозяйство – пенал с туго сдвигающейся крышкой, ластик, конфетный фантик, промокашка – вроде как не мои, а общие. Могут взять без спроса и не отдать, и попробуй не дай – прослывешь жадиной, а таких бьют после уроков портфелями. Особенно старается Нина – догоняет убегающую «жадину» и старается попасть портфелем по голове.
Меня не бьют, но особо со мной и не церемонятся, берут с моей парты, что захочется. Нина отобрала у меня перышко «ласточка», которое я, по примеру других, подточила наискось о каменный подоконник, чтобы почерк получался с мягким нажимом, и дала мне вместо него «лягушку», которая кляксит и царапает бумагу. И я малодушно смолчала.
Вера Михайловна через некоторое время пересадила меня к другой девочке, Лене Короленко. С ней мы разговариваем и даже вместе возвращаемся из школы – нам по дороге до ее одноэтажного флигеля возле детской поликлиники на улице Щукина. Она показала мне свое окно и дверь со стороны садика, но в гости не позвала, хотя между нами завязалось какое-то подобие дружбы, отчасти потому, что она тоже плохо учится.
Частые медицинские комиссии – проверка на вшивость. Вшивых стригут машинкой наголо в медицинском кабинете.
Серые, очень вкусные бублики, которые Вера Михайловна приносит из буфета, нанизав на веревочку, и раздает на большой перемене.
Уроки военного дела в гулком физкультурном зале: военрук Михал Михалыч в гимнастерке с засунутым за пояс пустым рукавом командует нам, второклашкам: «Ряды сдвой! Ряды стройся!» «Нале… ву!»
Я не понимаю, что такое «сдвой», вместо налево поворачиваюсь направо.
Надо мной в классе смеются.
Некоторые девочки приносят с собой свертки с завтраками. На большой перемене аппетитно пахнет бутербродами с колбасой. Близсидящие девочки иногда не выдерживают, просят: «дай откусить!» Многие дают. Только у Аллы Лухмановой никто не просит, знают, что не даст. А какие она приносит завтраки, прямо слюнки текут – белый хлеб с маслом и с черной икрой! Мандарины!
Однажды кто-то украл у Аллы завтрак. Алла ревела и требовала, чтобы все открыли портфели, а она бы прошла по рядам и обыскала их. Хотя что могло остаться от съеденного завтрака? Разве только запах мандарина.
Вера Михайловна сказала Алле:
– А ну, сядь на свое место и не реви! Обыскивать – ишь чего вздумала!
– Все равно я папе скажу! – запальчиво крикнула Алла. – Я знаю, кто украл!
– Знаешь? Ну, говори, кто!
Алла, понизив голос, сказала:
– Я вам потом скажу. На перемене.
– А ну, выйди сюда, – приказала Вера Михайловна.
Алла вышла.
– Я доносов не люблю, – сказала учительница. – Доносчик для меня – последний человек. Кто украл, сам скажет, если не трус.
Встала худенькая, бледная до голубизны Ира Феоктистова и сказала:
– Это я…
Вера Михайловна была резковата, редко улыбалась, рассердившись, могла выдернуть провинившуюся за руку из-за парты, поставить у доски. Но когда Ира Феоктистова в своем линялом ситцевом платочке, закрывшем наголо остриженную голову, жалким голоском призналась, что это она украла, Вера Михайловна вдруг заплакала.
Такой она и стоит до сих пор у меня перед глазами: один ботинок перевязан веревочкой, чтобы не отставала подошва. Кисти рук обмороженные, красные, шелушащиеся. Углы губ опустились, она судорожно глотала, вытирала щеки опухшими пальцами. Она отошла к окну, несколько минут постояла спиной к нам, а когда обернулась – лицо ее было хмурым, но спокойным.
– Садись, – сказала она Ире Феоктистовой, и Алле, с презрением: – И ты садись.
– Вы поняли? – спрашивает Вера Михайловна.
– По-оняли! – отвечает класс.
– Все поняли? – с нажимом переспрашивает она, глядя искоса на меня, сжавшуюся на второй парте у окна.
– Все-е! – тянет класс, и я вместе со всеми.
Как признаться, что ты одна ничего не поняла? В классе сорок человек, авось как-нибудь затеряюсь среди умных.
– Смотрите, а то завтра контрольная!
Слово «контрольная» вызывает ужас. Чтобы спастись от этого ужаса, я начинаю прогуливать школу в те дни, когда контрольная. Но и прогуливать тоже очень страшно: просидевшая два года почти безвыходно за высоким забором омского дворика, да еще от природы не ориентирующаяся в пространстве, я путаюсь в лабиринте переулков, тревожно оглядываюсь, пытаясь запомнить их повороты, настороженно жду, что вот-вот меня схватит за плечо кто-нибудь из взрослых и с позором приведет домой.
И однажды так и случилось – меня берет за плечо театральный электрик Миша, который на днях вешал у нас в кабинете люстру.
– Прогуливаешь? – доброжелательно догадывается он, потому что только дурак не догадается – у меня вид типичной прогульщицы, да и время самое что ни на есть школьное.
– У нас учительница заболела, – вру я. – Нас отпустили.
– A-а. Ну, тогда пошли вместе. Я как раз к вам в дом.
Остается еще надежда, что не в наш подъезд. Но нет, в наш! Он поднимается вместе со мной до четвертого, звонит в нашу дверь и поднимается выше, на пятый, а я стою перед своей дверью одна со своим страхом, который бушует у меня внутри и вот-вот вырвется наружу рёвом.
Мама открывает дверь, видит выражение моего лица, Мишу, который сверху вежливо с ней здоровается…
– Ты прогуляла! – делает она правильный вывод.
– Нет! Нас Вера Михайловна отпустила! Она задала уроки… Я сейчас прямо сяду и буду готовить…
– Врешь! Я же вижу по твоему лицу, что ты мне врешь! Я сейчас же иду в школу, и если окажется, что ты прогуляла!..
Все кончено. Нет лазейки. Страх вырывается наружу:
– Мама, не ходи в школу! Мамочка, я тебе все объясню!..
– А-а-а!! Значит, ты все-таки прогуляла! Моя дочь прогульщица!!
Гнев мамы шумен, с хватанием за сердце, тяжелым, со взрыдами, дыханием, питьем валерьянки, с повторяющимся рефреном:
– И это моя дочь! За что мне такое?!
Потом мама идет в школу разговаривать с Верой Михайловной, а я, зная строгость учительницы, забиваюсь в ванную и, уткнувшись в полотенце, рыдаю до икоты, мечтая об одном: потерять сознание и прийти в себя через неделю, а еще лучше – через месяц.
Мама возвращается тихая. Больше не кричит. Даже разговаривает со мной, а обычно после скандалов прочно замолкает на несколько дней. Вообще, ведет себя необычно мягко. И по этой несвойственной ей манере я понимаю: меня защитила Вера Михайловна.