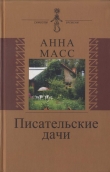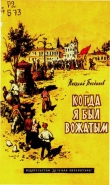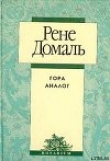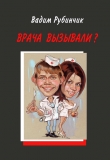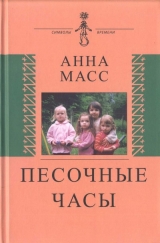
Текст книги "Песочные часы"
Автор книги: Анна Масс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Упадочная Ахматова
Вскоре Калашникова снова отличилась: принесла в класс книжку стихов Анны Ахматовой и пустила по рядам. Книжку отобрала Биссектриса и передала директорше. Наташкиных родителей вызвали на педсовет и грозили исключить Наташку из школы за чтение и распространение стихов запрещенного автора, осужденного нашей партией и лично товарищем Ждановым. Из школы ее не выгнали, но вернули ее заявление о приеме в комсомол. А она готовилась, зубрила Устав.
Я случайно вернулась в класс после уроков – забыла тетрадь – и увидела плачущую Наташку. До этого я ни разу не видела, чтобы Наташка плакала. К своим двойкам она относилась без драматизма, дома ее за них не ругали.
– Я не распространяла! – плакала Наташка. – Девчонки сами у меня отобрали посмотреть. Откуда я знала, что она запрещенная? В предисловии об этом не сказано!
– Ну и скажи им, что не знала. Ты же не обязана всё знать!
Мы вышли из школы вместе, и, когда шли по Кропоткинской, мимо нас прошла Ляля Розанова, комсомольский секретарь. Мы с ней поздоровались, а она сделала вид, что нас не заметила. Странно!
На следующий день, на перемене, Нинка спросила меня:
– Зачем ты себя компрометируешь?
– Чем это я себя компрометирую?
– Тем, что разгуливаешь с Калашниковой по улицам.
– Ну и что?
– Ах, ну и что! А ты знаешь, почему ей дали отвод?
– Ну, из-за Ахматовой.
– Не только, – сказала Нина. – Давай выйдем, а то нас могут подслушать… Всё гораздо хуже, – продолжала она, когда мы вышли на лестничную площадку. – Я не хотела тебе говорить, но потом мы на бюро решили, что тебе нужно это знать в связи со статьей.
– С какой статьей?
Она молча протянула мне свернутую в трубочку газету «Правда». Статья была обведена красным карандашом и называлась что-то вроде «Прибежище безродных космополитов». В статье часто упоминалась фамилия Наташкиного дедушки-академика.
Удивительно, как одно слово разом меняет отношение к человеку. Я не очень-то представляла себе, кто такие безродные космополиты, о которых в последнее время постоянно писали в газетах, представлялось что-то подлое, опасное. Симпатичный Наташкин дедушка вдруг преобразился чуть ли не в чудовище. И ведь сидел рядом за столом, ел вафли!
– Поняла? – спросила Нинка. – Это всё, между прочим, взаимосвязано: и Ахматова, и это, и вечеринки. Они вас вербуют, это же ясно! Недаром я к ним никогда не хожу.
Вообще-то Нинка не ходила, потому что ее не приглашали из-за занудства и отсутствия чувства юмора. Но может, она в чем-то права? Вот ужас-то! Вербуют!
– В общем, так, – сказала Нинка. – Бюро поручает тебе написать о Калашниковой разоблачительную статью.
– Разоблачительную?
– Ну да, ее же надо разоблачить. Напиши в своем стиле, в фельетонном. У тебя это хорошо получается. А мораль я припишу сама, чтобы сильнее прозвучало.
– Калашникова-то при чем? Не она же космополит.
– А Ахматова?
– Все равно, не хочу я про Калашникову писать.
– Как это – не хочешь? Тебе бюро поручает! Понимаешь – бюро!
– Подумаешь, бюро! А если я не хочу!
– Что?! – произнесла Нинка в священном гневе. – Бюро – подумаешь? Да ты соображаешь?.. Нет, ты вообще отдаешь себе отчет?.. А ты знаешь, что я сейчас обязана пойти в бюро и передать твои слова?
Я испугалась. Мне тоже хочется вступить в комсомол. Надо же делами доказывать, что я достойна.
– Ладно, – согласилась я.
Два дна я мучилась, на третий протянула Нинке то, что написала. Она тут же села за парту и стала читать. И вдруг у нее брови полезли на лоб.
– Это не то! Тебе поручили разоблачить, а ты? Мало ли, что она плакала в пустом классе?
– Нет, не мало! – закричала я. – Что видела, то и написала! Не будет же она перед самой собой притворяться! Она вообще не умеет притворяться, что ты ее не знаешь, что ли? Она не знала, что Ахматова запрещенная! В предисловии об этом не сказано! Ты вон тоже «Яму» Куприна читала, что же, и тебя разоблачать?
– Я не знала, что это «Яма»! Там начиналось сразу с двадцатой страницы и не было обложки.
– Ну и она не знала! И за дедушку она не отвечает. Ты же не отвечаешь за поступки своей сестры Надьки!
Эта Надька была на четыре года старше Нины, училась в техникуме и вовсю гуляла с парнями, хотя у нее был жених Коля, который служил на флоте.
– Вообще-то ты в чем-то права, – задумчиво сказала Нина. – Ты меня, правда, в чем-то убедила. Но мы уже всё на бюро распланировали: сначала твоя статья, потом Калашникову и еще троих из «Б» будут обсуждать на открытом комсомольском… А теперь я прямо даже не знаю…
Нинка сосредоточенно грызла конец косы.
На сдвоенной литературе мы писали сочинение. Я уже дописывала план к образу Печорина, как вдруг дверь открылась, всунулась голова директорской секретарши старушки Ольги Фроловны.
– Масс – к директору!
У меня сразу душа ушла в пятки. Я встала и пошла к двери. Класс проводил меня сочувственными взглядами. Потому что, когда Любаша вызывала к себе да еще посреди урока, – это ничего хорошего никогда не сулило.
До этого я была в кабинете два раза. В пятом меня привел сюда историк Анатолий Данилыч за то, что я на обложке учебника истории рисовала голых героев древнего мира, даже без листиков, а в седьмом – Марьяша по зоологии за стихотворение, в котором я отобразила ее внешность: «Кто не знает Марью нашу, и красива, и тонка, чуть потоньше винной бочки, чуть пониже потолка…» и т. д., всего двенадцать строф, написанных со свойственной мне живостью пера. Оба раза Любаша, вцепившись в мои плечи сильными, костлявыми пальцами, трясла меня и орала:
– Я с тебя шкуру сдеру!
Она, когда впадала в ярость, могла поднять за шиворот десятиклассницу. Мы ее жутко боялись.
И вот я в третий раз стою перед директорским столом, а напротив меня, в кресле, сидит Любаша и что-то пишет.
Она отложила ручку, подняла голову и приказала:
– Рассказывай.
– А что рассказывать? – спросила я с трусливой готовностью.
– Когда последний раз собирались у Калашниковой?
– Восьмого. В субботу. На ее день рождения.
– Кто был? Фамилии!
– Многие. Я уже точно не помню.
– Врешь! – закричала Любаша. – Помнишь! В глаза смотреть!
Я взглянула ей в глаза – круглые, яростные до белизны, и мои глаза тут же заволокло слезами.
– О чем говорили?
– Ни о чем таком… Мы в испорченный телефон играли…
– Стишки упадочные переписываете? – свирепым шепотом спросила Любаша. – Ахматову тайком читаете? Кто руководит организацией? A-а? Говори!
– Да нет, Любовь Георгиевна! У нас нет никакой организации! – (Какие слова найти, чтобы убедить ее?!) – Мы просто так собирались! Честное слово! Чай пили… А ничего такого мы не…
– Ты, – прервала мой лепет директорша. – Лично ты. Вылетишь. Из школы. С волчьим билетом. Если не назовешь членов организации и не расскажешь, чем занимаетесь на тайных собраниях. Скажешь – поставлю тройку за поведение, этим отделаешься. Ну?
В ошарашенной голове моей тупо заработала мысль: назвать – тройка по поведению, не назвать – волчий билет. Тройка лучше, чем волчий билет. Но кого назвать, если некого назвать?
– Ну?! – страшным голосом крикнула Любаша.
В кабинет сунулась секретарша Ольга Фроловна с какими-то бумагами. Любаша гаркнула: «Вон отсюда!» – и старушка скрылась, бросив на меня сострадательный взгляд.
– Вот он, приказ об исключении, – сказала Любаша. – Мне его только подписать.
И она обмакнула ручку в чернила.
– Не надо! – завопила я. – Любовь Георгиевна, я же не отказываюсь! Но я же не знаю, кого назвать!
– А ты вспомни, – сказала Любаша. – Кто был. О чем говорили. Кто больше всех говорил. Если хорошенько подумаешь, то вспомнишь. Вот тебе бумага, вот ручка. Не хочешь говорить – напиши. А я пока по делам схожу.
Она вышла из кабинета, звеня ключами.
Хоть бы она с лестницы свалилась!
Но она вошла, и снова началось. Любаша орала: «Так-то ты поддерживаешь честь школы!» Я рыдала, слезы капали на лист бумаги. Вот, опять звонок – это уже, наверно, с пятого урока, а меня взяли со второго.
Дверь открылась, и вошла Нина Рудковская, а вслед за ней остальные пять комсомолок нашего класса.
– Кто пропустил?! – заорала Любаша. – Что надо?
Девчонки робко столпились у двери, а Нина одернула платье и вышла вперед.
– Любовь Георгиевна! Мы, комсомолки седьмого «А», пришли защитить свою подругу. Мы даем вам слово, что она ни в чем не виновата.
– Что? – сказала Любаша. Это прозвучало как «Чта-а?!» – высшая форма презрения. – Может, ты и Калашникову защищаешь?! А-а?!
Нина всегда была бледная, а сейчас она стала просто белая. Голос у нее срывался, но не от страха. Она, когда чувствовала свою правоту, – никого не боялась. Хотя Любашу и она боялась.
– Да, я и Калашникову защищаю, – сказала Нинка. – Я с ней провела долгую, откровенную беседу. Она признала, что у нее много личных недостатков. Но ведь личные недостатки могут быть у каждого, важно, чтобы человек их осознал и начал с ними бороться. Калашникова обещала, что начнет, и я ей верю. Что касается Ахматовой, то она не знала, что она запрещенная.
– А вот я и тебя выгоню вместе с ней, – сказала Любаша. – Чтобы не верила, кому не надо.
– Я считала вас справедливой, – сказала Нина. – Я вас уважала. А вы несправедливая. Я вас не уважаю и не боюсь.
Это она – Любаше!
Дзын! Ключи брякнулись на стол.
– Все убирайтесь отсюда! – приказала Любаша. И, брезгливо взглянув на меня: – И ты пошла вон!
Толкаясь, мы вывалились из кабинета в тамбур, где сидела Ольга Фроловна (потом я узнала, что это именно она отыскала Нину и сказала ей – идите, выручайте свою подругу), оделись – и на улицу. А там было солнце, с крыш сбрасывали снег. На тротуарах лежали сверкающие россыпи разбитых вдребезги сосулек. Дворники, подняв головы, смотрели, как отрываются от карнизов и падают вниз ледяные глыбы.
Странно, но ничего нам тогда не было. И тройку по поведению мне не поставили. И Калашникову на открытое комсомольское не вызвали. Ляля Розанова сказала на бюро (а Нина потом передала мне), что Любаша ей посоветовала оставить Калашникову в покое. А Любашины советы воспринимались как приказы.
Вообще, Любаша часто совершала непредсказуемо добрые поступки. Например, той же Нине Рудковской, когда та окончила школу, Любаша помогла поступить на факультет журналистики, дав ей блестящую характеристику. Так что Нинкина мечта осуществилась – она стала журналисткой и написала книгу об отце.
О чем скрипели ступени
Это лето было у меня последним, что я провела в пионерском лагере. На будущий год мне будет пятнадцать, я выйду из пионерского возраста, и меня уже не возьмут в лагерь.
Это было самое лучшее из всех пионерских лет. Может быть, именно потому, что – последнее. С вожатыми отношения были почти на равных. Даже не было стимула особо нарушать дисциплину: нам и без того многое разрешалось, и потом – хотелось оставить о себе хорошую память.
Аккордеонист Слава очень всех объединил, под его аккордеон проходила вся лагерная жизнь: зарядка, построение на линейку, походы в лес и на речку. Днем пели бодрые, пионерские, всякие там «Друзья шагают в ногу…», «Кто в дружбу верит горячо…», но мало-помалу все попали под обаяние совсем других песен, их Слава знал множество, да и мы знали еще по прошлым годам, а кто-то привез новые. До того пропитались песнями, что даже в одиночку пели, они окружали нас как магнитное поле, и все события виделись сквозь песенный настрой. Может, еще и поэтому в лагере установился тон всеобщего доброжелательства. Самые вредные и скандальные под влиянием песен старались доказать свое благородство.
Но всему приходит конец.
Вечером был прощальный костер. Его сложили у реки, врыли в землю высокую сухую елку, к ней прислонили толстые сучья, доски. И в сторонке еще заготовили кучу дров, чтобы подбрасывать. Все расселись полукругом. Двое вожатых запалили елку с двух сторон, плеснув на нее керосином. Огненный фонтан с треском взвился в небо. Ольга Николаевна произнесла речь, которую никто не слушал. Оксана сплясала под аккордеон свой традиционный гопак, две девочки из среднего отряда исполнили басню «Ворона и лисица» – довольно смешно, потому что читала одна, а жестикулировала из-за ее спины – другая. Все это было традиционное, не обязательное, а хотелось в этот последний вечер чего-то необыкновенного. Чтобы запомнить.
Вдруг подошел и сел рядом Петя Лившиц, с которым мы когда-то выкармливали птенца. И хотя это ничего не значило – сел и сел, я подумала: а вдруг не просто так сел? Вдруг сейчас повернется ко мне и спросит: «У тебя есть дома телефон?»
В этом вопросе многое заключено. Он как зародыш дальнейших отношений: скажешь «нет» – он завянет как пустоцвет на тыкве. Скажешь «да» – будет продолжение. Конечно, я бы предпочла более яркую личность. Но более яркие не очень-то мною интересуются. С другой стороны, Петя как человек мне нравится. Если он позвонит мне в Москве и скажет: «У меня два билета в театр» – я пойду. Я никогда еще не ходила в театр с мальчиком.
А после театра он пойдет провожать меня. И в Кривоарбатском переулке мы встретим Сережу Скворцова. И Сережа удивится, что я с Петей, и посмотрит на меня с интересом, и мы втроем будем стоять посреди переулка и обсуждать спектакль.
И кто-нибудь из класса нас увидит, и весь класс узнает, что я дружу с мальчиками.
Эти волнующие мысли сливались с песнями про гавани в далеком плаванье, таверны и пиратов. И я улетала куда-то туда, где скрипят снасти и бушуют страсти.
А Петя сидел и молчал. И вдруг встал, потоптался немного, словно хотел что-то сказать, да так и не решился. И ушел в темноту.
Костер уже догорал.
– Костровые! – крикнула вожатая. – Гасите костер!
Двое мальчишек побежали с ведрами к реке. Вернулись, расплескивая воду, и начали заливать костер. Угли шипели и не хотели гаснуть. То там, то здесь из-под толстых головней вырывались маленькие живучие язычки. Но вода сделала свое дело. Сразу стало сыровато и как-то знобко.
Возвращались не строем, а как придется. Когда взошли на откос, я оглянулась, увидела речку, блестевшую при серпике луны, горбатый силуэт ивы, поляну, и пришло грустное понимание, что сегодняшний вечер не повторится уже никогда. Может быть, в этом и была его необыкновенность.
Наутро была торжественная линейка со спуском флага, а после завтрака всем велели готовиться к отъезду. Некоторые девочки успели сбегать на луг, набрать цветов, чтобы приехать домой с букетами.
Автобусы показались из-за поворота. Один, другой, третий. Подъехали, развернулись, оставив следы шин на волейбольной площадке, и остановились.
Три шофера вышли, сели на скамейку и закурили.
Автобусы пахли горячим бензином, городом, и эти запахи ворвались в запахи леса, смолы, цветов и теплой земли как резкий звон будильника врывается в сон.
И вот уже все столпились у раскрытых дверей, вожатые следят за порядком, пропускают по спискам – сначала малышей, потом постарше, потом самых старших.
Вот расселись, устроились, о чем-то оживленно болтают, смеются.
Последними вошли в автобусы вожатые и воспитательницы. Шоферы побросали окурки, неторопливо поднялись и заняли свои места в кабинах.
Вот натужно гудя и пыхтя, тронулся первый автобус, за ним второй, третий. Мои подруги, прильнув к окнам, махали мне. И я им махала.
Потому что я-то оставалась.
Послезавтра приедет мама, и мы с ней будем жить в деревне Дровнино, неподалеку, а сегодня и завтра я переночую у тети и дяди, которые снимают дачу в той же деревне. А наш пионерский лагерь с завтрашнего дня станет домом отдыха для сотрудников театра Вахтангова, и с ними вернутся некоторые из тех, с кем я провела эти два месяца в лагере. И еще некоторые из тех, кого я знала по прежним годам, но которых уже не брали в лагерь по возрасту. Так что мне скучно не будет. Но это с послезавтра. А сейчас я одна. И еще завхоз Елена Ивановна.
– Ты теперь куда? – спросила Елена Ивановна.
– К тете, в Дровнино.
– На дачу? Ох, разбалуешься, небось.
И она ушла, позвякивая ключами.
Непривычная тишина и пустота. Что-то даже неестественное в этой тишине и пустоте. Пустая волейбольная площадка. Пустой дом. Пустая столовая. Вот сейчас, в это самое время, должен был бы затрубить горн – строиться на прогулку – и зазвучать Славин аккордеон.
Я пошла в дом проститься со своей тринадцатой палатой.
Деревянные перила, ведущие на второй этаж, казалось, сохраняли еще тепло многих рук, которые за них держались. Ступеньки поскрипывали. Как знаком мне этот скрип, как отзывается он во мне грустной, прощальной музыкой! Слушай, слушай, – казалось, говорят мне ступеньки, – в последний раз мы скрипим для тебя, мы еще твои, а завтра мы будем скрипеть под чужими ногами, а для тебя – никогда, никогда… Но почему – никогда? – протестовало во мне. Это всё – мое: скрип ступенек, сумрак длинного коридора, каменный балкон на двух колоннах… Мне еще слышатся знакомые голоса, я знаю происхождение каждой царапины на стене, вот этого отбитого кусочка штукатурки – это всё мое! Нет… нет… Всё это – в тебе, и останется в тебе, но уже никогда не будет твоим, – говорили мне двери, царапины, балясины балкона, похожие на кегли. Когда-нибудь… Совсем-совсем взрослой ты придешь сюда – поздороваться со своим детством. И попрощаться…
Из глубины души звучал очень тихий и очень взрослый голос. Неужели мой?.. Оттуда?.. У меня иногда бывает такое странное состояние, словно я разговариваю сама с собой, со взрослой.
В нашей палате не удалось мне посидеть. Нянечка перестилала постели, кидала в кучу грязные простыни, наволочки, полотенца. Посреди палаты ведро с водой, окно раскрыто на обе створки.
– Не стой в дверях, – сказала нянечка. – Или забыла чего?
– Нет, ничего не забыла.
– Ну и иди, дверь закрой, а то сквозняк. Господи, не успеешь чистое постелить – опять меняй. Слава Богу, пионеры уехали, теперь с отдыхающими поспокойнее будет.
Песочные часы (маленькая повесть)
Запах деревенской избы, смешанный с запахом крема и духов. Высокая деревянная кровать, ватное одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков, тяжелая, словно мукой набитая, подушка. Я лежу на кровати, лицом к печной, побеленной известью стене. День закончился. Еще один долгий, бездонный, разнообразный день лета. День – как маленькая жизнь, так много в него вместилось. Впереди август, тридцать дней-жизней! Целое богатство, сундучок с драгоценностями.
Я пытаюсь вспомнить, что же сегодня было такого необыкновенного? До обеда валялась на пляже, купалась, потом шла домой обедать, после обеда торчала в доме отдыха, смотрела, как играют в волейбол.
Но тут важны мелочи. Тут все дело как раз в мелочах: с кем рядом сидела на пляже, кто потянул за косу и произнес: «Что сидишь? Пошли поплаваем!» Кто как посмотрел и что сама подсмотрела. Маленькие радости, маленькие разочарования, маленькие надежды. Маленькие – только во временном отношении, ведь всего так много, и все втиснуто в один день. Правда, и завтра будет день. И послезавтра. Но послезавтра лежит уже где-то за пределами моего воображения, потому что его заслоняет огромное, безбрежное завтра.
Лежа с открытыми глазами, я прислушиваюсь к звукам избы. Вот за стеной, в хлеву, шумно вздохнула корова. Вот старушка Пелагея Петровна, хозяйка нашей избы, завозилась и закряхтела на своей лавке на кухне. Мама читает за перегородкой при свете керосиновой лампы. Слышно, как время от времени уютно шелестят переворачиваемые страницы.
Издалека, со стороны мельницы, доносится песня. Деревенские поют: «Скакал казак через долину, через манчжурские края!..»
Я напрягаю слух – что же там было дальше с этим казаком? Но голоса внезапно стихают, и только один чистый и слабый голосок еще звучит некоторое время. Этот голосок напоминает мне лесной ручеек: когда лес шумит, его не слышно, а утихает ветер – и становится явственным его слабое позванивание. Я знаю, кто это поет: Зинка Головина, дочка нашей прошлогодней хозяйки. Я представляю себе Зинку, как она идет среди других женщин, рядом с единственным в деревне парнем, Ваней Дубцовым, сутулящаяся, в вытертой жакетке поверх ситцевого платья, в платке, повязанном так, что он закрывает ей лоб до бровей и не видно, какие у нее красивые густые волосы цвета спелой пшеницы.
Вчера Зинка прошла мимо крылечка, на котором мы сидели с мамой и ее подругой Валентиной Ивановной.
– Красотка! – сказала мама, глядя вслед Зинке. – И ведь не осознает этого. Ее бы приодеть…
– Ей бы подошла роль Козетты из «Отверженных», – сказала Валентина Ивановна. – Глаза, выражение лица…
…Как ни слаб свет, пробивающийся сквозь дощатую перегородку, я все же могу видеть и наблюдать странную жизнь, которая проходит рядом со мной. В белой известковой растрескавшейся стене печи, у которой стоит моя кровать, живут клопы. Днем их не видно, наверно, они спят, забравшись в щели, а вечером просыпаются и начинают свою неторопливую жизнь. Тут есть клопы мамы и папы, клопы дети, клопы родственники и знакомые. Они ходят друг к другу в гости семьями, из щели в щель, прогуливаются компаниями и поодиночке, и на известковой белизне отражаются их крохотные тени. Иногда они срываются со стены и исчезают в щели между стеной и кроватью. Потом выползают. Или это уже не те, а другие? У меня с ними отношения спокойные, добрососедские. Я их не трогаю, и они меня не кусают. Если и кусают, то ночью, когда я сплю и не чувствую.
Вот кого я терпеть не могу, это рыжих тараканов, которых тоже очень много в избе Пелагеи Петровны, – усатых, стремительно и осмысленно бегущих куда-то. Особенно их много под чурбаком, на котором стоит чугун с пойлом для поросенка. Однажды Пелагея Петровна, поднимая чугун, опрокинула чурбак, и тараканы так и брызнули из-под него по всей кухне. Казалось, их страшит свет, так бешено, напористо они пересекали светлое пространство и успокаивались только в сумраке углов, и сидели там, безглазо приткнувшись, выставив подрагивающие усики.
Когда проходишь мимо чугуна с пойлом, с него вздымается в воздух туча вспугнутых мух, тяжелых, с отливающими зеленью брюшками. Их жужжание похоже на гул маленьких самолетов. Они летают по кухне, ударяясь о предметы, ищут свой чугун и, найдя, снова принимаются за трапезу. Но многие, потеряв направление, начинают ожесточенно биться в оконное стекло, потом, обессилев, опускаются на подоконник, ползают, спариваются мимоходом, гладят лапками крылья и с новыми силами пытаются преодолеть сопротивление стекла, и в их жужжании можно различить разные оттенки чувств.
Мама считает, что нам в этом году не повезло с дачей. Мне-то, в общем, все равно, в каком доме жить, а маме не все равно. Во-первых, уже то обидно, что нам не досталась путевка в дом отдыха и мы живем по курсовке – рядом с Плёсковым, в деревне, вместе с другими курсовочниками. В прошлом и позапрошлом годах мы тоже брали курсовки, но снимали комнату в хорошем доме – у Марины Федоровны Головиной. Дом был небольшой, но очень аккуратный, с голубоватыми марлевыми открахмаленными занавесочками на окнах, с крашеным зеленой краской блестящим полом, застеленным полосатыми нарядными дорожками, с геранью в жестяных банках на подоконниках.
Но главным украшением дома была сама хозяйка, Марина Федоровна, лет сорока, высокая, статная, с темными спокойными глазами, приветливой улыбкой, с движениями, казавшимися медлительными, может быть, от исходящего от нее спокойствия. Она выделялась среди местных женщин осанкой, ровными белыми зубами, густыми каштановыми волосами с нитями седины. Шла ли она от колодца, перекинув через плечо коромысло и чуть покачиваясь в такт движению ведер, направлялась ли с вилами на скотный двор, возилась ли по дому, казалось, было что-то небудничное в каждом ее движении, даже торжественное.
Ее знали все отдыхающие и уважительно здоровались. Многих деревенских, даже старых, называли просто по имени, а нашу хозяйку всегда по имени-отчеству. Когда знакомые из дома отдыха спрашивали меня:
– Вы у кого сняли дачу?
Я с чувством даже некоторого тщеславия отвечала:
– У Марины Федоровны.
– А-а! – говорили они, и в их тоне мне слышалось уважение к нам, которым сдала дачу сама Марина Федоровна.
У нее было три дочери. Старшая, шестнадцатилетняя Зинка, та, что похожа на Козетту из «Отверженных», работала в доме отдыха прачкой. Средняя дочь, двенадцатилетняя Таня, курносенькая, веснушчатая, востроглазая, не взяла от матери ее красоты и осанки. И еще была пятилетняя Манька, щеголявшая в розовом сарафанчике и без штанов.
Мама в этом году собиралась опять снять комнату у Марины Федоровны, но случилось непредвиденное: весной дом Головиных сгорел. Сгорел дотла, вместе с полосатыми дорожками, занавесочками и геранью. Я узнала об этом еще в лагере. Побежала смотреть, что осталось от дома. А от дома ничего не осталось. Ровный черный квадрат, как след от выпавшего зуба. Даже не было обгоревших бревен. Куда они-то делись? Казалось, что аккуратная Марина Федоровна и в этом осталась верна себе: ни головешек, ни мусора. Чистый черный квадрат. Дом, в котором я помнила каждую фотографию, помнила, как скрипела возле кровати высохшая половица, не существовал больше.
Кто-то остановился рядом со мной. Я посмотрела – это была средняя дочка Таня, беленькая, босоногая.
– Чего глядишь? – спросила она.
– Ничего… Вы где теперь живете?
– В Ярцеве, – ответила Таня. – У дяди Васи. До осени пустил. А там, может, в город переедем. Если Дубцов отпустит.
– То есть как – если отпустит? – не поняла я. – А какое он имеет право не отпустить?
– Так он – председатель колхоза. Паспорт мамкин у него. Захочет – отпустит, не захочет – не отпустит. Конечно, ему нет резону нас отпускать: и так в колхозе народу нет.
Мы еще немного постояли, помолчали. Потом она ушла, а я вернулась в лагерь.
Вот так получилось, что в августе вместо уютного чистого дома мама сняла старенькую, осевшую на один бок избенку Пелагеи Петровны.
На закате в деревню возвращалось стадо. Поднимая пыль, брело по улице. Впереди, мелко семеня, перекрикиваясь, шли грязно-белые и черные овцы. За ними медлительно выступали коровы. Мы с двоюродной сестрой Маринкой смотрели, какая впереди – рыжая или черная. Была примета, что если впереди рыжая, то назавтра будет солнечная погода, а если черная, то погода будет пасмурная.
Открывались калитки, по деревне звенело:
– Машка, Машка, Машка!
– Рыжуха, Рыжуха!
– Звездочка, Звездочка, Звездочка!
Коровы помыкивали, задумчиво жевали, телята толкались, заигрывали друг с другом. Посреди стада по-хозяйски независимо вышагивал крутолобый, низкорослый, но мощный бык. Воздух наполнялся густым запахом навоза, травы, парного молока.
Сбоку от стада брел немолодой пастух в ветхой, выгоревшей добела гимнастерке. Он часто взмахивал длинным кнутом. Кнут делал упругое змеиное движение и в конце этого движения производил неожиданно звонкий, высокий звук, от которого телята начинали скакать галопом, а медлительные коровы чуть-чуть убыстряли свой неторопливый ход.
Стадо по пути редело – коровы знали свои калитки, овец загоняли хозяйки. Улица пустела, пыль оседала, и дачники выходили на вечернюю прогулку.
Пелагея Петровна брала ведро и шла доить корову. Из хлева начинал доноситься короткий, тугой, прерывистый звон. Приоткрыв дверь хлева, я наблюдала, как хозяйка, сидя на низенькой скамеечке, доит свою Рыжуху. Подойти поближе я брезговала – хлев напоминал черное слякотное болото.
Потом хозяйка возвращалась с молоком, над которым вздувалась белая пена, процеживала молоко через марлю в другое ведро и наливала для нас две литровые банки. Еще мы покупали у нее черную смородину, которая росла в палисаднике.
Чем питалась сама Пелагея Петровна, меня, по правде сказать, мало интересовало. Печку она топила редко. Один раз я видела, как она накрошила в миску зеленого лука и хлеба, посолила, залила водой и долго, задумчиво ела.
Но однажды она затопила печь, зарезала петуха, сварила его в чугунном горшке, положила на стол пяток яиц, нарезала крупными ломтями хлеб и поставила бутылку, заткнутую бумажной затычкой и наполненную до половины чем-то мутновато-бесцветным.
В этот вечер к ней пришел ужинать пастух. Пробегая через кухню в свою комнату, я увидела, как он, не торопясь, хлебает горячую куриную лапшу.
Пелагея Петровна сидела по другую сторону стола, пригорюнившись, подперев рукой щеку.
– Пелагея Петровна, можно вас на минуточку? – позвала мама и, когда хозяйка вошла, спросила, кивнув в сторону кухни: – Он что, ночевать останется?
– Ну, – кивнула хозяйка. – Сегодня моя очередь.
– Он что, на кухне будет спать?
– Ну. На лавке. А я на печке.
– А если мне или… кому-нибудь понадобится ночью… это самое…
– На двор-то? Дак и идите на здоровье.
– Неудобно как-то… Мимо этого.
– Да он не услышит, глухой он. Контузило его на войне.
– А! – сказала мама и, помолчав, спросила: – Он что, надолго к вам?
– Да нет, только на одну ночь. Завтра Клавки Лизуновой очередь.
Действительно, когда я утром вышла на кухню, пастуха уже не было, и я испытала чувство облегчения, словно вместе с ним из избы ушло что-то тягостное, мрачное, горькое, скользнувшее тенью по моей бездумной, счастливой праздности.
Каждое утро мы просыпались от звонких и сильных ударов по железной рельсе. Это председатель Дубцов созывал колхозников на работу. Рельса висела привязанная изогнутым металлическим стержнем к нижней ветке могучей березы, которая росла возле председателева дома. Этот гудящий звон напоминал о том, что деревенские жители существуют не только для того, чтобы сдавать нам дачи и снабжать парным молоком и смородиной. Пелагея Петровна, торопясь, собиралась на работу, а Дубцов уже ходил по деревне и стучал в окна.
Колхозники собирались у рельсы, одни женщины, человек пятнадцать. Мужчин в деревне почти не было. Жил, правда, по соседству с нами одинокий старичок в крохотной, похожей на сарайчик, избушке, но он уже не работал в колхозе. Он и ходил еле-еле, опираясь на кривую клюку и тяжело переставляя ноги в валенках. Он иногда подходил к нашему крыльцу, просил у мамы папироску и, пока курил, рассказывал о деревенских событиях. У него были искореженные пальцы рук, каждый сустав как огромный желвак.
– Ревматизм меня замучил, – жаловался он.
Мама ему сочувствовала и кроме папирос отдавала иногда остатки нашего курсовочного питания.
Дубцов был хороший председатель. Так считали мама и ее подруги. Вообще, все дачники хвалили Дубцова как председателя. Он был моложавый, ладно скроенный, с умными, очень светлыми глазами на загорелом грубоватом лице. С дачницами он был приветлив, а те считали за честь, если он останавливался поговорить с ними. Они кокетливо спрашивали у него:
– Когда же вы наконец женитесь, Иван Васильевич?
– Да кто за меня, черта старого, пойдет, – отвечал он, открывая в улыбке ровные зубы и тоже чуть кокетничая.