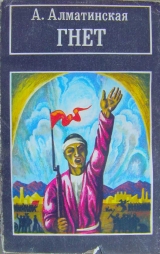
Текст книги "Гнёт. Книга 2. В битве великой"
Автор книги: Анна Алматинская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Тот тонко улыбнулся и в тон ответил:
– Без козыря, отец Владимир…
Все засмеялись. Древницкий усмехнулся.
– Я не о том… Зачем переезжаешь в дом с привидениями? Говори начистоту, здесь все свои.
Священник оглядел всех весёлыми голубыми глазами, оглянулся на дверь.
– Скажу по секрету. На днях вызвал меня настоятель собора. Показывает секретный наказ святейшего синода. Все силы употребить на то, чтобы зажечь веру в народе. Много развелось вашего брата, атеистов. Вот и приказано открывать мощи, совершать чудеса…
– Ну, а зачем вам надо вселяться в дом с чертовщиной? – недоумевал Смагин.
– Вот отслужу молебен, вселюсь – и конец привидениям. Вот вам и чудо.
Галлер внимательно посмотрела на говорившего.
– Значит, вы не верите в загробный мир?
– Клара Германовна, вы же знаете, что я преподавал физику, а физика с чудесами магии несовместима. Давайте доигрывать роббер…
Винтёры углубились в игру, а вернувшаяся хозяйка, усадив Машу, стала с помощью денщика накрывать стол к ужину.
Действительно, о пустующем почти год доме Чечевицына носилась худая слава.
Население русской части города волновалось. Обеспокоенный губернатор назначил совещание, пригласив настоятеля вновь выстроенного собора и бригадного священника – отца Василия.
– Как же так случилось, святые отцы, что нечистая сила одолела? – серьёзно и недоумённо спрашивал губернатор.
Отец Василий взглянул на иерея. Тот склонил голову. Священник уверенно начал:
– Святая церковь признаёт существование злого духа. Считаю, что борьба с ним должна вестись религиозными выступлениями и силой молитвы.
К концу заседания неожиданно явился пристав Кан-дыба.
– Что случилось? – спросил строго губернатор, впервые увидев в сильном смятении человека, видавшего виды.
– Им-ме-ю честь до-до-ложить… был с облавой в доме Чечевицына…
– Ну и что?
– В-о-от! – Кандыба разжал кулак – на ладони лежали две пули от нагана.
– Объясните! – приказал губернатор.
Кандыба попытался объяснить, но говорил сбивчиво, запинаясь. Порой совсем нельзя было его понять.
– Мне дали знать, что в запертый дом кто-то проник. Я и пять полицейских, один с фонарём летучая мышь, вошли в дом… Слышим – шаги в комнатах. Посвистывают. Я приказал двоим занять выходы, а мы, четверо, по слуху кинулись… Вошли туда, где картина… Сатана из мрака смотрит на нас, глаза горят, зубы скалятся. Кричу: "Вихров, мазни-ка эту рожу". В тот же миг за нами кто-то захохотал да как стукнет в бок меня, Вихрова и ещё одного. Подняли фонарь – откуда-то ветер дунул, огонь погас. Все испугались, я выхватил револьвер и бац в картину. Она мигом осветилась и погасла. Дьявол захохотал да в меня пулей бросил. Я опять выстрелил, и опять пуля обратно прилетела, горячая… Тут мы все выскочили на крыльцо… Отдышались, зажгли фонари да с молитвой опять вошли. Пули подобрали… Я сюда на извозчике приехал. Вот наган, пять пуль целые, а эти два патрона стреляные.
– Да, пожалуй, вы правы, отец Василий, – обернулся губернатор к священнику, – только молитвой можно бороться.
* * *
В то время, когда у губернатора велись взволнованные разговоры, в доме Чечевицына, в тёмной комнате, выходившей в сад, на разостланной кошме лежало четыре «призрака»: Буранский, Серёжа, Хмель и дядя Ваня.
– Ловко одурачили полицию, – пробормотал дядя Ваня. – Мастер ты на выдумки мистер топо-граф.
Буранский покрутил головой.
– Боялся я, что Вихров не сумеет разрядить приставский наган….
– Эх, друг. Вихров так зол на них, что впотьмах насовал приставу кулаков, душу отвёл. А Кандыба здорово напугался, – говорил Хмель, похохатывая.
– Не вернулись бы они… – осторожно всматриваясь в лунный свет, лившийся из окна гостиной, сказал Серёжа.
– Нет, не сунутся. Пребывают во власти религиозных предрассудков. Всё же проверю наши запоры, – дядя Ваня подошёл к двери на террасу. Дверь была подпёрта изнутри. Боюсь, опять нагрянут днём, прощупают стены и обнаружат наш потайной ход.
– Ничего подобного! Слушайте прорицание оракула… – Буранский набрал полную грудь воздуха и замогильным голосом начал: – Завтра в полдень явится поп во всём параде с причтом, соберётся трепещущий народ, отслужит молебствие, обойдут с крестным ходом, со святою молитвой сад. Потом поп, отважный и лукавый, наймёт этот дом. Чудо совершится. Черти утихнут, а наши печатники, расширив тайник, спокойно будут печатать листовки.
– Ну и ну! Буран-бай, так ты и батю вовлёк в революционный заговор.
– Как ни береглись мы, а ряды наши поредели. Этот проклятый Крысенков многих угнал в отдалённые углы России, – говорил с грустью дядя Ваня.
– Знаете, что говорят узбеки? Возле Троицкого живёт семья Нурмата, у них родственник в старом городе, так он часто наблюдает со своей балаханы[1]1
Балахана – лёгкая каркасная надстройка над первым этажом дома.
[Закрыть], как Крысенков и его начальник после полуночи мучают людей… – тихо рассказывал Серёжа.
– Где? Как они могли видеть? – спросил живо Буранский. – Сказки, видно…
– Окно кабинета выходит на Анхор. Летом жарко, окно открыто настежь. Ночью как-то встал старик, полез за клевером, подкормить лошадь. Взглянул и ахнул. Как на ладони и комната и люди. Мучили какого-то человека, потом пристукнули и выкинули через окно в реку.
– Сергей, устрой меня на этой балахане, сам хочу убедиться.
– Хорошо. Карим отведёт тебя завтра. А где Соколёнок? Давно его не вижу, уж не попал ли в застенок? – тревожно спросил Сергей.
– Этот не скоро попадётся, ловкий. Он поехал в Самарканд и Асхабад, ведёт работу среди солдат. Скоро приедет.
– Уже приехал, друзья, – раздался спокойный голос возле них.
– Фу ты, чёрт, Соколёнок! Напугал как… – Буранский обнял пришедшего за плечи.
– Как ты, парень, проник сюда? И шума никакого мы не слышали, – удивлялся Хмель. Он потянул к себе Андрея. – Садись!
Соколёнок сел на кошму, вынул из кармана свёртки, зажёг небольшой ночник, устроив из бумаги колпак, чтобы свет падал на кошму.
– Питайтесь, товарищи! О вашем сражении знаю. Два фараона на углу рассказывали. Всё время молитвы читали да зубами щёлкали.
– А как сюда проник? Словно мышь. Двери мы заперли… – спросил Буранский.
– Как? Очень просто. Подвальное окно оставили без наблюдения. Не одобряю. Вот через окно – и в тайник. Ну а двигаюсь-то я вообще бесшумно. – Соколёнок сообщил неутешительные вести. – В Асхабаде жандармы свирепствуют. Малейшее подозрение – сразу без суда и следствия в административном порядке высылают на три года и больше.
– У нас то же самое…
– Зато в Самарканд приехал из Баку большевик Морозов. Это голова! Сразу повёл деловую борьбу.
– Где он устроился?
– Работает редактором газеты. С ним считаются, печать – великое дело! Популярность у него громадная.
Буранский в свою очередь рассказал Андрею о том, что хочет ночью понаблюдать за кабинетом жандарма.
– Нет, Буран! Этим делом займусь я, у меня счёты с жандармами. Запомнят они Соколёнка!
– Надо тебе, Соколёнок, завтра побывать у комитетчиков. Собираемся мы редко, следят, но работу ведём большую. Вот когда сюда переедет отец Василии, будем чаще встречаться. Весь подвал в пашем распоряжении, Сюда ни охранка, ни полиция не сунутся. А ты поостерегись, как бы дьявол Крысенков не дознался. Хочет устроить облаву. – Дядя Ваня похлопал Андрея по плечу.
– Помнишь, Хмель, моего опекуна жандарма?
– Калач-то… Всё ещё служит? И богу молится?
– Служит у Крысенкова. Богу ещё больше молится, но, говорит, невмоготу. Хочет заявить начальству о делах ротмистра.
– Мне один врач говорил, что Крысенков садист и морфинист, – подал реплику Сергей. – Надо бы его устранить, – добавил он тихо.
– Многие так думают, но без указания комитета нельзя, – строго сказал дядя Ваня.
– Слушайте, товарищи, как вы считаете, не пора ли проверить комитетчиков? Странно, в последнее время почти каждое решение становится известным жандармам.
Андрей говорил спокойно, но веско. Буранский поддержал Андрея.
– Что касается меня, то находящимся здесь, хотя из них только один член комитета, я доверяю больше, чем всему комитету.
Дядя Ваня задумался, как бы взвешивая свой ответ, проговорил:
– Верно, несколько провалов было. Я и сам не всем доверяю. Вот Корнюшин, Баранов, Литвишко – это люди верные.
– Поживём – увидим, – откликнулся Буранский. – А сегодня ночевать придётся здесь.
* * *
На границе нового и старого города высятся крепостные стены. Хотя крепость утратила своё оборонное значение, там хранились запасы снарядов, пороха и оружия.
На одном из барбетов крепостной стены стояла пушка, из которой ежедневно, как в Петербурге, в двенадцать часов дня делали один-единственный холостой выстрел. По этому выстрелу жители проверяли часы.
В казармах, находящихся внутри крепости, расположились части Первого Туркестанского линейного, полка, команды артиллерийского склада и мастерских.
Возле крепостных ворот, под стенами крепости, было выстроено двухэтажное кирпичное здание – казармы Первого Ташкентского резервного батальона. К зданию примыкал молодой сад с маленьким домиком генерала Черняева.
Часто возле казарм появлялся босой парень узбек в длинной белой рубахе и коротких штанах из грубой маты. Обычно на голове он нёс кустарный кованый таз красной меди, завёрнутый в старую скатерть.
Солдаты всегда радушно встречали его появление и, обступив, раскупали горячие пирожки "самса" с мясом, обильно сдобренные луком и перцем.
Месяца два торговал парень. Каждый день после пушечного выстрела он появлялся в аллейках сада и, остановившись невдалеке от казарм, ставил на камень свою ношу и ждал покупателей.
Ждать ему приходилось недолго, обычно раздавался весёлый крик:
– Рустамка пришёл! – затем резкая трель разбойничьего посвиста – и солдаты толпой окружали торговца, хлопали по плечу и разбирали копеечные пирожки. Парень улыбался во весь рот, повторяя:
– Карош, яхши, горячика…
Кроме этих слов он ничего не знал. Каждый пирожок он завёртывал в листок бумаги, вынутый из-за поясного платка, причём, если покупатель брал сразу два пирожка, он один заворачивал в бумажку, вынутую с правой стороны, а для второго вынимал бумажку с левой.
Быстро распродав товар и захватив под мышку таз, он исчезал так же внезапно, как и появлялся.
Однажды, на беду парня, в час его торговли из казармы вышел офицер, дежурный по батальону. Он взглянул на пышную зелень молодого сада и устремился в тенистую прохладу. Он видел вдали группу солдат, обступивших продавца, и, наверное, не обратил бы на это внимания, если бы не наткнулся на солдата, прижавшегося спиной к дереву и жадно читающего листок с жирными пятнами. Он так углубился в чтение, что позабыл о зажатом в руке пирожке и не заметил подходившего офицера.
Тот хотел накричать на нерадивого солдата, но, подойдя ближе, узнал в нём взводного; восторженное выражение лица этого всегда уравновешенного службиста удивило начальство.
– Что читаешь, Замятин?
Читавший вздрогнул, побледнел и, вытянувшись в струнку, молчал.
Офицера Стречковского, карьериста с мелкой душой, товарищи не любили, а солдаты ненавидели.
– Я тебя спрашиваю! – повысил голос офицер.
– Бумажка попалась, завёрнут был пирожок…
– Дай сюда.
Тот безропотно протянул скомканную листовку. Офицер разгладил её и прочёл первые строки:
"Ко всем солдатам!
Товарищи солдаты! Объединяйтесь со своими братьями рабочими, боритесь за свои человеческие права. Царь и его свора сделали вас пушечным мясом…"
Стречковский не стал читать дальше, он обернулся и зычно крикнул:
– Задержать продавца! Эй, Кравченко! Скорей сюда, – позвал он вышедшего из крепости фельдфебеля. Тот пустился во всю прыть.
– Что прикажете?
– Сейчас же задержать продавца пирожков, доставить в канцелярию. Следи, чтобы солдаты не читали вот таких листовок. Всё собери и представь мне. Солдат, покупавших пирожки, перепиши, начни с Замятина.
– Слушаюсь.
Офицер направился в помещение канцелярии, а Кравченко побежал выполнять приказание. Но пока шла беседа офицера с фельдфебелем, половина покупателей растаяла в зарослях сада.
…Парень, добродушно улыбаясь, не делал попытки к бегству. Наоборот, он приветливо предложил фельдфебелю свой товар:
– Ашай, сарбаз… Яхши самса[2]2
Ешь, солдат… Хорошие пирожки.
[Закрыть].
– Пойдём-ка, брат, до начальства. Иноятов! – позвал он стоявшего в стороне солдата татарина. – Стереги его, чтобы не убег. Стой, не уходить! Ишь, всего пять человек осталось. Куда подевались ребята?
– Не могу знать, – пробормотал белобрысый солдат, дожёвывая пирожок.
Фельдфебель всех переписал и повёл незадачливого торговца к своему грозному начальству.
Неповоротливый, как слон, добродушный и беспечный предстал парень перед грозные очи офицера. Он назвал себя Мансуром. На вопрос, где берёт запрещённые листовки, отвечал, широко открыв глаза.
– Зачем запрещённые?
Однажды он их нашёл целую пачку на базаре возле караван-сарая.
– Украл, значит?
– Зачем украл? Воровать грех. Мансур никогда не воровал.
Он смотрел так изумлённо, говорил таким искренним голосом, что невольно внушал доверие… Стречковскому стало скучно вести допрос, и он решил передать арестованного в жандармское отделение.
Так Мансур очутился в том неприветливом здании на крутом берегу Анхора, о котором носились такие мрачные слухи.
Три дня просидел бедный парень в тёмном сыром чулане. В ответ на все вопросы он глупо улыбался и твердил всё одно и то же.
Первые листовки он нашёл, вторые купил у "анашиста"[3]3
Анашист – человек, курящий анашу – одуряющий наркотик.
[Закрыть] за три копейки, что раньше пирожки он не завёртывал.
Крысенков выходил из себя и требовал признания, что Мансур имеет связь с революционерами.
Хотя вызванные на допрос солдаты, опустив глаза, все как один подтверждали показания арестованного, ротмистр не прекращал дела. Ему нужна была жертва. Несколько месяце" он не вёл допросов сам. В одни из апрельских вечеров, когда пряный запах акации дурманит голову, а тёмные ночи дышат тайной и лаской, Крысенков сидел в своём кабинете, медленно потягивая коньяк из серебряного стаканчика. Неожиданно открылась дверь, в неё протиснулся толстый полковник. Несколько дней назад полковник поднялся с постели после мучительных припадков острой боли и печени.
Ротмистр встал.
– Прошу, полковник, в кресло. Не угодно ли? – Он указал на коньяк.
Полковник, вздохнув, облизнул пересохшие губы, сказал с сожалением:
– Запрещено строжайше. Ни спирта, ни волнений. Полное спокойствие.
– В наше-то время? Мудрено выполнять такие предписания.
– Подумайте, как нелепы врачи. С одной стороны – война, сын попал в плен, с другой – революция как на дрожжах поднимает все слои общества, а они – полное спокойствие…
– Революцнонеры-то обнаглели…
У полковника заблестели заплывшие глазки. Он плотоядно улыбнулся. Понизив голос, спросил:
– Сцапали кого-нибудь? Что они замышляют?
– Замышляют празднование Первого мая. Железнодорожные мастерские бурлят. Листовками наводняют город. Неуловимы, черти. Сцапали – так, мелочь, плотва.
Помолчали, каждый думая о своём. Наконец полковник спросил шёпотом:
– А позабавиться с кем-нибудь есть?
Крысенков окинул своего начальника пренебрежительным взглядом.
– Развлечься хочется? А потом будете труса праздновать как прошлый раз?
– Так это, того… Тот русский был. Рабочие шум и гам подняли… А вы бы этими, аборигенами, забавлялись, бессловесный народ, покорный…
Ротмистр, прищурившись, смотрел на лампу, казалось, что-то обдумывал. Потом, вздохнув, проговорил:
– Что же, потешу вас. Попался гусь, листовки распространял.
– Серьёзно? – полковник насторожился.
– Какое! Глуп, бестолков, по-русски – ни бельмеса! Но… бечара[4]4
Бечара – бедняк.
[Закрыть], о нём никто не вспомнит.
– Да ну! Давайте, давайте его!..
Ротмистр нажал кнопку настольного металлического звонка, тот резко заверещал. В кабинет вошёл степенный вахмистр и вытянулся у двери.
– Вот что, Калач! Там у нас сидит парень из старого города…
– Так точно. Мансуром звать.
– К чёрту! Как звать – наплевать. Тащи его сюда. Только руки свяжи: здоровый чёрт…
– Он смирный, ласковый…
– Не разговаривать! Исполняй.
– Слушаюсь.
Калач вышел, постоял в раздумье, перекрестился и тихо прошептал:
– Прости, господи, и помилуй. Нет моей вины в душегубстве.
Замедляя шаг, направился в небольшую каморку. Там было так тесно, что даже человек среднего роста не мог лечь. Калач открыл дверь. Свет от лампы, висевшей в коридоре под потолком, осветил арестованного. Он сидел на полу возле стены, охватив руками колени и опустив голову.
– Мансур! – окликнул вахмистр, с состраданием глядя на юношу. – Айда, допрос будет.
Мансур с недоумением смотрел на жандарма. Тревожный сон, едва смыкавший его веки четвёртую ночь, ещё не прошёл. Он встал, распрямил плечи, поднял и опустил, разминаясь, руки.
– Нима?[5]5
Что?
[Закрыть] Моя айда дома?
Его глаза радостно блеснули. Калач сокрушённо покачал головой.
– Яман[6]6
Плохо.
[Закрыть], Мансур, допрос будет, допрос… Сам шайтан мучить будет… Кончал Мансур. – Он говорил взволнованно, коверкая слова, хотя знал, не понимает по-русски парень. А тот стоял, как всегда широко улыбаясь, но что-то острое, грозное мелькнуло в глазах, быстро прикрытых веками. Он шагнул в коридор, опять развернул плечи, раскинул руки, сжал и разжал кулаки.
– Эх ты! Разминаешься, не знаешь, что ждёт тебя, – бормотал вахмистр, доставая ил ящика, стоявшего у стены, короткую верёвку. Отводя руки арестованного за спину, бормотал:
– Прости, господи Иисусе. Не моя пина.
Юноша охнул и, что-то бормоча, освободив руку, показал на вздувшуюся под рукавом опухоль.
– Болит? Ладно, я легонько. Приказал связать, – он махнул в сторону двери.
Действительно руки он связал только для вида, их можно было легко освободить.
Через несколько минут арестованного ввели в кабинет. Он был спокоен, добродушная улыбка освещала весёлое лицо. Он низко поклонился офицерам и встал посреди комнаты.
– Калач, можешь отправляться. Будь на крыльце, никого не пускай.
– Слушаюсь.
Жандарм повернулся налево кругом, бросил жалостливый взгляд на парня и вышел.
– Как вам нравится экземпляр? И ни слова по-русски не понимает. Прелесть? – спрашивал Крысенков, роясь в шкафу и доставая какие-то коробочки.
– Не нравится. Силён, как бугай. Всё перевернет…
– А мы ему вспрыснем укрощающее, вся сила исчезнет. А пока страхом…
Он приготовил шприц, наполнив его жидкостью, разложил иголки и, закурив, подошёл к Мансуру. Указывая на пол, приказал:
– На колени, мерзавец!
Тот добродушно посмотрел на ротмистра, догадавшись, опустился на колени, что-то жалобно забормотал.
– Вот видите, никакой эсперанто не сравнится с интонацией голоса толкового человека. Ну ты, ишак… Где брал листовки? Говори, скотина, да по-русски!
Арестованный затряс головой и жалобно забормотал:
– Бельмейман, бельмейман, тюря[7]7
Не понимаю, не понимаю, начальник…
[Закрыть], пожалуйста… – Лицо его было робким и жалким.
– Ага, выучился по-русски. Не так ещё запоёшь.
Ротмистр подошёл, взял маленькие ножницы. Надрезал ворот рубахи на спине и разорвал до пояса. Не слушая жалобного бормотания, он прижал к обнажённому плечу папиросу. Мансур дёрнулся и закричал.
– Цыц ты, животное! – заорал Крысенков, беря шприц.
– Говорил, трудно будет. Скорее обессильте его, – просил полковник, горящими глазами наблюдая за искажённым болью и ужасом лицом юноши.
– Ничего, сейчас приложу другую печать, а потом шприц.
Он стоял, держа в правой руке шприц, а в левой папиросу. Но едва он сделал движение, как Майсур эластичным прыжком вскочил на ноги и крикнул на чистом русском языке:
– Другую печать я сам тебе приложу, проклятый?
В тот же момент сокрушительный удар по скуле отбросил ротмистра в угол, где он растянулся во весь рост. Поражённый полковник, выпучив глаза, смотрел на происходящее, почти инстинктивно схватил лежащий на столе револьвер, но увесистый кулак, сунутый ему в нос, заставил его взвыть; осев в кресле, полковник медленно сполз под стол. Очнувшись, ротмистр увидел в открытом окне широкую обнажённую спину и крепкий бритый затылок в старенькой тюбетейке.
Как молния, кинулся Крысенков к столу, схватив револьвер, выстрелил, целясь в затылок.
Ярость и вспышка от выстрела помешали увидеть результаты. В тот же момент послышался всплеск.
Из-под стола выглянуло бледное испуганное лицо с посиневшим и распухшим носом.
– Сбежал? – хрипло спросил полковник.
– Едва ли… Стреляю я метко, – шепеляво ответил ротмистр.
– А ведь, батенька, этот подлец свернул вам скулу… – говорил, соболезнуя, полковник, ощупывая свой нос.
Только теперь оба почувствовали боль в изуродованных лицах.
– Упустили опасного революционера! – негодовал Крысенков. – Чисто говорит по-русски и комедию ломает, артист!
– Что же делать? Искать?
– Кажется, я ухлопал его. Быть может, труп вынесет на отмель. Надо послать завтра. Ну я, поеду в госпиталь. Сил нет, болит.
– А я домой, – пробормотал полковник, прикладывая к носу смоченный коньяком платок. – Проклятый щенок!..
* * *
В маленьком дворике ювелира Рузмата на айване, закутавшись в тёплые ватные одеяла, спал хозяин. Хотя ночи были прохладные, старику было душно в комнатах. День и ночь он проводил на айване. По-стариковски чуток сон, перед самым рассветом Рузмат ощутил лёгкое сотрясение крыши и какие-то звуки, похожие на побрякивание ашичек[8]8
Ашички – бабки.
[Закрыть], которыми правнуки играли с друзьями. Вначале старик подумал, что это землетрясение, но, проснувшись окончательно, понял – другое что-то. В это время на крыше раздалось заглушённое чихание. Рузмат встал, запахнул халат, всунул босые ноги в калоши и сошёл с айвана.
– Кто? Албасты[9]9
Албасты – злой дух.
[Закрыть], что ли?..
– Это я, дедушка, Рустам… сын Арипа…
– Так чего ты на крыше зубами стучишь? Скорей слезай.
По развесистому урюковому дереву быстро спустился внук. Мокрый и дрожащий, он пробормотал:
– Озяб… Не хотел вас пугать.
– Ийе! Нашёл время купаться. Снимай мокрое, ложись под одеяла. Сейчас принесу чай. В мангале стоит чайник.
Отогреваясь, Рустам рассказал деду, как, попав в жандармское управление, назвался Мансуром-сиротой. Как его там хотели замучить и как он ушёл, прыгнув из окна в Анхор.
– Едва успел, стрелял, дьявол. Оцарапала плечо пуля.
– Надо перевязать…
– Пройдёт. Только кожу содрало.
– Аллах велик! Спи, дитя, светать уже начинает.
* * *
…На тихой Карасу в курганче постаревшего Арипа – печаль и тревога. Вот уже двое суток мучается родами старшая дочь Малахат. Со всей махалли собрался целый синклит бабок-повитух, проделывающих с роженицей дикие ритуалы: то мнут ей живот, отчего у бедной жертвы вырывается мучительный крик, то начинают кружиться, ударяя в бубен и покрикивая: «Выходи, выходи!» А то ещё подхватят под руки и таскают по комнате, пока Малахат не потеряет сознания.
Арип сидел на айване, не замечая принесённой женой чашки с кислым молоком и горячей лепёшки. Мучения дочери болью отзывались в сердце. "Как облегчить их?" – спрашивал он себя и не находил ответа. Что может сделать тут он, мужчина? Если бы его дочери угрожала опасность или обида от людей, то засучил бы Арип рукава на ещё крепких руках и разделался с обидчиком. А тут он бессилен. Бессилен ли?
Он вспомнил. Русская женщина – врач Марьванна – вот уже два года работает в больнице старого города Ташкента. Так почему же он Арип, не свезёт дочь в старый город? Ведь он же знает, как сильна наука у русских, знает, как врачи поднимали на ноги больных, от которых отказывались табибы[10]10
Табиб – лекарь, знахарь.
[Закрыть].
В это время раздался мучительный вопль Малахат, потом её жалобные причитания. К Арипу подбежала взволнованная Хасият. Опустившись на кошму, она простонала:
– О аллах… Мучается бедная. Кричит: "Хочу к Марьвание…" – Кондом головного платка утирая слёзы, Хасият робко взглянула на мужа. Арип решительно поднялся на ноги.
– Готовь её. Сейчас запрягу арбу, свезу в больницу. Ты тоже поедешь…
Жена благодарно взглянула на мужа и заспешила к больной. Минут через пятнадцать из ворот выехала арба, где на ворохе одеял лежала больная. Над ней, как птица над птенцом, распростёрлась серая паранджа Хасият.
В тесном переулке за мечетью Шейхантаур протянулось свежевыбеленное одноэтажное здание. Большие окна с чисто вымытыми стёклами, казалось, приветливо улыбались. Арип завернул в открытые ворота и остановился у крыльца. Тотчас из двери вышла немолодая женщина в свободном светлом платье и в белой косынке, закрывающей волосы. Серьёзное лицо с пытливыми чёрными глазами было приветливо. Она спросила по-узбекски:
– Братец, бы больную или роженицу привезли?
– Дочку привёз, сестрица. Вот мать всё расскажет…
Женщина понимающе кивнула головой и, указывая на следующую дверь, проговорила:
– Вот к тому крыльцу подъезжайте. Сейчас придёт доктор… Да вот и она!
Арип оглянулся. В ворота въехала маленькой пролётка. Сытая рыжая лошадь не спеша, повинуясь руке кучера, свернула под навес и остановилась. С пролётки сошла статная женщина лет сорока, и тёмной юбке, и светлом шёлковом лифе с пышными рукавами, на голове у неё была маленькая круглая шляпка.
Несмотря на некоторую полноту, легко ступая, она подошла к арбе.
– Что тут, Фатима? Роды?
Акушерка, уже переговорившая с Хасият, объяснила:
– Первые роды, два дня мучается.
Молодая женщина откинула с лица чачван и страдающими глазами смотрела на врача.
Мария Ивановна положила ей на лоб руку, погладила по волосам и ласково сказала:
– Всё будет хорошо, потерпи немного.
Видимо, тряска на арбе и волнение сделали своё дело, роды начались часа через три. Мария Ивановна, надев широкий белый передник и повязав голову косынкой, хлопотала около роженицы. Она сумела сделать нужный поворот, ребёнок вышел головкой, но был синим и безмолвным. Очевидно, старания повитух, их "массаж" привели новорождённого в состояние, подобное смерти. Заметив на шее ребёнка петлю пуповины, она размотала её и распорядилась:
– Горячей воды!
Сиделка бросилась выполнять распоряжение.
– Фатима, займитесь матерью, дайте ей рюмку портвейна. Я постараюсь вернуть к жизни ребёнка. Чудесный мальчишка!
В течение часа Мария Ивановна настойчиво боролась за жизнь этого крошки. Наконец она заметила признаки жизни и удвоила свои старания. И вот слабый писк прозвучал в комнате. Услышав его, Малахат счастливо улыбнулась. Передав ребёнка на попечение Фатимы, врач подошла к матери. Та взяла обеими руками крупную, ещё влажную от воды руку и прильнула к ней губами.
– Марьванна… джан… Рахмат![11]11
Рахмат – спасибо.
[Закрыть]
Хасият, сидевшая на полу возле кровати, подтянулась ближе, со слезами обняла колени женщины, спасшей ей дочь и внука.
– Усни, Малахат, а потом покормишь ребёнка, – сказала Шишова, забыв, что узбечки её не могут понять.
Подошедшая Фатима перевела слова врача и показала женщинам малютку.
Мария Ивановна внезапно почувствовала страшную усталость. Проводя рукой по волосам роженицы, повторила:
– Спи, спи, кызым[12]12
Кызым – дочка.
[Закрыть],– и вышла на крыльцо. День был жаркий, небо синее, деревья в полуденной дремоте поникли листьями. Мария Ивановна глубоко вздохнула. Как хорошо! Спасены две жизни. Ведь там, в ичкари, погибли бы и мать, и дитя.
* * *
Вечером на заседании Медицинского общества Мария Ивановна горячо выступала.
– Мало внимания уделяет Городская управа медицинской помощи женщинам-узбечкам. До сего времени у нас теснота и нехватки. Привезут роженицу, а положить её после родов некуда. В общее отделение нельзя: можно занести инфекцию. Вот и сегодня. Молоденькая, первые роды, трудные. Пришлось положить в кабинете.
– Позвольте, как это занимать кабинет больными? Это не порядок, – возмущался престарелый городской врач Баторов.
– Я трижды обращалась к городскому голове, просила достроить помещение. Свободная земля есть рядом. Вот уже год дело не двигается. Инструментов и медикаментов недостаточно, это мешает работе. Я прошу наше совещание вынести решение и опубликовать его в печати. Быть может, тогда управа раскачается.
Врачи горячо поддержали Марию Ивановну.
– Надо, надо бороться с рутиной в чиновном обществе. Будем выступать в печати. – Так суммировал выступления врачей председательствующий.








