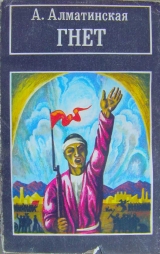
Текст книги "Гнёт. Книга 2. В битве великой"
Автор книги: Анна Алматинская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Кабинет был заново отремонтирован, разросшиеся перед окном деревья защищали комнату от знойных солнечных лучён.
Самсонов нетерпеливо нажал кнопку электрического звонка, тотчас отворилась дверь и, бесшумно ступая по бухарскому ковру, к столу приблизился молодой адъютант.
– Позвольте доложить: прибыли председатель суда, прокурор и следователь.
Генерал поднял тяжёлую голову с густой холёной бородой и тоном приказа произнёс:
– Пригласите. И никого больше не впускать.
В кабинет вошёл грузный седой генерал, за ним с портфелем в руке шагал худой, жёлчного вида полковник. Шествие замыкал высокий добродушный штабс-капитан – следователь по делу "беспорядков в Троицких лагерях". Он держал в руках две объёмистые папки, набитые бумагами.
Когда все, поздоровавшись с начальником края, расселись возле стола, Самсонов спросил штабс-капитана:
– Закончили следствие?
– Так точно, ваше высокопревосходительство.
– Сколько человек подлежат суду?
Самсонов, хмуря брови, вопросительно смотрел на следователя. Тот достал бумагу, прочёл и ответил:
– Четырнадцать человек безоговорочно признали себя виновными. Двадцать человек понимали, что это бунт и сочувствовали. Остальные отнекиваются. Говорят, ничего не знали…
– Не знали… Просто струхнули, – жёлчно заметил прокурор. – В охранное отделение давно поступали донесения о связи сапёров с рабочими железнодорожных мастерских. Натворили дел, а теперь трусят, подлецы! – При этих словах щека прокурора нервно задёргалась. Он недружелюбно посмотрел на следователя.
– Я старался быть объективным, – вспылил штабс-капитан.
Самсонов выдвинул ящик, достал листовку, протянул следователю:
– Прочтите вслух.
Штабс-капитан послушно поднёс листовку к глазам и громко прочёл:
"Долой суд палачей!
Товарищи солдаты! Суд идёт!
Суд лютый, страшный суд, каждое слово которого – обман… Этот суд несёт жестокую казнь и кару нашим братьям, восставшим против насилия и тирании.
Только выбранное от всего народа правительство даст нам праведный суд. И перед тем великим народным судом предстанут царские судьи-палачи.
Так пусть же готовятся к нему палачи, которые теперь судят наших товарищей – борцов за правду и свободу.
Долой самодержавие! Долой произвол!"
Ещё будучи кадетом, штабс-капитан славился своими декламаторскими способностями. Он выступал на вечерах, потрясая слушателей чтением "Сакия-Муни". Надо признаться, что голос у него был звучный. Не вникая в смысл листовки, он читал с подъёмом и так выразительно, что генерал-судья в ужасе таращил глаза, прокурор поёживался, а Самсонов из-под опущенных век следил за выражением лица декламатора. Провозгласив; "Долой само…", штабс-капитан поперхнулся. Потом убитым голосом прошепелявил: "Долой произвол". Самсонов усмехнулся и пододвинул к нему расшифрованную телеграмму. Но теперь следователь из предосторожности сначала пробежал глазами по написанному, а уже потом с выражением прочёл: "Резолюция его императорского величества на донесение о выступлении сапёров. "С виновниками бунта должно быть поступлено беспощадно!"
– Так вот, господа. Воля государя – закон, помните об этом и никаких объек-тив-ных настроений! – проскандировал начальник края.
В середине августа местные газеты скупо сообщили: "Четырнадцать человек сапёров приговорены к повешению. Приговор приведён в исполнение десятого числа. Остальные участники приговорены к каторжным работам на разные сроки".
В числе казнённых были Павел Волков, Бунин и Слободский. Их хорошо знали рабочие железнодорожных мастерских.
* * *
На Адмиралтейской набережной у самого парапета, сковывающего Неву, стоял Ронин. Он задумчиво смотрел на тяжёлые свинцовые волны реки, кое-где расцвеченные белыми лотосами пены. Длинная прорезиненная накидка с капюшоном защищала его от дождя и от холода. Гладко выбритое лицо осунулось, но глаза смотрели зорко и молодо.
С резким криком мелькнула в воздухе чайка, спустилась к воде и снова с добычей взмыла в серую муть неба.
Вчера вечером Ронин вернулся из Финляндии. По поручению революционного комитета он должен был получить литературу, переправленную из Парижа. Дело оказалось трудным. Последнее время охранка буквально рыскала всюду, и потребовалось немало хил и выдумки, чтобы сбить жандармов со следа. Опасность подстерегала на каждом шагу. Многих участников революционных кружков уже арестовали и выслали. Полиция пыталась нащупать нити, связывающие рабочие кружки с партийным центром за границей.
Перед самым возвращением Ронина из Финляндии полиция схватила трёх членов революционного комитета Путиловского завода. Такой удар мог быть нанесён лишь с помощью предателя. Требовались особая бдительность и осторожность в работе, проверка каждого человека. Чтобы сохранить боевые кадры, решено было на некоторое время отказаться от встреч с членами комитета.
Ронин получил указание месяца на четыре исчезнуть с поля зрения, найти постоянную должность, легализировать себя. "Пожалуй, надо ехать в Ташкент", – решил он.
Ронин остановился у Аничкова моста, украшенного четырьмя бронзовыми конями. Задумался.
Возле одной из статуй Ронин заметил человека. Облик его показался ему знакомым. Вгляделся. Под нарочито неряшливой одеждой угадал члена петербургского комитета Тихая.
Подошёл к пьедесталу, залюбовался конём. Казалось, каждый мускул трепещет под гладкой бронзовой кожей. Зашагал дальше, услышал тихий голос: "Заболел, не разговаривайте со мной. Шпики ходят по пятам…"
Ронин, не глядя, обронил:
– Еду в Ташкент.
– Разумно.
Ронин прошёл мост, повернул голову, чтобы ещё раз полюбоваться бронзовыми конями, и увидел, как Тихай шагал в противоположную сторону.
По дороге к гостиному двору встретил ещё одного путиловца. Тот небрежным жестом сдвинул кепку на лоб. Условный знак – надо побеседовать.
Ронин перешёл улицу и спустился в студенческую столовую, что помещалась в подвале.
Возле окна был свободный столик, покрытый закапанной скатертью. Ронин пробрался к нему, достал из портфеля большой лист белой бумаги, застлал им часть стола.
Соседи-студенты предупредили:
– Илюшку вчера арестовали, облава была.
– Обошлось спокойно?
– Какое там! Намяли бока трём шпикам. Нагрянула полиция. Человек пять взяли…
Ронин пошёл к окошечку за обедом. Когда вернулся, застал за своим столом путиловца. Тот внимательно изучал меню и что-то старательно царапал карандашом.
– Ага, самообслуживание… Придётся сходить…
Ронин прочёл между названиями блюд: "Завтра вечером доставлю на вокзал литературу".
Ронин сунул меню в карман и принялся за обед. К столу подбежал суетливый студент:
– Разрешите пристроиться к вашему столику?
– Садитесь.
Тот взъерошил свои пышные волосы, передёрнул широкими плечами и, сев за стол, положил перед собой свёрток. Развернув, достал два бутерброда и два пирожка, стал аппетитно, по-мальчишески, есть завтрак.
– Не верю я столовкам, – непринуждённо болтал он. – Лучше своё, холодное, но свежее.
Ронин ничего не ответил. Через голову студента стал наблюдать за путиловцем. Тот не вернулся на своё место, сел к другому столику и торопливо съел обед.
– Вы на каком факультете? – спросил Ронин своего нового соседа.
– На юридическом.
– Вы, должно быть, человек обеспеченный. Что заставляет вас посещать столовую?..
Студент поёжился.
– Привычка… Трудно, знаете ли, в одиночестве… Тянет к своим, к товарищам. Посидишь, поболтаешь…
– Что же, похвально, – скептически произнёс Ронин, вставая из-за стола. – Спасибо за компанию.
На другой день вечером, садясь в поезд, Ронин увидел путиловца:
– Я слышал, вы брали билет до Ташкента, – произнёс он тихо. – Не откажете захватить. Братан вас встретит на вокзале. Тут учебники…
– Если очень нужно, сделаю…
Как только поезд тронулся, в купе ввалился вчерашний весёлый студент.
– Фу-у! Чуть не опоздал. Разрешите! – Он сел напротив и внимательно посмотрел на Ронина. – Послушайте, сосед, а я вас где-то видел…
Ронин не выразил никакого желания разговаривать с навязчивым молодым человеком. Невольно подумал о свёртке, переданном путиловцем.
– Куда вы едете? – решил всё же поинтересоваться Ронин.
– В Рязань, к родственникам…
В Москве Ронин вышел на вокзал, позавтракал, прошёлся по перрону и вернулся в загон. В купе студента не было. Проверил тючок с нелегальной литературой. Он лежал на месте, но был, кажется, перевёрнут.
В Рязани неожиданно появились два жандарма.
– Ваши документы, – обратились они к Ронину.
Он хладнокровно вынул паспорт, удостоверение редакции и справку из театра.
– Пожалуйста, всё в порядке.
– А ваши вещи?
Ронин указал на портфель, пальто и небольшой чемодан.
– А этот тючок?
– Это не моё.
В это время в дверях купе показался студент.
– Как не ваше! – воскликнул он. – Вам передали его на вокзале!
Ронин усмехнулся;
– Так. Значит, работаете с головы… – А жандарму объяснил: – Этот запакованный тючок мне на вокзале передал незнакомый человек. Просил довезти до Ташкента.
– Но тючок вы вскрыли, обнаружили нелегальщину и не сообщили… Придётся до выяснения арестовать вас. А вы, господин, дадите показания.
– А мне всё равно сходить, – заявил "студент".
Ронин оделся и вышел. За ним два жандарма понесли чемодан, портфель и нелегальную литературу.
Прошло томительных три месяца. Ронина не вызывали на допрос, не позволяли писать письма дочери.
Начальник тюрьмы объяснил:
– Держим до особого распоряжения. Скоро всё выяснится.
Ждать было тяжело. Стали пошаливать нервы. В беспокойных снах он скакал на Дастане по залитой лунным светом дороге. Рядом – Лада, такая родная и такая далёкая. Думал о ней часто. Думал с болью. Сомневался, правильно ли поступил, отказавшись от собственного счастья.
Как-то вечером, после обычного обхода старшего надзирателя, Ронин услышал возле своей двери осторожные шаги. Что-то тихо стукнуло, и шаги заглохли в отдалении. Подойдя к двери, обнаружил свёрнутую в трубочку записку, листок бумаги и карандаш.
При слабом свете свечи с волнением прочёл:
"Держитесь, товарищ. Заявляйте протест, требуйте гласного суда. Мы с вами. Комитет С. Д.."
"Что это? Провокация или местные социал-демократы хотят прийти на помощь?"
Стук повторился. Ронин быстро подошёл к двери, глазок медленно открылся, тихий голос произнёс:
– Барин, с воли вам весточка. Напишите, за что вас забрали. Я новый стражник, завтра поведу на прогулку. Записку суньте под камень возле двери. Передам товарищам. Слышите?
– Да. Спасибо.
Стражник отошёл и зашумел в коридоре:
– Гаси свет, кто жжёт свечи?
На следующий день Ронин был вызван в канцелярию.
– Кто будет Антонида Викторовна? – хмуро спросил начальник тюрьмы.
– Моя дочь, учительница.
– Прислала вам посылку и записку. Просмотрите, перечислите на этом бланке всё, что получили, и подпишите. Как у тебя, Слиткин, записка готова?
– Так точно, вот она. Ничего не проявилось. – К столу подошёл длинноносый человек с подслеповатыми глазами, положил записку и вышел.
Ронин с жадностью схватил клочок бумаги:
"Папка, родной! Не хандри. Всё переверну, а тебя в обиду не дам. Внуки растут, я работаю. Женя получил повышение. Знакомые шлют привет. Целую. Твоя Анка".
Этот влажный после анализа клочок бумаги был ему дороже всяких даров. Спрятав записку в боковой карман, стал просматривать посылку. Там была бутылка вина, бутылка коньяку, сыр, копчёная колбаса, сухофрукты, две коробки сардин и три лимона. Складывая обратно в ящик продукты, он оставил на столе коньяк, лимон и коробку сардин.
– Могу я возвращаться? Или будете снимать показания? – спросил Ронин.
– Начальник, откинувшись в кресле, с вожделением поглядывал на коньяк:
– Видимо, ваша дочь, – особа решительная, – ответил он довольно любезно. – Есть распоряжение передавать вам посылки и разрешить переписку. Вот бумага, а чернила и перья доставит надзиратель.
– Скажите, когда будет надо мной суд?
– Ну, батенька, мне это неведомо. Пишите прокурору. Я ведь не в курсе дела… А что же вы оставили бутылку на столе?
– На ваше усмотрение, – улыбнулся Ронин. – Отдадите кому-нибудь нуждающемуся. Хочу поделиться.
Начальник крякнул:
– Это можно…
Радость, которую испытал Ронин, получив письмо от дочери, неожиданно сменилась печалью. На другое утро надзиратель сказал ему, что в конце коридора имеется камера смертников. Там уже целый месяц томится юноша. Если не будет помилования, то казнь совершат на этой неделе, здесь же, в тюремном дворе.
Для Ронина начались мучительные дни. Он стал думать о юноше. Ночами почти не спал.
Стоял конец марта. Рязанская весна робко вступала в свои права. Днём ярко светило солнце и звенела капель, а ночью морозец сковывал подтаявший за день снег.
Эта ночь тянулась особенно медленно. Измученный бессонницей, Ронин поднялся с койки и подошёл к высокому окошку. В конце коридора резко щёлкнул замок, открылась тяжёлая входная дверь. Послышался гулкий топот солдатских сапог и бряцание винтовок. Понял – идут за смертником.
Молодой звонкий голос с надрывом прорезал немую тишину: "Товарищи! Помогите!"..
Тюрьма ожила. В камерах застучали. Раздались выкрики: "Палачи! Вампиры! Убийцы!"
Ронин, весь дрожа, стоял у двери. Вслушивался в каждый звук. Вот тихо прозвенели кандалы, точно закованного человека волокли по земле. Стон. Потом шум бесполезной борьбы. Мучительный крик:
– Прощайте, товарищи!
Ронин поймал себя на желании дико завыть, ударился головой о стенку. Сжал кулаки, поднял голову и… над звоном кандалов поплыла песня:
Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут…
Мощные звуки «Варшавянки» неслись под сводами. Весь гнев, всю свою ярость вложил Ронин в эти слова протеста. К нему присоединился один, другой голос, и вот уже гремит вся тюрьма.
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песней победной
Стонут священны мильомам людей.
Свершилось чудо. Истерзанный муками ожидания и страхом смертного часа, обронённый зашагал бодро, в такт песне. Конвойные тоже отбивали шаг. Проходя мимо камеры Ронина, юноша бодро крикнул.
– Спасибо, дорогой товарищ! – И тут же подхватил припев;
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш, вперёд,
Рабочий народ!..
Ронин понял, что узник воспрянул духом. Он шёл на смерть с поднятой головой.
Через несколько дней Ронину объявили, что в порядке административного надзора его высылают в Кемь на два года. Позже узнал, что губернатор поспешил выслать без суда и следствия, опасаясь приезда комиссии. В прессе стали часто появляться статьи и заметки о произволе и безобразиях в рязанской тюрьме.
Сидя на берегу хмурой Кеми, глядя на подступающий к реке лес, Ронин тосковал. Нго неудержимо тянуло в Ташкент, к людям, с которыми связывало большое дело.
Суровые жители Кеми, большей частью карелы, почти не говорили по-русски. Ронин стал сразу по приезде изучать местный язык, но свободно говорить по-карельски не мог, и это обрекало его на одиночество.
Однажды, пробираясь в густых зарослях, Ронин услышал шаги. Притаился за кустарником, выжидая. Но шум шагов прекратился. В тишине раздался басовитый окрик:
– Ты чего это затаился? Вылазь!
– С радостью вылезу, я думал, медведь, – засмеялся Ронин.
Обогнув куст, вышел на тропинку. Там стоял лохматый великан и целился из ружья.
– Кто ты есть? – спросил лохматый, опуская дуло к земле. – Чего шатаешься без ружья.
– Оружия мне не положено, ссыльный. А ты кто будешь?
– Лесник. Корнеем кличут.
– Уж не тот ли Корней, о котором Соколёнок рассказывал?
– Вот ведь диви… Видать, знаешь Андрея… Где он теперя?
– За границей. Елена Сергеевна с ним живёт.
– Ну-ну! А тебя кличут-то как?
– Ронин, Виктор Владимирович, из Ташкента…
– Шагай, паря, со мной до избушки, гостем будешь. Видать, наш ты. Тоска тут жить в лесу без человека.
После этой встречи Ронину стало легче переносить ссылку. Почти ежедневно он навещал Корнея, просиживал у него в избушке за чашкой чая или совершал вместе с лесником обход участка.
Поздней осенью пришло долгожданное известие от прокурора – Ронин получил свободу. Решил ехать в Ташкент, но Анка в письме отсоветовала: "Будет трудно устроиться. Почти всех дружков постигло несчастье…" Понял, о чём идёт речь.
В родные края следует добираться окольными путями. И, простившись с Корнеем, Ронин подался в Париж, а оттуда в Ментону.
Глава семнадцатая
ВОЛНЫ ЖИТЕЙСКИЕ
Быстры, как волны.
Дни нашей жизни.
А. Сребрянский
По каменистой горной троне бежит лохматый пёс. За ним карабкается ослик, навьюченный до предела: на деревянном седле перекинута скрученная рулоном чёрная кошма, на ней хурджуны – перемётные сумы, набитые одеждой и деревянной посудой. К луке привязан большой медный чайник, сзади к седлу приторочены два тючка. За осликом шествует кузнец Машраб, у него через плечо перекинут хурджун с продуктами и ружьё; за ним шагает его жена Масуда, тоже с поклажей, а обочиной легко ступает дервиш Сулейман. Он радостно глядит на склоны гор, следит за полётом птиц в голубом небе, прислушивается к посвисту пичуг. Заметив в расселинах скал нежную травку, сворачиваете дороги и осторожно срезав, связывает в пучок и, завернув в полстинку, засовывает в небольшой мешок, висящий за плечами.
Далеко остался Ташкент. Впереди, за перевалом, – родное предгорье, там пасутся табуны и отары бека Дотхо. При воспоминании о беке косматые брови Машраба хмурятся. Будет время – рассчитается с этим злодеем Машраб. За односельчан, и за себя, и за дочь рассчитается. "О балам[51]51
Балам – дитя моё.
[Закрыть], не забыть мне тебя", – шепчут пересохшие потрескавшиеся губы. Сжимает сердце тоска, и глаза туманит влага.
Но вот ослик достиг вершины увала и остановился. Возле него, высунув язык, уселся пёс. Стали ждать хозяина. Куда он их направит? Вперёд, к высокому перевалу, или по боковой тропке к маленькой лачуге, прилепившейся у подножия скалы?
Подошёл Машраб, взглянув на собаку, усмехнулся:
– Что, Джарчи, не знаешь, куда вести своего друга? Что ж, посоветуемся.
Он опустился на камень, посмотрел на тропу, по которой поднимались Масуда и Сулейман. В тишине, что царила вокруг, ему почудился детский плач. Вот он стих, опять повторился… Откуда бы здесь быть ребёнку? Наверное, завывает ветер в трещинах скал.
В это время подошла Масуда, а следом поднялся на вершину увала Сулейман.
– И-йе… Дитя плачет, – сказал он, прислушиваясь. – Джарчи, иди, ищи…
Пёс оглянулся на хозяина, словно требовал подтверждения.
– Иди! – проговорил кузнец.
Джарчи бросился к лачуге, видневшейся у подножия скалы. Машраб пошёл следом. Не успел он пройти несколько шагов, как его догнал Сулейман.
– Погиб ребёнок! – тронул он кузнеца за локоть. – Смотри, молодая рысь подкрадывается к крошке. Не успеем добежать.
У стены сидела девочка лет семи, она плакала и звала мать. Возле двери, отрезав путь ребёнку в жилище, осторожно ползла пятнистая рысь.
Машраб сдёрнул с плеча ружьё, пытаясь прицелиться в зверя, но на мушку попадало красное платье. Сулейман уже мчался по тропе, крича и размахивая посохом. Рысь не обратила на него внимания. Собравшись в комок, она готовилась к прыжку. Машраб выстрелил в воздух. Зверь остановился. В этот момент Джарчи сделал гигантский прыжок и сверху рухнул на хищника. Произошла недолгая борьба, и рысь с перекушенной шеей вытянулась на земле.
Тем временем Масуда кинулась по косогору к ребёнку. Обняла его и стала ласково уговаривать. Девочка прижалась головкой к плечу женщины, затихла.
Мужчины, произнося обычные при входе в дом приветствия, перешагнули порог. Им никто не ответил. В полумраке Сулейман заметил в углу вытянувшегося на постели из ветвей стланика и кошмы неподвижного человека. Это была мёртвая женщина.
– Эх, бедняга! Какая печальная смерть. Неужто в доме нет мужчины? Надо хоронить, – проговорил Машраб.
Пока он искал мотыгу и топор, Сулейман прочёл над умершей молитву и, завернув покойницу в тряпьё, вышел из лачуги.
Девочка сидела ка коленях Масуды и жадно ела лепёшку, что оказалась в дорожном мешке Машраба.
– У тебя никого нет, кроме мамы? – спросил Сулейман.
– Не знаю, – по-взрослому ответила малышка. – Десять дней назад отец с капканами и силками пошёл на охоту и не вернулся…
– Подождём его, – чтобы как-то утешить ребёнка, проговорила Масуда. – Идти дальше нельзя, надвигается туча, гроза будет…
Сулейман спустился к Машрабу, который копал могилу, и посоветовался с ним. Тот согласился заночевать в хижине. Похоронив покойницу, мужчины собрали побольше сушняка и поднялись к скале. Масуда уже вымела пол, развела огонь в давно не топившемся очаге. В хозяйстве горного жителя оказался один казан для варки пищи и два тыквенных сосуда для воды.
Чёрная туча закрыла солнце. Вокруг всё померкло. Машраб нарубил побольше лохматых ветвей стланика взамен старой подстилки, которую Масуда сожгла в очаге. Из куска вяленой баранины и риса она успела сварить суп, показавшийся очень вкусным проголодавшимся путникам и крошечной Банат.
Сулейман ободрал рысь, выскоблил ножом подкожную плеву, растянул шкуру на камне и поднялся по тропе к вершине увала. Там он заметил выступавшие из откосов жёлтые комки серы. Потерев ими влажную мездру, дервиш вернулся к очагу и растянул шкуру на стене для просушки.
– Тёплая курточка будет для Банат, – говорил он, ласково улыбаясь.
Загремел гром, раскатился эхом по ущелью. Джарчи, накормленный мясом рыси, подошёл к очагу и улёгся, жмурясь на огонь. Вдруг он поднял голову и тихо заворчал. Глядя на пса, все встревожились. Кузнец, сняв со стены ружьё, осмотрел курки. Сулейман сжал в руке посох-копьё, а Масуда вооружилась топором.
– Ой-бой!.. Злая сила, что ли, бродит в горах? – шептала она побелевшими губами.
В это время послышалось фырканье и блеянье.
– Это наша Белянка, – сказала Банат, кидаясь навстречу козе.
Белая козочка остановилась в дверях, испуганно глядя блестящими глазами на зарычавшую собаку. Девочка схватила её за шею и завела в хижину.
– Иди в свой угол! – тянула она козу.
Гром загрохотал сильнее, блеснули огненные стрелы молнии, и хлынул такой ливень, что бедный ослик, прижавшийся было под густым деревом, ошалело вбежал в лачугу.
– Эге, Азанчи, не хочешь купаться? – засмеялся Машраб, бросая возле осла охапку сена.
Масуда подбросила в огонь сушняк, пламя вспыхнуло, стало тепло и уютно. Банат подошла к сидящему возле очага кузнецу, обняла за шею. Он прижал её к себе. Ласка ребёнка оживила его суровое сердце.
… Утром солнце быстро высушило каменистую почву.
Путники позавтракали, навьючили осла, простились с могилой и тронулись к перевалу.
В пути обеспокоенный кузнец говорил жене:
– Отнимут у нас девочку…
– Почему? Её нам сам аллах послал. Мы спасли её от смерти, – взволнованно ответила Масуда.
Но к их большой радости, родственников у девочки в ближайшем кишлаке не оказалось. Староста посёлка рассказывал:
– Пять зим тому назад пришёл человек с женой и малюткой, просит: "Разрешите мне поселиться невдалеке от вас. Бек Дотхо преследовал меня за веру, чуть не погубил, бежал я. Буду жить в горах, кормиться охотой". Разрешили. Вот и жил, капканами ловил зверей, силками птиц. Хорошие силки делал, обменивал у нас на нужные продукты. А вчера вернулись наши два охотника, говорят: нашли в горах растерзанного человека, видать, не уберёгся от барса. Схоронили там же, засыпали камнями…
– Хочу взять к себе в Поршниф девочку, как вы?
– Что же, может, у неё там родственники есть, отец говорил, что жил в Поршнифе.
В родную долину пришли только поздним вечером, когда пастухи на кострах варили ужин.
– О Машраб, мудрец наш, вернулся ты! – приветствовали люди кузнеца.
В большой юрте собрались пастухи. Стали потчевать гостей. За похлёбкой кузнец спросил:
– Ну как? По-прежнему свирепствует бек Дотхо?
– Слава аллаху, русские настояли, убрался бек Дотхо. Ушёл он в Афганистан.
– А как же табуны? Арк?
– Всё оставил на руки дворецкого. Помнишь, жирный такой?
– Помню. А новый бек?
– Эмир прислал шиита. Этот не притесняет нас в вере, а налоги собирает, советуясь с русскими офицерами. Наш пир Али Ша вернулся. Теперь мы занялись земледелием.
– Где живёт новый бек?
– Построил себе дворец возле Орлиного гнезда, Там маленький посёлок вырос, лавки открылись…
– Почему не вижу среди вас Ильгара?
– Ильгар учится, – ответил кузнец. – Вылечили нас в ташкентской больнице. Стал я работать в кузне вопле базара, потом приехала жена. Жили мы у одного доброго человека. Его сын работает на железной дороге, он-то и уговорил Ильгара поступить проводником, а потом учиться. Года через два-три приедет вместе с Али-Салимом, Алёшей. Друзья они.
– А где Алёша?
– Он русским офицером стал.
– О-ей, товба! Вот порадовался бы Мерген-Иван…
На другое утро, провожая путников, пастух наставлял Машраба:
– Приедешь домой, навести нашего святого пира, все рады его возвращению. Подарок отнеси…
– Ладно. Сделаю, – кивнул кузнец.
Поршниф встретил путников тишиной. Домов в кишлаке поубавилось, да и те, что остались, глядели уныло.
Старый аксакал Абу-Бекир горячо обнял Машрабаз.
– Рады мы, да будет над тобой благословение божие. Многие из нас ушли под защиту русского поста. Там и тебе найдётся работа, а здесь кузнецу делать нечего.
Жаркое выдалось лето в 1913 году.
Знойные длинные ночи истомили ташкентцев. Запылённая, поникшая листва на деревьях не шелохнётся. Земля, обожжённая солнцем, слепит глаза. Травы по обочинам арыков давно пожелтели, высохли, только у самой воды зелёная каёмка радует глаз.
Древницкий только что вернулся из своего архива, где задержался, делая нужные выписки. Скинув пиджак, расстегнув ворот рубашки, сел на стул тяжело дыша. Торопливо налил из глиняного кувшина прохладного кваса и жадно выпил. Подумал: "Вкусный квас делает хозяйка. Видно, безрукий принёс сюда. Хорошие, заботливые люди".
Вспомнилось, как восемь лет тому назад, возвращаясь в сочельник в свою неуютную холостяцкую квартиру, увидел под ярко освещённым окном большого дома маленькую девочку. Кутаясь в большой платок, она зачарованно смотрела на ёлку.
В это время открылась парадная дверь, на крыльцо выскочили мальчишки в ученической форме. Один из них, толстый и неуклюжий, подбежал к девочке, рванул платок:
– Ты чего это подсматриваешь, нищенка?! Много набрала сегодня?!
Девочка испуганно отшатнулась, стараясь вырвать платок из рук обидчика.
– Отдай, мне холодно!
– Где деньги? – толстяк рванул её за руку, и она, поскользнувшись, упала, Древницкий ускорил шаг. Мальчишка нагнулся над девочкой и без усилий разжал маленький кулак. На снег посыпались медяки.
Грабитель с торжествующим криком стал собирать их. Но в это время сильная рука схватила его за ухо:
– Ах ты, паршивец! А ещё в школе учишься. Вот отведу тебя к родителям и, если при мне не высекут, сам тебе уши оборву…
– Пустите, дяденька, не буду, ей-богу, не буду!
– То-то, – сурово сказал Древницкий. – Ну, пошёл!
Девочка жалобно всхлипывала.
– Что ты, малютка, тут делала? – спросил он ласково.
На худеньком лице появилась слабая улыбка.
– Там зажгли ёлку… Огоньки, звёзды, игрушки… – Она подняла большие печальные глаза на Древницкого и тихо добавила: – Я такой никогда не видела.
– А деньги зачем? Тебя послали за покупками?
– Нет, я Христа ради просила. Мамка больная, работать не может, лежит…
– Отец?
– С войны пришёл без руки.
– Где он сейчас?
– А спит. Соберёт милостыню, напьётся, придёт домой, шумит, а потом спать…
Древницкий повёл девочку в магазин. Посадил у стены на стул, подошёл к прилавку. Вернулся с пакетом, протянул ей пирожное, сказал:
– Съешь, и пойдём кормить маму. Как тебя зовут?
– Катька, а мамку Дарьюшка. Это мне?
Катя сияющими глазами смотрела на пирожное.
– Тебе, кушай.
Узнав, что родители девочки живут невдалеке от вокзала, он взял извозчика. Укутал Катю платком, усадил к себе на колени и прикрыл полой пальто.
… В комнате был беспорядок, печь не топлена. На кровати, укрытая тряпьём, лежала истощённая женщина; возле стола, уронив голову на руку, сидел небритый человек, пустой рукав висел вдоль солдатского мундира. Увидев девочку, больная обрадованно заговорила:
– Катенька, озябла, сердечная… Бедняжка моя… Господи, кто это?
Она испуганно смотрела на занесённого снегом Древницкого. Мужчина поднял голову, вскочил на ноги, вытянулся. Древницкий сурово спросил:
– Загулял, солдат? Ну, проспался?
Повелительный тон сразу отрезвил мужчину.
– Так точно! Проспался.
– Затопи поскорее печку, принеси веник, прибери в комнате. Это не жилище солдата – свинарник! Живо! Здравствуй, хозяюшка, как тебя звать-то? Давно больна?
– Болею-то давно. А вот пришёл мой-то, да безрукий… враз и свалилась. Ноги отнялись, кашель треклятый мучает…
Солдат внёс в рогоже охапку дров, принялся растапливать печь. Катя вертелась возле него, щебеча, как птичка:
– Я ёлку глядела, а мальчишка ударил меня, в снег повалил: деньги стал отнимать… А дяденька, отколь взялся, как рванёт Петьку за ухо, дал подзатыльник, тот и убег.
– А ты знаешь дяденьку? – спросил отец, недоумённо поглядывая на Древницкого.
– Не. Впервой. А потом пошли в магазин… Он мне купил колбасы с хлебом, пирожное…
– А сюда зачем пришёл?
– Говорил, будем вместе рождество встречать. Вона, накупил сколь!..
А Древницкий, сняв пальто, подошёл к столу, разостлав две газеты, стал вынимать из кулька сахар, чай, закуски, бутылку вина.
Солдат уже подмёл комнату, собрал разбросанный хлам в кучу, задвинул под вторую кровать. Вытащил откуда-то старенький самовар, наполнил водой, поставил возле печки, дожидаясь, когда нагорят угли. Он успел мимоходом причесать свои лохмы, почистить замусоленный мундир.
– Ну вот, теперь на человека стал походить, – произнёс уже мягче Древницкий. – Только солдату не положено ходить лохматым, небритым. Вот тебе деньги, парикмахерская – рядом, побрейся, подстригись да купи четыре стеариновые свечки. Будем праздник встречать вместе. Один я, без семьи… Я ведь тоже отставной солдат его величества…
У безрукого дрогнул мускул на щеке.
– Так точно, ваше высокоблагородие! – бодро, ответил он.
– А ты без благородия, оно с погонами в сундуке лежит… Зовут меня Владимир Васильевич, а тебя?
– Крестили Иваном, а зовут Безрукий…
– А ну! По-суворовски: одна нога – там, другая – здесь!
– Рад стараться, ваше…
Древницкий погрозил пальцем. Иван с весёлой искрой в глазах проглотил последнее слово, зажал в кулак полученные деньги, повернулся налево кругом и метнулся за дверь.
– Напрасно вы, барин, дали ему деньги – пропьёт. Как вернулся – пьёт, никак не удержишь.
– Ничего, Дарьюшка, а ты поласковей с ним… Мучается человек, калекой стал.
Иван вернулся быстро, принёс свечи, поставил их, зажёг. Древницкий наполнил стаканчики вином. Стол пододвинул к кровати больной.
– С праздником, дорогие друзья! Я совсем один, сына в Сибирь угнали, дочь с мужем в Москве… Хотя не знаем мы друг друга, но люди должны жить как братья… Хочу я, чтобы ваша жизнь была лучше моей. У вас есть девочка – утеха… Растите её. За хорошую, честную жизнь, Иван, так, что ли?








