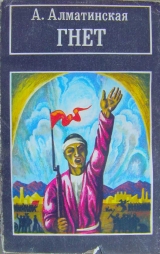
Текст книги "Гнёт. Книга 2. В битве великой"
Автор книги: Анна Алматинская
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Глава двенадцатая
ВЕЩИЕ ПТИЦЫ
Мы вольные птицы: пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора.
А. С. Пушкин
От Ташкента до Троицкого военного лагеря протянулась дорога. Вымощенная гравием и щебнем, покрытая толстым слоем пыли, она убегает к голубому горизонту. Последние отблески лучей закатного солнца золотят степь и дорогу. Далеко на севере горизонт уже густеет, окутываясь сумерками.
По обочине бредут два уставших пешехода. Они в длинных из белой маты рубахах и подпоясаны бельбагами[37]37
Бельбаг – поясной платок.
[Закрыть]. Разрез ворота в рубахе доходит до пояса, обнажая грудь. Из-под коротких, до колен, штанов выглядывают загоревшие дочерна босые ноги. У обоих на плечи накинуты халаты из тёмной полосатой маты.
На голове старшего – колпак дервиша. Голову того, что помоложе, покрывает войлочная киргизская шляпа. В руках у обоих длинные посохи, ноги утопают в мягкой, как бархат, пыли.
– Отец Сулейман, когда твой недостойный ученик вновь увидит твоё мудрое лицо?
Сухой, как жердь, дервиш Сулейман скосил глаза на спутника. Тонкие губы, почти скрытые свисающими книзу усами, чуть тронула весёлая улыбка.
– Путь мой далёк… Когда эту полынь покроет не пыль, как сейчас, а первый снег, жди меня в караван-сарае у Аккавакского моста.
– Да будет так! Мы приближаемся к месту нашей разлуки. Где заночуешь ты, мудрый?
– Оставив тебя в Аккаваке, я найду приют в ветхой кибитке пастуха Максуда. Он живёт за русским селеньем. Завтра на заре двинусь в горы. Вот и сады Аккавака! Наступает час прощанья.
Безбородый юноша закинул голову и грустно запел:
О рок, твоим издёвкам нет конца!
Глупца вознёс, унизил мудреца.
Учёный голоден – невежда сыт,
Булыжник чист – алмаз в грязи лежит.
– Сын мой, от голода воют волки…
Юноша почувствовал иронию и заносчиво воскликнул:
– О мой уважаемый наставник! Я без пищи могу прошагать всю ночь и следующий день.
– Умолкни, хвастун! Слушай соловья, который заливается в тени этого сада. – Путники вошли в кишлак. По обе стороны дороги тянулись длинные глиняные дувалы. Иногда они прорезались узенькими переулочками с калитками.
Поравнявшись с одним из таких переулков, юноша остановился.
– Прошу вас, мудрый наставник, оказать честь дому моего дяди.
– Нет, Азиз, время терять нельзя, скоро спустится ночь. Сегодня я должен быть на берегах шумного Заха. Иди, и да ниспошлёт тебе судьба удачу.
Сулейман лёгкой походкой удалялся по дороге. Затуманенным взглядом проводил его Азиз, потом, вздохнув, завернул за угол.
Вечером на высоком помосте чайханы, стоявшей у самой проезжей дороги, по обыкновению собрались все жители кишлака. Они приходили посидеть, послушать новости, выпить пиалу терпкого зелёного чая.
Чернобородый невысокий чайханщик сновал среди гостей, подавая на подносах чай, виноград, лепёшки, и собирал медяки.
Азиз, бесшумно ступая по пыльной тропе, шёл к далёкому огоньку чайханы. Чувство глубокого волнения охватило юношу.
Сегодня впервые без своего руководителя он будет выступать перед кишлачными слушателями.
Отец говорит, что опасное ремесло выбрал его младший сын.
Но отец стар, а брат Рустам одобрил:
– Хороший путь избрал, Азиз. Будь вещей птицей, поющей народу о весне…
Вспоминая эти слова, юноша крепче сжал длинный гриф своего дутара[38]38
Дутар – музыкальный инструмент с жильными или шёлковыми струнами.
[Закрыть].
Взойдя на помост чайханы, Азиз вытер у порога пыльные босые ноги и, проговорив обычное приветствие, направился в дальний угол.
Высокий, плечистый, в белой рубахе, он сразу обратил на себя внимание.
– Добро пожаловать, шаир, – приветствовал прибывшего чайханщик.
– Спой, мой сын, одну из прекрасных песен Хувайдо. Когда я слушаю их, молодость возвращается ко мне, – проговорил седой мулла, благосклонно поглядев ка топкие пальцы, сжимавшие дутар.
– Хорошо, святой отец. Первой песней будет песня сладкоголосого Хувайдо, – ответил юноша.
Эта почтительность понравилась присутствующим, и они возгласами одобрения приветствовали певца.
– Эй, самоварчи! – крикнул мулла. – От меня подай гостю дастархан.
Чайханщик уже торопился с подносом, на котором лежали лепёшка, два куска сахара, горстка кишмиша и стоял узорчатый чайник с пиалой.
– В каждой чайхане шаир – дорогой гость! – провозгласил чайханщик.
"Как-то вы заговорите, послушав песни", – иронически подумал Азиз, настраивая дутар.
Перебирая струны, нежным, вибрирующим голосом запел:
Ты точно светильник в ночной темноте,
Трепещет ночь глазами резвости твоей…
Хилый мулла закатил глаза и, прижимая руку к сердцу, шёпотом повторял взволновавшие его слова.
Пропев газель, Азиз перешёл к другой песне:
В это время к разомлевшему мулле подбежал тощий, костлявый азанчи и что-то зашептал на ухо.
Мулла быстро поднялся, расплатился с чайханщиком и, надев кавуши, засеменил к своему дому.
– Что-то случилось? – в недоумении спрашивали друг друга посетители. – Какое-то дело неотложное?..
Самоварчи усмехнулся:
– Пристав о волостным приехали. Повеселиться хотят у муллы.
– Что им больше делать? – проговорил хмурый земледелец.
– Был в Бухаре Ахмед Дониш, много он писал для народа. В медресе я нашёл его книгу. Хорошо рассуждал этот мудрец, – задумчиво сказал Азиз.
– Что же он писал? – поинтересовался самоварчи.
– А вот что: "Каков же сам эмир, повелитель правоверных, каков же сам султан? Присмотрись, и ты увидишь – развратник и тиран. А верховный казий – обжора и ханжа. Таков же и бессовестный раис[40]40
Раис – блюститель нравов в прежние времена.
[Закрыть]. А начальник полиции – вечно пьяный картёжник, атаман всех воров и разбойников с большой дороги…"
– Ов-ва! Да это сказано прямо о приставе и волостном, хотя один урус, другой правоверный.
– А жив ли этот человек? Не казнил его эмир?
– Ахмед Дониш умер шестидесяти лет, через два года после смерти эмира Музаффара. Поэта оберегал сам народ, – ответил Азиз.
– А теперь слушайте Бедиля, – сказал Азиз.
И победил не тот, кто угнетал,
А кто щитом за справедливость стал,
Как ни кичись тиран – ничтожен он,
В конце концов он будет поражён…
– О сладкоголосый соловей-певец! Тебя хочется слушать всю ночь. Тебя прислал сам аллах…
Азиз снова настроил дутар и начал торжественным речитативом, постепенно усиливая голос:
Бедняк, разогни свою спину!
Все слушайте новый закон.
Хозяев всех ваших прогоним,
Затихнут страданья и стон
– Вам их халаты!
– Вам их кибитки!
Умолк певец. Тишину взорвали возгласы одобрения:
– Ов-ва! Какая песня… Какой хороший закон! Наш, бедняков, закон!
– А что будет с приставом? Волостным, самим царём?
– Прогоним. Не надо нам кровопийц, – заявил хмурый земледелец.
Разгорелись жаркие споры в придорожной чайхане.
А когда наступило время расходиться, толпой пошли провожать певца.
На широкой площадке возле говорливого арыка, под старым раскидистым карагачем, на квадратных просторных деревянных настилах с выточенной и раскрашенной решёточкой сидели гости муллы.
Краснолицый пристав в расстёгнутом белом кителе с серебряными погонами развалился на шёлковых подушках. Рядом с ним волостной – Ходжа Сеид Назар-бай. Он был высок и дороден. Небольшая окладистая борода обрамляла спокойные черты крупного лица с внимательными чёрными глазами. Держался Назарбай важно, с достоинством, не заискивал перед начальством. Говорили, что он обладал огромным состоянием и купил себе место волостного. Теперь вся округа была в его крепком кулаке.
Сеид Назарбай выезжал в гости со своей свитой: двумя джигитами и тремя музыкантами.
Попивая сладкий мусаллас, пристав спросил муллу:
– А почему, почтенный, жёны мусульманина никогда не показываются гостям?
– О хаким[41]41
Хаким – начальник.
[Закрыть], как можно! Нарушить завет пророка – значит оскорбить его… Таково повеление аллаха.
– Я слышал, что раньше женщины ходили открытыми и жёны пророка тоже. Магомет приказал носить покрывала женщинам после того, как его младшая молодая жена Айша согрешила с погонщиком верблюдов.
Пристав захихикал, и жирный живот его затрясся. Мулла заткнул пальцами уши.
– Уважаемый начальник! Пощадите. Мне нельзя слушать такие греховные речи.
Пристав перевёл захмелевшие глаза на своего приятеля.
– Ну, а тебе, Ходжа, жена не изменяет?
Сеид Назарбай изумлённо поднял брови:
– Зачем сказали такое, хаким? Мусульманская женщина боится мужа и почитает его.
– Чёрт возьми, хороший порядок! – пробормотал пристав. – Ну, а всё-таки жену бьёшь?
– Какой мусульманин не бьёт? Без этого нельзя.
– А если не за что бить?
– Как не за что? Женщина всегда виновата, а если не виновата, то каждую минуту может провиниться.
– Вот психология! Вот обычаи! Замечательно… Как бы мне перейти в мусульманство?
Мулла обрадованно потирал руки.
– Наша религия охраняет правоверного. В коране стих 62, глава 4 сказано: "Верующие, повинуйтесь богу, повинуйтесь посланнику его и тем из вас, которые имеют власть". Иншаллах![42]42
Иншаллах – дай-то, господи!
[Закрыть].
Волостной рассудительно заметил:
– Святой отец, за совращение православного начальство вас упрячет в тюрьму и сошлёт в Сибирь. Что-то запаздывает ваш плов, – добавил он и сделал знак музыкантам.
Моментально запел звонкоголосый най – свирель, зазвенели струны дутара и зарокотала дойра – бубен. Звуки были задорные, мятежные…
Но Сеид Назарбай оставался задумчивым. Слова пристава об измене жены крепко запали в душу. Неумный этот урус, а знает многое Где-то вычитал об измене Айши пророку… Может быть, моя Тамиля тоже где-нибудь в углу сада милуется с каким-нибудь молодцом? Эта мысль обожгла. Он скрипнул зубами.
Подали жирный плов из молодой баранины. Ароматный пар защекотал ноздри, возбуждая аппетит.
Обильный ужин и десяток пиал мусалласа сморили пристава. После нескольких чашек чая он отвалился на подушки и захрапел. Хозяин заботливо прикрыл его лёгким халатом. А волостной, поручив пристава музыкантам, позвал джигитов:
– Седлать, живо!
Была глухая ночь, когда волостной очутился перед запертыми воротами. Он не стал стучать, как обычно.
– Слушай ты, – ткнул он черенком камчи джигита, – лезь через забор и тихо открой калитку.
Парень встал на седло и ловко перемахнул на другую сторону. Через минуту волостной был во дворе. Бесшумно прошёл в калитку, ведущую в сад.
Но едва вышел из кустов, как почувствовал сильный удар палки по спине и услышал голос старика караульщика:
– Кто?
Волостной оттолкнул сторожа и в два прыжка очутился на айване. Толкнул раму окна, сорвал её с лёгкого шпингалета и впрыгнул в комнату.
Как буря, ворвался Сеид Назар в комнату своей третьей жены. Слабый огонёк ночника освещал спавшую у стены молодую женщину. Чёрные косы разметались вокруг разрумяненного сном лица Тамили. Она дышала ровно, полуоткрыв полные красные губы. Обожгла мысль: разомлела после объятий любовника.
Не помня себя, подскочил к спящей и пнул её сапогом.
Дикий крик огласил ичкари. А муж уже молотил кулаками испуганную женщину, таскал её за косы, сатанея от бешенства.
– Опомнись, Ходжа! Где благочестие твоих отцов? – раздался гневный голос.
Сеид Назарбай очнулся. Перед ним с лампой в руке стояла мать. Платок, покрывавший голову, спустился на плечи, волосы поблёскивали серебром, глаза метали гневные искры.
Он бросился вон из комнаты.
Мутный рассвет постепенно яснел за окном. Кое-где слышалось чириканье воробьёв. Чуть слышно проворковала горлинка и смолкла.
Сеид Назарбай сидел в своей комнате, облокотясь на подушку, тянул едкий дымок кальяна.
Дверь открылась, вошла мать. Лицо бледное, глаза печальные.
– Ходжа! – Она всегда называла его так, когда была недовольна сыном.
Он смотрел вопросительно. Мать повторила:
– Ходжа… Ты всегда был несправедлив и жесток к Тамиле, этому кроткому существу. За что ты терзал её сегодня?
– Вай, госпожа, вы же знаете: женщину надо бить, чтобы она помнила власть мужа…
– Вины за ней никакой не было…
– Потому и не было, что бил.
– Почему не избивал других жён?
– Дашь тумака, а потом целый день визг, крик, слёзы, жалобы.
– А Тамиля была послушна и покорна… Увял цветок нашего дома, Тамиля умирает…
– Как умирает? – Он вскочил.
– Как умирает женщина, преждевременно рожающая…
– Как?! Когда она должна была родить?
– Через три месяца у тебя мог быть сын…
– Но почему она не сказала мне?
– Разве стыдливая женщина говорит такое мужчине, хотя бы и мужу? Она так радовалась ребёнку…
– Нет, она не умрёт!.. Я привезу врача…
Он кинулся во двор. Там конюх поил лошадей.
– Запрягать пролётку! Живо! – крикнул Сеид Назарбай и побежал в комнату жены.
У стены на окровавленных одеялах лежала Тямиля. Лицо представляло сплошной синяк, голова была перевязана, глаза закрыты.
Она ли это? Прекрасная, юная, что год назад стала его женой? Где же кроткий взгляд красивых глаз? Где ласковая улыбка?
В углах рта застыла сгустком кровь. Нет, нет… она не умрёт. Она ещё будет ласкать своего господина… Станет ещё раз матерью… У него много денег, он спасёт Тамилю.
Вошла мать. В руках она держала его шапку и новый чапан.
– Сними, твой чапан разорван. Надень этот.
Сеид Назарбай послушно стал стаскивать чапан и почувствовал, как болит спина.
"Проклятый старик. Если бы ударил по голове, мог убить…"
Точно прочтя его мысли, мать сказала:
– Хозяин не должен возвращаться домой, как вор.
Всю дорогу Сеид Назарбай погонял кучера.
Наконец-то! Вот он, знакомый переулок, длинный дом, высокое крыльцо. Он взбежал на него и судорожно крутнул металлическую крышечку звонка.
Дверь открыл человек с растрёпанной рыжеватой бородкой, в накинутой на плечи тужурке с докторскими погонами.
Вглядываясь близорукими глазами в раннего гостя, спросил:
– Какая беда привела вас?
– Поистине, большая беда, господин доктор. У меня умирает жена. Я приехал за Марией Ивановной, за госпожой доктором. Не откажите…
– Как отказать, когда умирает человек? Заходите, посидите в кабинете, я разбужу её.
Он скоро вернулся, быстро достал из шкафа медицинскую сумку, проверил всё содержимое, что-то добавил ещё.
Вошла Мария Ивановна. В лёгкой накидке, в маленькой шляпке, она была бодра и полна энергии.
Кивнув на поклон вставшего волостного, спросила мужа:
– Ты всё уж собрал, Александр Поликарпович? Ну, спасибо тебе. А мыло не забыл?
– Всё найдётся в моём доме, только лекарства нет и ваших знаний, – проговорил торопливо Сеид Назарбай.
– Тогда поехали. До свидания! – кивнула она мужу, вышедшему на крыльцо.
Всю дорогу волостной искоса поглядывал на сидящую рядом немолодую женщину. Это спокойное свежев лицо с тонкой сеткой морщинок внушало тревогу.
"А вдруг она узнает, что я избил Тамилю, – шевельнулась неприятная мысль. – Э, нет, ничего не узнает. Упала с лестницы, подралась с другими жёнами… Да и не решится обвинять такого богатого и влиятельного человека, как я. Пристав – приятель, уездный – друг. Надо сказать матери, чтобы приготовила кусок шёлка и сотню рублей…"
Дома проводил врача до ичкари. Мать встретила в дверях, низко поклонилась. Сын спросил по-узбекски:
– Жива Тамиля?
– Дышит. Плохо ей…
Он прошёл в михманхану, где его ожидал дастархан и горячий чай.
Прошло полтора мучительных часа, послышались шаги, Сеид Назарбай поднялся с места. Внешне он был спокоен.
Вошла врач, за нею мать, с поникшей головой. В голубых обычно приветливых глазах Марии Ивановны вспыхивали гневные искры.
– Кто избил вашу жену? – спросила она зло.
Странное дело, этот человек, с детства воспитанный в убеждении, что женщина недостойна уважения, что она вещь и должна преклоняться перед мужчиной, сейчас опустил глаза под гневным взглядом этой русской женщины. Запинаясь, робко прошептал:
– Н-е-е знаю, са-ма с лестницы упала… с другими жёнами… по-оссорилась…
Выпалив приготовленную фразу, он сам поверил в неё и, принимая гордую осанку, взглянул на Марию Ивановну.
– У Тамили тело в синяках, – звучал всё так же зло голос. – На виске ссадина вот от этого кольца, что на вашем пальце… Ребёнок, убит… Жена умирает…
Сеид Назарбай, слушая жестокие слова, посмотрел на свой мизинец. На кольце и пальце присохла кровь, он поспешно спрятал руку, а грозный голос безжалостно продолжал:
– За это убийство вас будут судить, сошлют в Сибирь… Об этом напишут во всех газетах…
Мария Ивановна повернулась и, взяв свою сумку из рук кланяющейся старухи, пошла к двери. Та засеменила следом. Забежав вперёд, бормоча прощальные приветствия, старуха совала в руку врача кусок прекрасного наманганского шёлка с лежащей на нём сотенной бумажкой.
Мария Ивановна остановилась, ничего не понимая. Она ещё была под впечатлением агонии умирающей. Волостной стоял бледный и, прищурив глаза, следил за каждым движением врача.
Мария Ивановна спокойно взяла подарок, вернулась назад и положила шёлк и деньги в нишу возле хозяина. Потом подошла к старухе, обняла её, поцеловала в лоб.
* * *
Каждый день ранним утром, до сигнала побудки в батальонах, на берег Зах-арыка приходил унтер-офицер Павел Волков.
Он любил эти утренние прогулки. Спустившись в распадок на песчаном мыске, быстро сбрасывал одежду и с разбегу бултыхался в воду. Быстрое течение сносило его вниз, но он, старательно работая сильными руками, возвращался к мыску, выскакивал, растирал упругое тело полотенцем до красноты, одевался. Потом, взобравшись на вершину холма, брился, глядясь в маленькое зеркальце, причёсывался и шёл, размашисто шагая к своей роте.
Какой-то остряк-вольноопределяющийся прозвал Павла "Нептун Захарыкский". Солдаты подхватили это прозвище, но в его присутствии не решались называть так унтер-офицера. Как-то в распадке на песчаном мыске он увидел туземца. Видимо, он, только что выкупавшись, успел натянуть свою бедную одежду.
Павел стоял и ждал. Купальщик поднялся, обмотал бёдра длинным кушаком, отряхнул свой скромный чапан, натянул его на плечи, оглянулся и увидел солдата. Внимательно вглядевшись, стал подниматься вверх. На полпути нагнулся, раздвинул куст колючки, достал меховой колпак дервиша и, держа его в руках, подошёл к Павлу:
– Здравствуй, солдат. Ты один?
– Здорово. Как видишь. Кто ты?
– Божий странник… Тебя зовут Павел Волков?
– Так.
– От кого ждёшь поклона?
Павел насторожился, оглядел дервиша. Помедлил мгновение, ответил:
– Дмитрий Егорович всегда шлёт поклон.
– Шлёт и сегодня. Получи.
Дервиш вынул из колпака свёрток и, проходя мимо, ловко сунул его в руку Павла. Пока тот рассматривал связанные туго листки бумаги, старик исчез за холмом.
Волков развернул свёрток, там оказалась газета "Вперёд" выпуска 1906 года, несколько листовок и записка без подписи. Это было указание, как организовать партийные ячейки в ротах и взводах. Предлагалось выбирать стойких, выдержанных людей, не гнаться за количеством.
Быстро пробежав глазами записку, Павел спустился вниз к дереву, росшему на берегу. Нащупав неровность в стволе, он снял хорошо пригнанный кусок грубой коры. Под ним было дупло. В него Павел опустил свёрток, закрыл отверстие корой и помчался к воде. Но на этот раз поплавать ему не пришлось. Едва окунувшись, выскочил, оделся и побежал в казармы.
– Запоздал, Нептун. Русалки, что ль, тебя топили? – спросил фельдфебель.
Павел почувствовал на своём затылке пытливый взгляд. Обернулся и увидел Лукина.
Лукин в батальоне был на плохом счету. Хотя он выслуживался доносами, унтер-офицерских нашивок ему не давали. Мешала слабая грамотность и пьянство.
Сам же он считал причиной своей неудачи происки унтер-офицера Волкова и своего враждебного чувства к тому не скрывал. Вот и сейчас на шутку фельдфебеля Лукин ответил:
– Унтер-офицеру несподручно купаться с простым солдатом. Он только гололобых купальщиков уважает.
– Чего мелеть? – насторожился фельдфебель. – Кто может на военной территории купаться?
Волков почувствовал, как холодеют руки: "Что видел этот недруг?" – Но сказал беспечно:
– На моём месте мыл ноги какой-то "дивана"[43]43
Дивана – юродивый.
[Закрыть].
– Почему не захватил его?
– Да разве столкнёшься с сумасшедшим. Я ему: "Стой"! А он бормочет и мимо.
Запел рожок – сигнал на молитву. Фельдфебель подал команду. Павел стоял со своим взводом, как всегда, спокойный, подтянутый. На сердце было тоскливо. Большое дело, так хорошо задуманное, может провалиться из-за глупой случайности. "Надо на некоторое время затаиться".
Дня два назад ротный говорил фельдфебелю, что из бригадного управления пришла секретная бумага. В ней указывалось на связь солдат с рабочими Бородинских железнодорожных мастерских. Фельдфебель приказал строго следить за каждым человеком, доверительно говорил с Павлом.
За чаем Мария Ивановна рассказала мужу о преступлении волостного.
– На каторгу сослать этого подлеца надо, – возмутился Шишов. – Ты намерена дать ход делу?
– Разумеется, подам заявление прокурору.
– Вот этого делать не посоветую. Он пошлёт следователя, а эти связаны с полицией служебными отношениями. Получат взятку, и дело заглохнет.
– Как же быть?
– На мой взгляд, надо действовать через Городскую управу. Ты у города на службе.
– Как это я сама не сообразила. Действительно, если моё заявление с резолюцией городского головы пошлют губернатору, тот под сукно не спрячет.
Вечером Мария Ивановна получила письмо. Принёс его человек в затрёпанной одежде. Позвонил. Открыл дверь сынишка Шишовых, гимназист.
– Вот письмо доктору… – Человек сунул в руки мальчика конверт и исчез.
Мария Ивановна вскрыла конверт, быстро прочитала неряшливые строчки, покачала головой, протянула письмо мужу.
Ом пробежал записку, нахмурился. На листке значилось всего несколько слов.
"Если будешь жаловаться, обвинять невинного, – смерть!".
– Как дальше? Что будешь делать? – с тревогой в голосе спросил Шишов.
– Приложу это как доказательство…
* * *
В лагере Первого сапёрного батальона протрубили сбор на обед. К ротной столовой потянулись солдаты. Длинный барак с камышовыми стенами, укреплёнными между кирпичными столбами, был неширок. Посредине его шла траншея глубиною более метра. Набитые в ней колья поддерживали три доски – стол, а края траншеи по обе стороны заменяли скамейки. Солдаты взвода Павла Волкова, построившись по комнате, стали по два человека занимать обычные места. Последним вошёл Павел. Его место оказалось занято Лукиным. Было ясно, что Лукин искал ссоры. Но не успел Павел решить, как себя вести, сидевший рядом с Лукиным латыш Гессен, развернув широкие плечи и тесня соседа, сказал:
– Потрясайся на своего места.
– Научись говорить по-русски. Мешаю тебе?
– Мешаесь. По-русски говорить я плохо, а вот по-русски драть могу. Уходи! – Он поднёс огромный кулак к носу Лукина.
Тот злобно огрызнулся и вылез из траншеи.
Павел внимательно посмотрел на латыша. Тот был в другом взводе, обычно мало разговаривал и не дружил с солдатами. В свободное время Гессен сидел с латышской книгой или пыхтел над русским словарём. Иногда он ходил с товарищами на рыбалку.
Волков сел. Гессен потеснился, сказал хмуро;
– Не люблю этот человек…
– Да ты, видать, русских никого не любишь, – отозвался Юрченко, сидевший по другую сторону Павла.
– Не так. Русский, киргиз, узбек, латыш – все люди. Я люблю Сулейман, хорошо поёт. Душа хороша… а этот, – он мотнул в сторону Лукина, – человек? Нет, комар!
Солдаты дружно захохотали.
Дежурные принесли котелки со щами. Было лето, а щи варились из прошлогодней кислой капусты.
– Опять щи… – стали ворчать солдаты. – Дух от них идёт тяжёлый….
– Капуста-то подгнила…
– Ладно, ребята. Здесь не кадетский корпус. Налетайте на кашу, – примиряюще сказал Павел.
– Видать, кое-кому кадетский корпус поперёк горла встал… – бросил с ехидцей Лукин.
– А ты, язва, чего вяжешься не в своё дело? С тобой никто не говорит, – обозлился Юрченко.
Павел понимал: Лукин задирает. Но поддаваться на затравку не хотел. Сказал с усмешкой рассерженному Юрченко:
– А ты не расстраивайся. Один умный человек сказал: "Болтун подобен маятнику – болтается, пока его не остановят"…
– И то… – отозвался солдат.
После обеда Павла вызвал фельдфебель.
– Скажи-ка, Волков, с чего Лукин тебя невзлюбил? Ссорились?
– Никак нет, господин фельдфебель.
– Ладно, без господина, я по-дружески хочу поговорить. Чего же вяжется?
– Не знаю. Может, сердится за нашивки…
– Тогда он совсем дурак… Пьяница, в грамоте не разбирается, ну как его представить к производству.
– А вы бы приказали взводному подзаняться с ним. При усердии одолеть грамоту не трудно.
– Так-то оно так, да Мартынов никак не хотит с ним заниматься. Может, ты поможешь?
Павел понял, что за ним будет догляд. Для того и навязывают Лукина в ученики. Помедлив, сказал:
– Что ж, попробовать можно. Почему не помочь человеку? Может, полюбит книги читать, перестанет пить, людей задирать.
– Ну, это ты брось. Смотря какие книги. Вот ты что читаешь?
– Разное. Сейчас Козьму Пруткова, Гоголя.
– Это какого Гоголя, об чем он писал?
– Почитайте сами, вот хотя бы "Тараса Бульбу", это о запорожцах, как воевали, интересно. А то страшные рассказы есть…
– Ну что ж, принеси мне, посмотрю. Да, вот что, Павел, ты хорошенько поглядывай за ребятами, чтобы не баловали, с рабочими не якшались. А то сегодня обедом недовольны…
– Сами знаете, всегда это бывает. Поворчать солдат любит, а дело своё выполняет.
– Твои-то выполняют, а вот другие… Ну, так книжку принеси, а то пришли с солдатом.
– Это я сейчас сделаю…
Возвращаясь в барак к своему взводу, Павел, усмехаясь, думал: "Так я тебе и сказал, что читак".
В послеобеденный час Волков вызвал трёх солдат своего взвода, взял устав, три тетрадки и повёл на берег Заха.
Устроившись в тени под развесистым карагачем, он огляделся вокруг, сказал:
– Будем писать диктовку, одновременно изучать устав. – Понизив голос, добавил: – Гляди, ребята, за Лукиным. Никаких разговоров с ним не иметь. Унюхал он что-то, по пятам так и ходит.
– Да вон он, пожаловал, – сказал Юрченко, указывая глазами на Лукина, осторожно вышагивавшего вдоль берега.
– Диктую: "Это, щу-ка, тебе на-у-ка: вперёд умнее быть и за мы-ша-ми не хо-дить".
– Её бы, проклятую, в Зах бросить, сказал Котляр.
– Щука-то отчалила, – усмехаясь, Юрченко указал на удаляющегося Лукина.
Павел, раздавая листовки, предупредил:
– У себя не держите.
– А теперь идите все вместе. Я искупаюсь, догоню.
* * *
В Городской управе проходило совещание. На нём присутствовала в числе других городских врачей Шишова. Она хотела узнать результаты расследования гибели Тамили. По некоторым сведениям, делу должны были дать огласку с воспитательной целью. За последнее время, после бурного девятьсот пятого года, часто поступали жалобы от женщин местных национальностей на жестокое обращение с ними мужчин.
Приглашён был и уездный начальник. Он подошёл к Шишовой.
– Как это, доктор, вы не учитываете местных условий? – спросил он, здороваясь.
– О чём это вы?
– Ну, вот эта ваша жалоба. Копия попала в печать. Хорошо, что напечатали краткой заметкой в отделе хроники, а то шуму было бы много.
– Мне кажется, убийство карается законом. А перед законом все равны.
– Видите ли, – помялся уездный начальник. – Для мусульман основным законом является шариат…
Городской голова открыл заседание.
– Сегодня почта принесла долгожданное сообщение, – доложил он. – На междуведомственном совещании в Петербурге решили составить проект Положения об управлении Туркестанским краем. Как вам известно, до сего времени край управлялся согласно Положению 1886 года. В связи с этим решено провести в Туркестане полную ревизию.
Необходимо срочно начать подготовку к этому важному делу. Городское хозяйство велико, и ревизия в полном объёме весьма сложна. Надо привлечь к работе господ гласных по их специальностям.
– Когда предполагается начать ревизию? – предложил вопрос один из членов управы.
– Пока неизвестно, но надо полагать, что это мероприятие продлится год и ревизия начнётся не ранее, как будущим летом.
– На повестке дня стоит вопрос: "О врачебных делах". Как это понять? – поднялся со своего места член управы Гуронов.
– Этот вопрос выдвинут нашими уважаемыми врачами и включает в себя два пункта: первый – расширение мужской больницы в старом городе. Второй – рапорт врача Шишовой о зверском избиении жены волостным управителем Ходжа Сеид Назарбаем, следствием чего была её смерть. Такие факты не должны пройти мимо нашего внимания. Дело тянется два месяца, а следствие не закончено. Надо вторично написать отношение прокурору.
Уездный начальник крякнул, разгладил седеющую бородку:
– Прошу слово для справки.
– Пожалуйста.
– Волостной Ходжа Сеид Назарбай является потомком самого пророка…
– Но убивать жену ему не положено, – бросил кто-то реплику.
– Я хочу только сказать, что он был так потрясён смертью жены, что месяц тому назад отбыл в Мекку для совершения хаджа.
– Как же это вы выпустили его из-под своей ферулы? – спросил Гуронов.
– Ищи ветра в поле. Хадж в Мекку продолжается не менее двух лет. Улизнёт куда-нибудь в Кашгар или в китайскую провинцию, – заметил другой член управы.
– Меня удивляет благодушное отношение полицейских властей к убийце. Если человек украдёт лепёшку, быть может с голоду, то полиция ловит его, избивает и судит. А убийцу благосклонно отправляют в хадж. Как это понять? – Негодующие слова Шишовой прозвучали в напряжённой тишине.
– Да-а, дело-то некрасивое получается, – вздохнул один из городских врачей, приглашённых на заседание.
– Я предлагаю всё же послать отношение прокурору, – потребовал Гуронов.
– Вопрос с прокурором был согласован, человек больной… Как не отпустить… – поспешно заявил уездный начальник.
– Но мы своё дело сделаем, прокурору напишем. Так?
– Конечно.
– Обязательно.
– Значит, против никого нет?
– Ясно, все за это предложение, – резюмировал Гуронов.
– Мой вопрос решён. Можно покинуть заседание? У меня доклад в Медицинском обществе, – встала Шитова.
– Пожалуйста, уважаемая Мария Ивановна. Завтра напишем прокурору, – отозвался голова.
Она вышла и остановилась на крыльце. Прямо перед ней лежала длинная улица, освещённая яркими газокалильными фонарями. Ей вспомнились тёмные кривые улочки старого города, где жили, страдали, умирали безвольные закрепощённые женщины мусульманки.
Тоска сжала сердце.
– Когда же взойдёт для вас солнце счастья, бесправные страдалицы? – прошептала Мария Ивановна.








