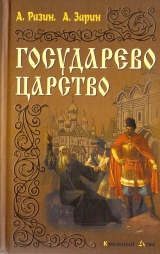
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
В это время вошла попадья и стала с великим участием расспрашивать и о посольстве, и об обеде, и сколько народу было за столом, и отчего такой большой обоз со всякой кладью тянется за посольством.
– Я насчитала двести четыре воза. Неужели это все подарки!
– Да, это все подарки, – ответил сын.
– Да что же с вами сделалось? – спросила попадья. – Каждое слово приходится вопросом вытягивать, точно как будто не солоно хлебали или как будто на похоронах были, а не на пиру...
– От похорон недалеко было! – горько улыбнулся отец Герасим, вспомнив, как опасно сверкал нож в руке его сына.
– Господи, какое мучение! Да говорите же, что такое было?
– Не торопись, женщина! Всё узнаешь. Разве от тебя, верного товарища моего, было что-нибудь скрыто?
– Подожди, отец, я расскажу! Тебе труднее будет говорить, – сказал Яков. – Ты был так жестоко оскорблён...
Отец Герасим поглядел на него с кротким упрёком и сказал:
– Нет, Яша! Ты, верно, ещё плохо меня знаешь. Я вовсе не оскорблён был. Подумай, и ты согласишься. Будешь ли ты оскорблён, когда дикий зверь на тебя кинется и, например, столкнёт тебя?..
– Мучители вы! Будете ли, наконец, толком говорить? – вскричала попадья, теряя терпение и начиная бояться за своего мужа.
– Дело вот в чём, матушка! – заговорил Яков, спеша удовлетворить любопытство матери. – Только ты, пожалуйста, не пугайся. Ты спрашивала, сколько народу было за обедом... За особым столом сидел посланник с отцом и маршалком Бучинским. За другим столом обедали посольские дворяне. Всех-то их приехало сорок человек, но за обедом сидели тридцать девять, а сороковой лежал где-то обложенный примочками, потому что утром был жестоко высечен по приказанию посланника. Я расспрашивал, за что?.. Мне очень просто объяснили: за то, что утром выпил стакан вина, чтобы прошла головная боль от вчерашнего пьянства. Посол это заметил и наказал виновного...
– Да ты это неправду говоришь, Яша! – остановила его попадья.
– И я не знал этого! – сказал священник.
– К несчастью, это сущая правда, – ответил Яков. – И что всего ужаснее, это равнодушие, с которым говорят об этом сами московские дворяне. Быть избитыми палками и розгами, это у них самое простое, будничное, естественное дело – вот что ужасно! Я подумал, что в этом надо винить особенно свирепый нрав посланника; но говорят, что он человек добрый, простой, знающий службу и, к удивлению, недурно говорящий по-латыни. Он уже не первый раз исполняет посольскую должность, и от царя Бориса даже ездил к императору.
– Господи! Какие же они дикари! – всплеснула руками попадья.
– Да, истинно дикари! – согласился отец Герасим. – Выпив несколько неумеренно вина, посол хотел, чтобы и я упился, а так как я этого не могу, то он велел вылить мне вино на голову. Слуга-раб исполнил это неразумное приказание, а твой сынок – похвали его за это – чуть не резаться был готов за это с десятками слуг-рабов и рабов-дворян.
– Ах ты мальчишка глупый! – бросила с укоризной мать. – Ведь они тебя на клочки бы разорвали, и с отцом-то вместе.
– Выслушай, матушка, а после брани, пожалуй. За пьяным шумом я едва расслышал, что посланник о чём-то заспорил с отцом. Вслушиваюсь: приказывает слуге вылить вино отцу на голову. Я подумал сначала, что это грубая, дикая шутка. Но нет, вижу: слуга берёт кружку и разом всё выливает. Бросаюсь к отцу, а он сидит, просто ошеломлённый: вино течёт по лицу, по платью, а он в изумлении не может шевельнуться... Оттащил я его к двери, а тут бросились нас останавливать, но испугались ножа и расступились...
– Слава Богу! Слава Богу! – повторяла попадья, сотворяя крестное знамение. – Но никого не задел? Нет?.. Ну слава Богу! Теперь-то тебя не будет тянуть в Москву, я думаю...
– Вот об этом-то мы и говорили, жена! – сказал значительно священник. – По-видимому, московская земля ужасно дика, необразованна, невежественна. Вероятно, послом московского царя выбран один из лучших людей, а и он – дикарь. Между тем, душа наша лежит к этой единоверной, единокровной Руси, и мы обязаны сделать всё, что можем, чтобы внести в неё свет просвещения.
– Так ты на это дело пустишь сына? – ушам не поверила попадья.
– Отчего бы не пустить, если он чувствует геройское призвание бороться с невежеством? Пустить – вносить свет во тьму...
– Ну так слушай же, Яша! – едва не оскорбилась мать. – Не будет тебе счастья без материнского благословения! А уж я тебя на это безумие не благословлю. Легко сказать: вносить свет во тьму!.. Я знаю, что ты будешь там и всех умнее, и всех учёнее. Да что же такое значит один человек среди многих миллионов зверей! Много ли даст он света и надолго ли его хватит!.. Снеси в дремучий лес, ночью зажжённую свечу. На много ли светлее там станет? Сейчас же разные филины, совы, летучие мыши и тьмы-тьмущие жуков, мух, мотыльков, обеспокоенные светом и испуганные, погасят его крыльями. Куда тут одному человеку?.. Ещё если бы он стоял во главе народа, если бы у него была вся безграничная власть московского царя, тогда – куда ни шло! Да и то нужны железная воля и крепкая голова. А этому Димитрию я не очень-то верю. Какая в нём твёрдость, какого пути от него ждать, если он держит при себе иезуитов? Может быть, Москва когда-нибудь и дождётся такого царя-гиганта, о котором говорю. Но теперь ещё не настало её время!.. Нет, сынок дорогой, в этот дремучий лес не пущу я моё красное солнышко... Нет, нет, нет, ты лучше и не говори мне ничего, отец. Как хочешь, но не послушаю я тебя!..
И старуха обнимала голову своего сына, гладила его кудри и целовала их и собой закрывала сына от взоров отца, как будто он собирался уже отпустить дорогого её Яшу... Отцу Герасиму не хотелось спорить с женой. Мало-помалу он согласился с её доводами. Это было тем легче, что отцовское сердце говорило то же самое, что твердила только что мать, а сам Яков с ужасом помышлял об избитом дворянине. Решено было, что сын останется дома и будет служить родной стране своими знаниями и своей твёрдостью в истинной вере.
На следующее утро царский посол присылал за отцом Герасимом одного из своих дворян. Священник расспросил, все ли в посольской свите здоровы, не нуждается ли кто в предсмертных молитвах и напутствии и, узнав, что всё в посольстве благополучно, не пошёл. Дворянин уговаривал его, грозил ему. Но отец Герасим оставался твёрд, говоря, что посол может посетить его в церкви, если ему что-нибудь нужно. После уже как-то узналось, что посланник собирался что-то ему подарить, серебряную чару или ковш, чтобы искупить нанесённую обиду.
Так как недалеко уже было до Кракова, то посланник перед выездом из Самбора сделал смотр всех подарков, назначенных королю, воеводе и царской невесте Марине Юрьевне. Сначала провели мимо посланника двух породистых коней в яблоках; потом он осмотрел верховой прибор с золотой цепью вместо поводьев, оправленную драгоценными каменьями булаву, меха, персидские ковры, расшитые золотом, трёх кречетов, живого сокола и живую куницу. Это были подарки для воеводы. Потом осмотрел посол королевские подарки: трёх породистых коней с прибором, бриллиантовый перстень и лук с колчаном и стрелами в золотой оправе. Наконец открыли возы с подарками невесте: образ Святой Троицы, богато оправленный золотом и украшенный каменьями, разные материи, венецианские бархаты, турецкие атласы, три бочонка с тремя пудами жемчуга, большие золотые часы в виде слона с башней – эти часы играли на флейтах, на трубах и били в бубны; корабль золотой, отделанный жемчугом и индийскими каменьями; чаша из цельного яшмового камня в виде птицы с крыльями, а на ней вместо крышки серебряный олень с коралловыми рогами; золотой павлин с красиво распущенным хвостом: его золотые перья с изумрудными вставками дрожали совсем как у живой птицы; запонка с жемчужиной величиной с грушу, чарки, кресты, перстни и множество всяких мелких дорогих вещей. Всё это было внимательно пересмотрено, вытерто, вычищено и опять уложено в возы с величайшим старанием. Старый маршалок двору под предлогом оберегания царского добра весь день не отходил от любопытных предметов и взял себе на память об этом замечательном дне парочку хорошеньких жемчужин. Целый день употреблён был на осмотр, так что посольство тронулось в дальнейший путь только на следующее утро. Двадцать девятого октября 1605 года посол московского царя въехал в Краков и остановился в доме сендомирского воеводы.
V
 тарик Бучинский был недоволен своим сыном. Вернувшись из Кракова в конце ноября, ксёндз Помаский объявил, что секретарь московского царя Ян Бучинский скоро приедет из Москвы с деньгами, следующими воеводе для уплаты его долгов, сделанных на приготовление к московскому походу царевича. Ксёндз прибавлял, что Бучинский уже на днях будет в Самборе. Старик сердечно обрадовался: пятнадцать месяцев не видел он сына, который за это время достиг весьма высокого положения между боярами Московского царства. Приходили слухи, что Бучинский очень любим царём, что все государственные и придворные дела совершаются не иначе, как при посредстве секретаря, человека доброго, глубоко преданного царю. Это рассказывал пан Безобразов, посланный к королю; то же самое говорил пан Пшепендовский, приезжавший с письмом к царёвой невесте. Но сам Бучинский писал к отцу редко и очень кратко, уведомляя только, что всё обстоит благополучно, и что судьба его, по-видимому, устраивается довольно удовлетворительно. Изредка прибавлял он, что надеется скоро увидеться с отцом. Между тем прошла и половина декабря. Самбор пуст; воевода с семейством ещё в Кракове, требует беспрестанно денег, а касса совершенно пуста, и страстно ожидаемый сын не едет. Старик тосковал, не знал, куда деваться, то и дело заходил к своему другу, ксёндзу Помаскому, но и тот был не весел и не разговорчив.
тарик Бучинский был недоволен своим сыном. Вернувшись из Кракова в конце ноября, ксёндз Помаский объявил, что секретарь московского царя Ян Бучинский скоро приедет из Москвы с деньгами, следующими воеводе для уплаты его долгов, сделанных на приготовление к московскому походу царевича. Ксёндз прибавлял, что Бучинский уже на днях будет в Самборе. Старик сердечно обрадовался: пятнадцать месяцев не видел он сына, который за это время достиг весьма высокого положения между боярами Московского царства. Приходили слухи, что Бучинский очень любим царём, что все государственные и придворные дела совершаются не иначе, как при посредстве секретаря, человека доброго, глубоко преданного царю. Это рассказывал пан Безобразов, посланный к королю; то же самое говорил пан Пшепендовский, приезжавший с письмом к царёвой невесте. Но сам Бучинский писал к отцу редко и очень кратко, уведомляя только, что всё обстоит благополучно, и что судьба его, по-видимому, устраивается довольно удовлетворительно. Изредка прибавлял он, что надеется скоро увидеться с отцом. Между тем прошла и половина декабря. Самбор пуст; воевода с семейством ещё в Кракове, требует беспрестанно денег, а касса совершенно пуста, и страстно ожидаемый сын не едет. Старик тосковал, не знал, куда деваться, то и дело заходил к своему другу, ксёндзу Помаскому, но и тот был не весел и не разговорчив.
– Знаешь ты что! – сказал однажды ксёндз маршалку. – Вот скоро приедет твой Ян, так спроси его прямо, без обиняков, что он такое – кальвинист, или католик, или, чего доброго, православный? Он тебе это с глазу на глаз скажет...
– Как же это может быть? – ответил в недоумении маршалок. – В иезуитской коллегии да чтобы был кальвинистом? Разве такое бывает?..
– Враг силён! – напомнил ксёндз. – Дело в том, что наш Димитрий начинает, кажется, хитрить и не очень торопится исполнить своё обещание относительно римско-католической веры. Кто его тут смущает? Савицкий и Черниковский видятся с ним часто, питают его душеспасительной беседой; но Ян значительно к нему ближе: расспроси ты его хорошенько... Ведь не московских же медведей боится Димитрий, если целые полгода, с тех пор, как он венчался на царство, ничего не делается для католичества.
– А это, как ксёндз-благодетель изволил правильно сказать, точно что медведи! Наблюдал я здесь этого посланника Афанасия Власьева: важный, но совершенно дикий и жестокий человек, не имеющий никакого светского лоска...
– Посмотрел бы ты на него в Кракове, на торжествах обручения!.. Обряд совершал сам кардинал, а король стоял с ним рядом. Кардинал по обряду спрашивает: «Не обещал ли царь прежде кому-либо своей руки?» Посол отвечает: «А почему я знаю! Он мне не говорил!» Растолковали медведю, что этого вопроса и соответственного ответа требует обряд. Тогда он ответил: «Если бы кому обещал, так меня бы сюда не посылал!» За королевским обедом тоже был хорош: ни за что не хотел сесть за стол; а когда его уговорили поместиться возле царёвой невесты, то он всё остерегался, как бы своей одеждой не коснуться одежды будущей государыни. А когда король спросил его, что это значит, что он ничего не ест, медведь ответил: «Не годится холопу есть с государями». Теперь этот дикарь живёт в Слониме и дожидается приезда воеводы и царской невесты, чтобы проводить их до Москвы. Не долго ему ждать: наш Ян привезёт деньги, Мнишек заплатит хотя бы часть своих долгов, и тогда – в дорогу.
Однако Ян всё не ехал. Тотчас после обручения Бережицкий привёз двадцать пять тысяч; потом сто тысяч привёз Безобразов; но этого всё было мало; Мнишек, не стесняясь, брал деньги у посла Афанасия Власьева да по его записке забирал товары у московских купцов в Люблине на царский счёт; сверх того, взял у одного московского купца деньгами четырнадцать тысяч да сукон на пять тысяч злотых, а ещё мехов у каких-то купцов Ильи и Фёдора на пять тысяч шестьсот злотых.
Прошло и Рождество... прошёл и Новый год... а Ян всё не едет. Воевода вернулся в Самбор. Старика Бучинского замучили кредиторы Мнишка: он стал худеть и едва не впал в отчаяние. Наконец, 3 января 1606 года приехал молодой секретарь московского царя. Он привёз двести тысяч злотых воеводе да сыну его, старосте Саноцкому, в подарок пятьдесят тысяч.
– Ну, ойче, здравствуй! – сказал царский секретарь, входя в кабинет старого маршалка, передав уже воеводе письмо и деньги от царя (он видел отца в приёмной воеводы, но видел как маршалка, и этикет не позволял ему тогда здороваться).
– Здравствуй, здравствуй, мой милый, ясносиятельный царский секретарь! – ответил старик и бросился обнимать сына. – Дай же на тебя посмотреть! Да скажи мне, какой же у тебя титул там в Москве, как тебя величают бояре и все звери, тебе подчинённые?
– У меня нет никакого титула, – отвечал Ян. – Зовут меня обыкновенно царским секретарём...
– Ну а как же!.. Ты ближе всех стоишь к царю? Правду я это слышал? Первый ты человек в Московском государстве?
– Первый, не первый, а могу сказать, что царь меня любит.
– И хорошо делает, что любит. Нельзя не любить! – с удовольствием взирал на сына маршалок.
– Нельзя не любить! – повторил, входя в комнату, ксёндз Помаский. – Поздравляю достопочтенного пана секретаря со счастливым прибытием. Надеюсь, что вы оставили царя Димитрия в полном здравии...
Царский секретарь весьма обрадовался приходу ксёндза.
– Я только что хотел идти навестить достопочтенного ксёндза-благодетеля! – сказал он, приветствуя гостя. – Мне нужно просить вашего содействия в одном очень важном деле, от которого многое зависит...
– К несчастью, – скромно отвечал ксёндз, – я так мало значу, что моё содействие пану секретарю, при всём моём желании, будет весьма ничтожно. Впрочем, я, конечно же, употреблю все усилия, чтобы быть вам приятным.
– Ваше могущество во всех делах, здесь и в Москве, известно очень хорошо. А на этот раз речь идёт о вопросе религиозном; стало быть, вы тут будете альфой и омегой: от вас будет зависеть – или сгладить и устранить все препятствия, или нагородить их целую гору...
Старик маршалок любовался спокойствием и уверенностью, с какими говорил его сын. И в самом деле, шесть месяцев придворной жизни, более восьми месяцев похода заметно содействовали развитию молодого человека. Сам ксёндз Помаский заметил с первого приступа, что перед ним уже не прежний Ян, которого он, бывало, мог и пожурить; понял ксёндз, что с этим молодым человеком приходится говорить гораздо осторожнее прежнего.
– Вопрос религиозный? – переспросил он с видом сосредоточенного любопытства. – Пан секретарь знает, что этому вопросу посвящена вся моя жизнь, и всё, что его касается, я выслушаю с величайшим интересом. Мой совет, конечно, будет вполне согласован с истинным учением...
– Видите ли, в чём дело! – начал Ян. – Вы знаете, что милостью Божьей царевич Димитрий достиг родительского престола. Весь народ его, все люди, которые его сейчас окружают, принадлежат к исповеданию, по которому католики считаются еретиками, отступившими от учения, установленного на семи вселенских соборах. Я знаю, что мы им платим тем же, называем их точно так же еретиками; но покамест не об этом речь, а также не о том, которая сторона права. Царь Димитрий и будущая царица московская Марина Юрьевна стоят на таком высоком положении, что каждый шаг их на виду. Народ московский, безусловно преданный своей греческой Церкви, оказался бы глубоко оскорблён отступлением царственной четы от установленных церковью обрядов. Мы имели тысячи случаев убедиться в этом. В виде примера скажу вам только, что старший повар царской кухни, считая, конечно совершенно ошибочно, будто вера православная запрещает есть телятину, не хотел её готовить, несмотря на приказание самого царя, и готов был подвергнуться самой страшной казни, чтобы только не впасть в грех посредством телятины, будто бы запрещаемой Православной церковью.
– И вы, конечно, за ослушание казнили повара? – спросил ксёндз с едва приметной улыбочкой.
– Нет! – отвечал спокойно Ян. – Царь Димитрий несколько иначе смотрит на человеческие убеждения. Он пробовал сам уговорить повара, а так как тот оставался непоколебим в своём заблуждении, то пришлось удалить его. Но не в том дело. Религиозные убеждения московского народа столь сильны, что царь нашёл необходимым, чтобы невеста царская Марина Юрьевна сделала своим будущим подданным несколько видимых уступок...
Ксёндз удвоил внимание, хотя казался довольно равнодушным.
– Царь Димитрий Иоаннович, – продолжил Ян, – глубоко уважает свободу совести и предоставляет своей невесте, а потом супруге, содержать своё благочестие, как ей будет угодно. Но, после обстоятельного обсуждения дела, решено, что Марина Юрьевна перед венчанием причастится Святых Тайн от московского Патриарха, будет ходить в Греко-российскую церковь, будет поститься по средам, а по субботам вкушать мясо и, наконец, после замужества станет ходить с покрытыми волосами. Затем, все убеждения Марины Юрьевны будут свято уважаемы. Она может иметь советником ксёндза и т. д.
– В этом заключаются все требования царя Димитрия? – спросил королевский духовник, обдумывая ответ.
– Есть ещё некоторые поручения, но они не относятся к религиозным вопросам. Я имею повеление требовать от короля Сигизмунда и от польских панов для обручённой невесты царя всех тех почестей, какие подобают августейшей особе. Царь Димитрий получил известие, что после обручения Марина Юрьевна преклонила колена перед королём Сигизмундом. Царь приказал впредь этого не допускать и настаивать, чтобы ему воздавалось подобающее уважение в лице его обручённой невесты.
Ксёндз Помаский довольно злобно улыбнулся и сказал:
– Когда государь всея Руси Димитрий Иоаннович служил во дворе князя Вишневецкого, он преклонял колени и не перед королём и не заявлял подобных ужасающих притязаний.
– Я тоже думал об этом. И не раз, – заметил вежливо царский секретарь. – И напоминание достопочтенного ксёндза чрезвычайно тонко, деликатно, умно и предусмотрительно. Я всегда удивлялся высокой мудрости ксёндза-благодетеля. Но то же самое было с одним бесценным бриллиантом. Пока он был простым алмазом и в своей грубой коре лежал на земле с другими камнями, его никто не знал – Он был попираем даже ослиными ногами. Но счастливый случай отыскал его. Искусный мастер его огранил, и он составляет с тех пор драгоценнейшее украшение короны. Так и царевич Димитрий: долго не был он признаваем, но тяжкая болезнь открыла его истинные свойства, несчастья дали ему наилучшую в свете грань; теперь он блестит на престоле громаднейшего царства, и ксёндз Помаский, – прибавил он твёрдо и гордо, – сделает мне удовольствие, если извинится в своей глупой и неуместной выходке.
Королевский духовник очень хорошо понял, что у него вырвалась фраза далеко не дипломатического свойства. Он начал извиняться; наговорил множество любезностей, оправдываясь тем, что он беседовал со своим старым другом Яном Бучинским, в комнате его отца, забывая, что этот милый Янек в то же время секретарь и представитель московского государя.
– Но как же тут быть, достопочтенный секретарь? Требования его царского величества так серьёзны, так глубоко затрагивают интересы Римско-католической церкви, что я, право, не знаю, как быть. Ведь принятие Святых Тайн от московского Патриарха и посещение Греко-русской церкви почти равняются отречению от католичества, и едва ли моя духовная дочь решится на это. По крайней мере, я крепко сомневаюсь.
– За тем-то я к достопочтенному ксёндзу-благодетелю и обратился за советом и содействием! – кивнул молодой Бучинский. – Вы можете сгладить все препятствия, объяснив своей духовной дочери, что дело идёт о пустяках, о некоторых внешних формах, по существу, символах, а её внутренний, духовный мир остаётся в полном её распоряжении. Что касается до вас и ваших религиозных целей, то на этот счёт я совершенно спокоен. Настолько-то я знаю отцов иезуитов, чтобы не сомневаться в их высокой мудрости. Они поймут лучше всех, что цели их достигнутся тем вернее, чем лучше сначала они будут замаскированы. Неужели вы долго заставите себя просить надеть маску?.. Согласны вы с тем, что я говорю правду?..
– Право, не знаю!.. – ответил королевский духовник. – Но дело так важно, что я один никак не возьмусь его решать. Для этого необходимо серьёзно и обстоятельно переговорить с кардиналом и нунцием, и ради того, конечно, придётся съездить в Краков.
– Так не поедем ли мы вместе завтра? Мне тоже надо там быть и представиться королю. А пока что вы забросьте-ка пару словечек Марине Юрьевне. Это не бесполезно будет.
Условившись касательно отъезда в Краков, королевский духовник отправился домой, написал предлиннейшее письмо к Черниковскому и Савицкому и в ту же ночь отправил его с паном Пшепендовским, который вёз царю Димитрию извещение о получении денег.
Оставшись, наконец, наедине с сыном, старый маршалок с гордостью посмотрел на него и сказал:
– Да какой же ты у меня стал дипломат, мой любимый Янек!.. Только зачем же так жёстко оборвал ты почтенного ксёндза? Никогда не видывал я его в таком смущении.
– Иезуитам это нипочём, ойче любимый! – отвечал шутливо сын. – Это у них проходит, как с гуся вода.
– Ах да, кстати! Скажи ты мне без обиняков, с глазу на глаз, что ты такое: кальвинист, или католик, или, чего доброго, православный?
– Видишь ли, отец любимый... Когда ты пойдёшь в ксёндзы, а я приду к тебе на исповедь, тогда я подробно тебе во всём покаюсь. А теперь, покамест, скажи ты ксёндзу Помаскому, что он чересчур любопытен.
– Ну хорошо, хорошо! Не буду расспрашивать! И покойница твоя мать не любила спорить о религии. Она говаривала всегда, что это прямой счёт между Богом и нашей совестью. Хорошо. Скажи же ты мне, по крайней мере: надолго ли ты к нам приехал?
– И этого не скажу! – отвечал Ян. – Потому что сам не знаю. Надо тут столковаться с ксёндзами, с нунцием, со всем этим народом да разузнать, отчего наш воевода не едет. Чего он медлит и скоро ли соберётся? Обручение было двенадцатого ноября, вот уже скоро два месяца. Чего же он дожидается? Ты ничего не слышал об этом, ойче?
– Видишь ли что? – отвечал старик, несколько смущённый. – Ты так любишь своего Димитрия... Но на меня-то ты не рассердишься? А?
– Что такое? Говори скорее!..
– А вот что, милый!.. Про твоего царя идут ужасно дурные слухи. И заводятся они не здесь, а в Москве. Распускают их сами русские люди. Говорят, будто Димитрий – вовсе не царский сын, не Димитрий, а беглый дьякон и расстрига Григорий Отрепьев. Может быть, поэтому-то воевода призадумался; выжидает, что дальше будет и крепок ли он на троне...
– Ну, это опять проделки Шуйского! – сказал царский секретарь. – Зело хитёр боярин – далеко до него иезуитам!.. А какие же ещё есть слухи!
– А ещё говорят, будто он очень обижает наших поляков: не платит им жалованья и за всякую пустую малость жестоко наказывает, подражая в этом отцу своему Иоанну Грозному.
– Ну слушай же, отец!.. Не верь ты всем этим глупым слухам! Миллионы людей признают его истинным Димитрием, и на моих глазах было множество случаев, подтверждающих это. Ещё в походе, когда войско царя Бориса передалось ему, приводят человека, который публично на площади называл его расстригой и самозванцем. Царевич отказался судить его и отдал на суд народу: безумца мигом разорвали в клочки... Потом вступили мы в Москву. Один из важнейших московских бояр, Василий Шуйский, попался в заговоре против царя. Дело касалось чести царской и престола, и Димитрий отстранил себя от суда; приказал разбирать дело и судить Шуйских собранию из всех сословий. Суд единогласно приговорил Василия Шуйского казнить смертью, а братьев его разослать по дальним тюрьмам. В минуту казни, когда Шуйский приблизился уже к плахе, перекрестился и простился с народом, он был помилован и сослан в Вятку. Возможно ли после этого, чтобы Димитрий не был истинный царевич – благородный и милосердный? Кто же способен так поступить, кроме истинного государева чада?.. Потом приехала царица-мать, постриженная в монашество по повелению Бориса. Она торжественно, при сотне тысяч народа, признала его своим сыном... Да какой же он Григорий? Настоящий-то Григорий Отрепьев, монах и расстрига, разыскан и привезён в Москву; теперь он там живёт в одном монастыре благополучно... Обижает поляков и не платит жалованья? В этом, отец, ещё менее правды. Напротив, он платит слишком щедро, и мы с Басмановым нередко его останавливали. К стыду нашему, следует сказать, что когда под Новгородом-Северским воевода нас оставил, а с ним оставили обоз три тысячи поляков, из моих милых соотечественников остались с нами совсем не отборные люди; остались почти исключительно те, кому ровно нечего было терять, народ храбрый, отличные бойцы, но в то же время – беспутнейший народ, гуляки и забияки. Вступив в Москву, они вообразили, что в качестве благодетелей московского люда они могут делать всё, что им будет угодно; и обижают народ по улицам, на торгах берут даром всё, что им понравится, врываются в дома, затевают драки... Они прогуливают всё полученное жалованье и требуют денег ещё и ещё. А когда царь вознамерился употребить против буянов строгие меры, то они заперлись на посольском дворе и вздумали защищаться. Мы стараемся понемногу отсылать их назад в Польшу; они недовольны этим, потому что хотелось бы им ещё посвоевольничать... вот и распускают всякие нелестные слухи и откровенную ложь... Одно правда: что Димитрий не совсем-то слушается отцов иезуитов, которые уверяют, будто он обязался обратить весь свой народ в католическую веру. Я сам был свидетелем, как в Кракове, в доме папского нунция Рангони, он обещал ввести в своём царстве единение с Римской церковью... Кроме того, что единение одно, – и об этом выражении можно спорить, – а обращение целого народа в другую веру – это нечто совершенно другое; сам царевич, и я тоже, мы думали, что это дело невозможное, но нам представлялось так только издали. Присмотревшись поближе, мы ясно увидели, что это так же легко, как поворотить Солнце и направить его с запада на восток...
– Слушай-ка, Ян! Ты так хорошо это всё объясняешь, что не худо бы тебе поговорить об этом с воеводой, и с кардиналом, и с королём, и со всеми здешними панами... А то сам ты согласись, ведь и мне неприятно думать, что мой Янек милый служит какому-то обманщику, самозванцу...
– О, будь спокоен, отец! Насколько хватит моего красноречия, не знаю, а усердия хватит надолго, и я готов день и ночь, каждый час неустанно говорить, чтобы уличить клеветников и чем-нибудь послужить моему царю. Завтра поговорю с воеводой, а потом поеду в Краков и буду просить, чтобы меня свели с клеветниками. И увидят всё, что такого доброго, такого великодушного, так пламенно любящего просвещение царя ещё не бывало в Московском государстве, да едва ли такой был и в целом свете...
И искренне преданный царю секретарь целый вечер рассказывал отцу разные случаи из жизни Димитрия, где проявлялся доверчивый, несколько самоуверенный, иногда вспыльчивый, но отходчивый его нрав.
На другой день он уехал в Краков, вслед за ним уехал и воевода: повёз должный королю доход за полтора года с самборского имения – сто тысяч злотых.
Уезжая, он приказал маршалку начать приготовления к путешествию в Москву. Опять Болеслав Оржеховский назначался походным маршалком, причём ему было сказано, что вся свита царской невесты, во всяком случае, будет состоять из более двух тысяч человек и трёхсот или четырёхсот слуг. Пан Оржеховский тотчас дал почувствовать пану Бучинскому всю важность своего сана; но старый маршалок снисходительно обещал ему своё покровительство в Москве через царского секретаря.
– Я дам пану письмецо к сыну! – говорил многозначительно он. – Царский секретарь не откажет пану в своём содействии в случае той или иной нужды...
Пан Оржеховский тотчас уменьшился и нежно подал Бучинскому руку.
Весь январь, весь февраль и начало марта 1606 года прошли в приготовлениях, в переписке с Москвой и с родственниками Мнишка. Наконец все дела были улажены. Стерлицкие и Тарлы должны были присоединиться к обозу воеводы во Львове; князья Адам и Константин Вишневецкие хотели ожидать в Бресте; Мациовский собирался присоединиться в Люблине. При каждом пане было по нескольку десятков, а у Вишневецких по нескольку сотен человек почётного конвоя или свиты. Всё это составило поезд более нежели в две тысячи лошадей; но в этом числе не много было принадлежавших Мнишку; ему и не надо было много, ибо он ехал как будто домой – к зятю-царю. Он выехал практически налегке, и только царская невеста Марина Юрьевна окружена была значительным количеством дам, составлявших её двор. В начале марта воевода весело простился с женой, мачехой Марины, и покатил во Львов.
В опустевшем Самборе старый маршалок опять принялся сводить счёты, по старой привычке откладывая сэкономленное в свой карман. Опять он занялся тюрьмой и судил преступников с необычайной снисходительностью. Опять он являлся за приказаниями в замок к супруге воеводы, а по вечерам иногда распивал бутылочку старого венгерского вина с ксёндзом Помаским. Без всякого волнения теперь ожидал он известий из Москвы и без особого интереса выслушивал рассказы королевского духовника. Он совершенно успокоился, уверившись в беспредельном могуществе, какого достиг его сын, и потому с небывалым равнодушием смотрел на мир и на всю окружавшую суету. Порой уже являлись у него минуты сентиментальности. Прелестная галицкая весна воцарилась во всей красе, и старый маршалок полюбил раннюю утреннюю прогулку по липовой аллее. Садовники, привыкшие к суровости пана Бучинского, обходили его за сто шагов, завидя его тощую фигуру, маячившую возле какого-нибудь дерева. Но старик, не обращая на них внимания, продолжал стоять на одном месте, пристально вглядываясь в работу паучка или внимательно следя за движениями какой-нибудь пичужки, занятой устройством своего гнезда. Потом он поднимал голову и, благосклонно улыбаясь, обводил взором и распускавшиеся липы, и вершину костёла, торчавшую из-за них, и молодую травку, и начинавшие проглядывать в ней цветы. Полюбил он котят и иногда по целым часам забавлялся их резвыми прыжками, дразня их обрывком старого счёта, привязанного на длинную нитку. Душевное спокойствие Бучинского было как бы торжественно и отчасти грустно: всю жизнь заботясь о своей службе, а потом о судьбе сына, он чувствовал, что теперь всем заботам пришёл конец, и иногда, по вечерам, любуясь медленно заходящим солнцем, а потом догорающей зарей, он сравнивал свою теперешнюю жизнь с ясным, тёплым, прозрачным вечером, наступившим после жаркого дня, исполненного забот и тяжкого труда.







