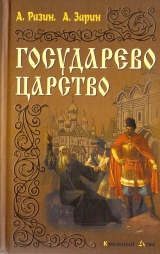
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
– Мигом, сокол мой!
Старуха поспешно повязала свой чепец и вышла устраивать свидание, а князь снова заходил из угла в угол, то гневно сжимая кулаки, то схватывая себя за голову.
Радостно вздрогнула Людмила, услышав, что князь зовёт её на свидание, едва-едва могла дождаться минуты, когда её мать после обеда завалилась спать. Тогда она вышла на огород ждать князя. Он пришёл, и Людмила прижалась к нему и заговорила:
– Что же ты скрылся? И не в стыд тебе? Почитай неделя, как я не видела тебя. Сердце изныло всё. Думала, бросил ты меня, покинул.
Князь отвёл её руки и дрогнувшим голосом спросил:
– А если бы покинул?
Людмила задрожала, и её глаза расширились, а лицо побледнело.
– Негоже шутить так, – с трудом переведя дух, ответила она.
Князь порывисто обнял её и посадил, а сам сел подле и, держа её руки, заговорил:
– Мне и самому смерть была бы с тобою расстаться. Слушай же, что скажу тебе.
И он начал рассказывать ей про своё горе. Рассказывал про дружбу отцов, про их уговор, про участь горькую, неизбежную, про то, что уже и невеста приехала и не уйти ему от своего горя, как от смерти.
Бледнее смерти сидела Людмила, слушая его слова. Чувствовал он в своих руках, как холодеют её руки, как дрожит она вся, словно в ознобе.
– А тебе мать мужем грозится, замуж неволит, – тихо продолжал князь, – а мне без тебя смерть! Что невеста! Ты моя люба, и никто иной. А разве пойдёшь против отцовой воли? Подумай! И вот что надумал я. Слушай.
И ласково, убедительно заговорил он о побеге. Пусть уйдёт Людмила. Ермолиха и его люди укроют её у него на вотчине, и будет жить она как княгиня, ни в чём не зная отказа. А он будет к ней ездить и жить у неё, и никто тогда не нарушит их тихого счастья.
Людмила слушала его склонив голову, и слёзы текли по её лицу. Любила она и любит, но не так, думала она, увенчается их любовь! Горе и позор!
– А матка как? Она затоскует! – воскликнула она.
Князь смутился.
– Я ей денег дам… много денег. Она догадается, а потом и сама к тебе переедет. То-то житьё будет.
И уже увлечённый картиною, он стал рисовать их жизнь. Тихо, одни, в тесной семье. Тут и мать её. Дом – полная чаша, слуги, и он подле неё, и любовь…
– Люба! Согласись!
Людмила обняла его и прильнула к его груди. Князь слышал её прерывистое дыхание, его голова кружилась.
– Бери меня! – ответила она. – Не могу тебе противиться.
– Радость ты моя! – воскликнул князь и, подняв на сильные руки, стал безумно целовать её. – Увидишь, какое наше счастье будет! Так любишь, значит?
– Как душу, которую гублю для тебя! Только бы мать не прокл…
Но князь закрыл ей рот поцелуями.
VПеред войной
 добрый месяц уже жили Тереховы-Багреевы у Теряевых. Однажды князь пришёл из думы и сказал боярину.
добрый месяц уже жили Тереховы-Багреевы у Теряевых. Однажды князь пришёл из думы и сказал боярину.
– Ну, Пётр Васильевич, на завтра собор назначен. Царь приказал о том всех через дьяков оповестить. Ты ведь объявился уже?
Боярин всполошился.
– Да нет ещё, князь. Я думал, ты оповестишь, и сижу себе. Вот поруха-то! Бежать, што ли?
Князь засмеялся.
– Эх ты! Был воеводою, а порядков не знаешь. Ну да Бог с тобою. Я скажу про тебя дьякам, а ты только беспременно на обедню в Успенский собор приезжай, потому с этого начнётся.
– А ты?
– Я с царём буду!
Боярин почесал затылок.
– Ох, горе мне! Один я тут, что сиротиночка. Беда!
– Что за беда! Смотри, куда все пойдут, туда и ты. Горлатная шапка с тобою?
– Со мной, со мной, – закивал головою боярин, – большущая! И шуба со мною.
– Ну, шубы-то не вынимай! Шубу мы теперь только в самых особых случаях надеваем. Опашень надень да к нему ожерелье понаряднее.
– Есть, есть! – ответил Терехов. – Все в жемчуге. Как воеводою я был, заказал немчинам жемчуг подобрать… бурмицкий!..[57]57
Крупный жемчуг.
[Закрыть]
– Ну, и ладно!
На другой день с четырёх часов утра волновался боярин Терехов. Шутка ли: в думе с государями сидеть, речами меняться!
Князь пред своим уходом зашёл к нему и сказал:
– Еду я, а ты в девять часов у собора будь. Государь к тому времени пойдёт. Да, слышь, до Кремлёвских ворот доезжай, а там пешком.
– Знаю, знаю! – замахал руками боярин и, позвав слуг, стал мешкотно одеваться в своё лучшее платье.
Время шло. Он велел подать колымагу, надел на голову горлатную шапку, высотой в три четверти, взял в руки высокую палку с роговым в жемчуге наконечником и вышел.
К земскому собору приуготовлялись торжественно. В Успенском соборе сам патриарх Филарет служил обедню, а после неё молебствие. Царь, окружённый ближними боярами, окольничими, горячо молился, стоя всё время на коленях; а по его примеру и бояре, и окольничьи, и служилые люди, и все, призванные на собор, стояли коленопреклонёнными.
Яркое солнце ударяло в собор и сверкало на дорогих окладах образов, на самоцветных камнях боярских уборов и веселило всё вокруг, кроме строгой фигуры Филарета в монашеском облачении. По окончании службы он обернулся и поднял обеими руками напрестольный крест. Все склонили головы. Потом поднялся царь и подошёл под благословение к своему отцу, а за ним потянулись и все бывшие в храме.
Служба окончилась. Бояре и окольничьи выстроились в два ряда, и между ними медленно пошёл царь к выходу, через площадь, в Грановитую палату, где порешено было быть собору. Следом потянулись ближние ему, а там и все прочие.
Дьяки у входа суетились. Они стояли с длинными свитками и отмечали входящих. Одни занимались проверкою лиц прибывших, другие озабоченно рассаживали всех по местам, чтобы никто себя в обиде не чувствовал.
Хотя и было уже уничтожено местничество, но с ним ещё приходилось считаться не только в мирное, но даже и в военное время.
Терехов назвал себя. Шустрый дьяк подбежал к нему и ухватил за локоть.
– А! Тебя, боярин, мне князь Теряев стеречь наказал! Сюда, сюда! Тут и слышнее, и виднее, а по роду ты не моложе князей Черкасских!
Он ввёл Терехова в огромную длинную палату. В три рада обращённым покоем стояли длинные скамьи, покрытые алым сукном. Вверху на возвышении в три ступени стояли два кресла под балдахинами и подле одного из них невысокий стол.
На скамьи, говоря вполголоса, садились созванные на собор. Помимо ближних царю и думных бояр были тут присланные и от Рязани, и от Тулы, и от Калуги и Пскова, и Новгорода, и далёких Астрахани, Казани, Архангельска, даже от Тобольска и Вытегры. Все были в высоких горлатных шапках, в дорогих опашнях с драгоценными ожерельями у воротов.
Вдруг двери раскрылись настежь, и парами показались стрельцы в алых и синих кафтанах. Они шли держа на плечах блестящие алебарды, за ними шёл отрок с патриаршим посохом, следом Филарет об руку с сыном, а за ними опять бояре и духовенство.
Все присутствующие обнажили головы и пали на колени.
Когда Терехов поднялся, все уже были на своих местах. Царь с патриархом сидели в своих креслах. На столике лежали скипетр и держава, вокруг стояли стрельцы, а подле Филарета – отрок с посохом.
Внизу пред ними за длинным столом сели дьяки с бумагою и перьями.
На время наступила торжественная тишина. Потом царь встал со своего кресла, и раздался его тихий голос:
– Благослови, отче!
Патриарх поднялся во весь могучий рост и, подняв руки над головою сына, произнёс:
– Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!
Царь выпрямился. В течение времени, истекшего со дня возвращения отца, он постарел и пополнел, но его лицо сохранило всё ту же кротость и простодушие и его взор глядел всё с тою же нерешительностью.
– Князья и бояре, – тихо заговорил он, кланяясь во все стороны, – и вы, земские люди! Созвали мы вас на общий собор, потому что от поляков большое государству и нам, государю вашему, теснение. Для общей думы вас созвали. Ведомо вам, что декабря первого в лета тысяча шестьсот восемнадцатое мы с поляками на Пресне мир подписали на четырнадцать лет и шесть месяцев и тому миру теперь конец выходит; и они, ляхи, то ведают и всякое нам зло чинят… – И Михаил Фёдорович стал перечислять все обиды, понесённые Русью от поляков: на окраинах они разбойничают, царского титула не признают, со шведами и турками против Руси зло замышляют и похваляются всею Россией завладеть, от чего посрамление и убытки немалые. – И так порешили мы в уме своём, – продолжал Михаил, – злой враг наш, король Сигизмунд, помер, а враг злейший, Владислав, ещё не царствует, отчего и смута у них в государстве. Станет он королём и поведёт на нас рати, а коли мы упредим его, в наших руках более силы будет. На том и решили собор созвать. Начинать войну али нет? Рассудите!
Михаил поклонился и сел, вытирая рукою лоб.
– Война, война! – раздались со всех сторон голоса.
Лица царя и патриарха просветлели.
– Так пусть и будет! – решил царь.
Потом стали обсуждать средства, войско и его размеры, назначать полководцев, определять действия каждого и делать наряды.
Целую неделю длился собор, и с каждым днём ненависть к полякам и жажда войны всё сильнее охватывали сердца русских. «Война!» – передавалось из уст в уста, и о войне говорили в домах и кружалах, на базарах и рынках, в Москве и на окраинах. Воинственный дух наполнил сердца русских, и, кажется, никогда ещё не вспыхивала у русских ненависть к полякам с такою силою, как в эти дни. Все обиды, начиная с Дмитрия Самозванца до последнего приступа ляхов на Москву, вспоминались теперь и стариками, и молодыми, и служилыми, и торговыми, всеми – от простого посадского до всесильного патриарха.
Последний подолгу теперь беседовал с князьями Черкасскими, Теряевым и боярами Шереметевым и Михаилом Борисовичем Шеиным.
– Наступили дни расплаты, – сказал гордо и решительно он, – всё взятое отымем и им мир предпишем!
И в это время он походил не на смиренного служителя Божьего, а скорее на прежнего Фёдора Никитича, которого убоялся Годунов.
– Князь Пожарский дюже искусен, – сказал Черкасский.
Шеин вдруг вспыхнул и, грозно глянув на князя, грубо ответил:
– И без него люди найдутся.
– Истинно! – подтвердил Филарет. – Михаила Борисовича пошлём. Он и в бою смел, и разумом наделён!
– Услужу! – ответил Шеин, низко кланяясь Филарету.
Князь Черкасский удивлённо посмотрел на Шереметева и Теряева.
Патриарх подметил их взгляд.
– Ну, да про это потом, – сказал он, – а ныне сборы определить надо. Иноземных людей много, тяготы большие.
Действительно, готовясь к войне, царь Михаил взял на службу английского генерала Томаса Сандерсона с 3000 войска, полковника Лесли с 5000 и полковника Дамма с 2000 солдат. Требовались большие расходы.
– Я сам отдам всю свою казну на общее дело, – сказал царь на соборе, и его слова воодушевили всех.
– Не пожалеем имений своих! – ответили ему бояре.
Тотчас были составлены списки, и во все стороны полетели приставы собирать оброчные деньги, на конного двадцать пять рублей, на пешего десять рублей. Богатые помещики и монастыри выставляли от себя целые отряды.
Князь Теряев призвал к себе сына.
– В думе сидеть мне должно, – сказал он, – а то был бы и я на войне со всеми, но ныне ты за меня пойдёшь. Возьмёшь людишек наших и будешь над ними с капитаном Эхе. Иди и готовься к походу!
Михаил ускакал в Коломну.
В то же время Терехов позвал к себе Алексея.
– Все людей посылают, – сказал он ему, – так и мне негоже от других отставать. Вот тебе мой перстень. Вернись на Рязань, в вотчину, и там собери сто человек конных да сто пеших. Казны возьми, одень их как след и сюда веди. Тебя старшим сделаю. А как приедешь, поклонись Семёну Андреевичу. Он тебя во всём наставит.
В тот же день Алексей стал собираться в дорогу.
– Что ж, – сказал Терехов князю, – мы не хуже других! Люди ставят, и мы можем. А хотел я тебе одно сказать: пока что до войны, обвенчать бы нам детушек! А?
– А то как же иначе-то! – ответил, усмехаясь, князь. – Первое дело! К тому времени, как походу конец, у нас, глядишь, и внук будет!
Вечером к князю пришёл Шереметев.
– Нехорошее деется, князь, – сказал он.
– А что?
– Да помилуй, Шеина в голову! Что он за воевода? Князь-то Пожарский прослышал стороною и говорит, что недужен. С этого добра не будет!
– Ну, говори! – остановил его князь. – Прозоровский пойдёт, Измайлов, иноземцы.
– А Шеин над ними!
Кругом были недовольны назначением Шеина, но боялись громко говорить, зная волю патриарха и царя. Шеин ещё выше поднял голову и смеялся над прочими боярами, называя их в глаза трусливыми холопами.
Ненависть к Шеину среди бояр росла, но за такими заступниками, как царь и патриарх, Шеин был в безопасности.
– Горделив он больно, – задумчиво сказал о нём царь Михаил, – смут бы у них там не было!
– Отпиши, чтобы без мест были, – возразил патриарх, – а против него ни по уму, ни по силе не быть никому.
– Твоя воля! – согласился Михаил.
Главных начальников назначили. Над всеми поставили Шеина, потом окольничего Артемия Васильевича Измайлова ему в помощники и князя Прозоровского во главе запасного войска. Иностранцы оставались при своих войсках, но в подчинении Шеину.
Всё было готово к войне. Спешно собирались даточные деньги. Со всех сторон в Москву стекались отдельные отряды от помещиков, городов и монастырей. Ратные люди готовились уже к походу и делали последние распоряжения.
В чистенькой горнице домика Эдуарда Штрассе за столом сидел сам хозяин, Каролина и капитан Эхе. Последний был задумчив, и его глаза уныло глядели на Каролину, а грудь вздымалась от тяжких вздохов.
– Пей, пей, Иоганн, – сказал ему Штрассе, – а то уйдёшь на ратное дело, уж там так не посидишь!
– Где уж! – ответил Эхе. – Я, бывало, по три месяца сапоги не снимал, белья не менял. Сколько раз вместо постели в болоте лежал.
– Тяжёлое дело! – вздохнув, сказала Каролина.
– Это тебе, женщине, – задорно ответил Штрассе, – а я очень хотел бы на войну. Я хотел идти лекарем, но князь не пустил. Говорит, я в доме нужен!
– Ты? – и Каролина громко засмеялась. – Да ты бы на войне от одного страха умер. Послушай Иоганна только, что он рассказывает! – И она с восхищением взглянула на плотную фигуру Эхе.
Он тряхнул головой и воскликнул:
– Не знаю почему, а мне теперь очень неохота идти. Так тоскливо и скучно. А отчего? – он развёл руками. – Один я, никого у меня нет… никто не пожалеет… а скучно.
– И неправда! – пылко ответила ему Каролина. – Если бы вас убили, я глаза бы себе выплакала!
– Вы? – воскликнул Эхе, и его лицо озарилось улыбкой.
Штрассе кивнул головой.
– Она любит тебя, – сказал он.
– Каро…
– Дурак! – вскрикнула Каролина и, вспыхнув как зарево, выбежала из горницы.
– Го-го-го! – радостно заговорил Эхе. – Я её сам спрошу!
– Спроси, спроси! – засмеялся Штрассе.
Эхе бросился следом за Каролиной и нашёл её в кухне. Она стояла, уткнув лицо в угол. Эхе тихо подошёл к ней и притронулся к её плечу.
– Правда, Каролина? – спросил он.
– Глупости Эдуард болтает, а дураки верят.
Эхе совершенно смутился.
– А я думал…
– Что? – Каролина быстро обернулась, и Эхе увидел её сияющее лицо. – Что?
– Что вы согласитесь быть моею женой, – тихо сказал Эхе, робея от её лукавого взгляда, и замолк.
Каролина вдруг весело расхохоталась.
– Ах, глупый, глупый!
– Чего же вы? – смутился Эхе.
– Да, понятно, соглашусь!
– Да? Согласны? Ох! – капитан сразу повеселел и, обняв, поднял на руки Каролину. – Эдуард! – заорал он. – Она согласна!
Штрассе вбежал в кухню и захлопал в ладоши.
– Я говорил тебе! Я говорил! Они, девушки, все такие!
– Теперь запьём эту радость! – сказал Эхе и на руках понёс Каролину в горницу.
И в этот вечер не было счастливее этих людей.
А в это же время наверху, в своей светлице, тосковала боярышня Ольга, делясь своими горькими думами с верной Агашей. Неделю назад, ночью, в саду прощалась она с Алёшею. Он ехал по поручению её отца в Рязань и заклинал её подождать его возвращения. Как они оба плакали! Как целовал он её!..
– Если выйдет не по-нашему, сложу я под Смоленском свою голову! – сказал он Ольге, а она могла в ответ только крепко прижаться к его груди, говоря:
– Прощай, мой соколик!
И так и вышло. Вчера пришла матушка и сказала, что будут теперь всё к свадьбе готовиться, чтобы до похода дело окончить.
– Ах, Агаша, Агаша! Подумать боюсь даже, как Алёша вернётся! – воскликнула боярышня. – Что будет с ним!
– Полно, боярышня! – ответила более практичная Агаша. – Нешто он ровня тебе? Потешилась ты с ним в девическую вольность, а теперь и в закон пора. Смотри, князь-то какой красавец!
– Не смей и говорить ты мне этого! – рассердилась Ольга. – Не люб он мне… хуже ворога, татарина! Что с Алёшей будет? – заплакала она снова.
А княгиня Теряева и боярыня Терехова по приказу мужей спешно готовились к свадьбе. Ввиду событий и торопливости не собирались править её пышно, а всё же надо было хоть и к малому пиру приготовиться, а потом помещение молодым приспособить, приданое пересмотреть, одежды справить. Мало ли женского дела к такому дню! И, справляя всё нужное, женщины, по обычаю, лили слёзы, девушки пели унылые песни, а Ольга ходила бледная, как саван, с тусклым взором и бессильно опущенными руками.
Маремьяниха сердилась и ворчала:
– Что это, мать моя, ты и на невесту не похожа! Срамота одна!.. Словно тебя за холопа неволят.
– Хуже!.. – шептала Ольга.
VI
Свадьба
 т Москвы надо было проехать до Коломны, от Коломны до вотчины князя Теряева да за вотчиной, проехав вёрст семь, свернуть с дороги в густой лес и ехать по лесу просекою до Малой речки, а там, вверх по ней, берегом, и открывалась тогда на полянке, у самой речки, что была запружена, старая мельница. Была она князем временно поставлена, когда строилась усадьба, для своей потребы, а потом заброшена. Плотину давно прососало, и она обвалилась, колёса погнили, и два жернова недвижно лежали друг на друге, покрытые паутиною и мхом. Изба и клети покосились на сторону, и эта старая мельница являла полную картину запустения снаружи, но внутри всё говорило о жизни и счастье.
т Москвы надо было проехать до Коломны, от Коломны до вотчины князя Теряева да за вотчиной, проехав вёрст семь, свернуть с дороги в густой лес и ехать по лесу просекою до Малой речки, а там, вверх по ней, берегом, и открывалась тогда на полянке, у самой речки, что была запружена, старая мельница. Была она князем временно поставлена, когда строилась усадьба, для своей потребы, а потом заброшена. Плотину давно прососало, и она обвалилась, колёса погнили, и два жернова недвижно лежали друг на друге, покрытые паутиною и мхом. Изба и клети покосились на сторону, и эта старая мельница являла полную картину запустения снаружи, но внутри всё говорило о жизни и счастье.
Оживилась мельница в последние две недели. В клетях её поселились: в одной – старая Ермилиха со своим сыном-богатырём Мироном, в другой – три девушки: Анисья, Варвара да Степанида, безродные сироты, которых Влас отыскал в тягловой деревушке. А в самой избе две горницы со светёлкою обратились в пышные теремные горенки.
Чего в них не было!.. Дорогие ковры покрыли лавки, поставцы с хитрой резьбою, укладки с финифтью, образа в пышных окладах, а наверху, в светёлке, стояла кровать с горою перин, с богатым пологом. В углу у оконца стояли пяльцы, и, нагнувшись над ними, сидела Людмила. Её лицо немного побледнело, глаза стали словно больше, но вместе с этим какое-то строгое, покойное выражение лежало на лице, а во взоре светилось мирное счастье. Подле неё на низеньком кресле сидела пожилая женщина с некрасивым, сморщенным лицом и маленькими жадными глазами.
Некоторое время они сидели в молчании, потом пожилая женщина вздохнула и заговорила:
– Ох, и дура я, дура, что этой подлой Ермилихи послушалась, на корысть пошла, родную дочь продала словно бы!..
– Вы только добро мне сделали, маменька, – тихо проговорила Людмила, – без князя я умерла бы!
– Князя! А где князь-то этот? Не видела я его что-то! Завезли нас сюда, словно в разбойничье гнездо, а князя и в глаза мы не видели!
Людмила побледнела и низко опустила голову.
– Приедет! У него дела много, служба царская! – тихо проговорила она.
– Жди, пожалуй! – подхватила её мать. – Приедет! Теперь-то ещё ничего – выйти можно, лесочком пройтись; а придёт зима – волки завоют, медведь придёт, кругом снег… Ох, дура я, дура! Выдала бы я тебя за Парамона Яковлевича и была бы вовек счастлива.
– Утопилась бы я! – твёрдо сказала Людмила.
– Доглядели бы! – ответила мать. – А теперь что? И на что мне корысть эта? Ох, ду…
Она не договорила и встала с кресла. Людмила тоже вскочила, и её лицо вспыхнуло, как зарево. На дворе послышались конский топот и голоса. Людмила выглянула в оконце, вскрикнула: «Он!» – и опрометью бросилась вниз по лесенке.
– Князь! – всполошилась её мать. – Ох, посмотрю-ка я на него! Правда ли, тароват он, попытаю. – И она быстро поправила на голове своей повойник и платок и ещё сильнее сморщила своё лицо, что означало у неё улыбку.
Людмила сбежала вниз, выбежала на крыльцо и упала в объятия князя, который взбегал в эту минуту на ветхие ступеньки.
– Князь Михайло! Сокол мой!
– Людмилушка!
Они замерли в поцелуе, забыв, что во дворе стоит Влас с Мироном, а из клети глядят сенные девушки. Их лица сияли счастьем. Только молодые любовники в первые дни своей любви могут понять их состояние.
Первый очнулся князь. Он нежно освободил одну руку и, обняв Людмилу, повёл её в избу.
– Ну что, рыбка моя, хорошо тебе тут? Я про всё подумал.
– Соскучилась я без тебя! Всё ждала и ждала. Дни шли, недели.
Князь вздохнул.
– Не мог я ранее. В Москве поход решали, да кроме того дела разные, а тут ещё в доме гости. Суета. Был я тут дважды, всё тебе горницы убирал.
– Приедешь, взглянешь – и нет тебя.
– Э! Зато я, лапушка, теперь неделю, а то и дольше всё подле тебя буду, в очи твои смотреть, ласкать да голубить тебя.
– Не уедешь?
– Говорю, неделю пробуду!
– Ах! – только и сказала Людмила, но в этом возгласе вылилось всё её счастье.
Они, обнявшись, сели под образа.
– Расскажи, моё золотце, как сюда перебрались. Всё ли по-хорошему? А это кто? – вскрикнул князь.
В горницу, кланяясь и улыбаясь, вошла мать Людмилы.
– Матушка моя, – сказала Людмила.
Князь Михаил быстро встал и отвесил Шерстобитовой низкий поклон. Та даже растерялась от смущения, а князь с жаром сказал ей:
– Благодарствую тебя, государыня, за твою милость к нам! Не попусти ты быть Людмиле моею – горькая была бы моя жизнь.
Шерстобитова поклонилась в ответ.
– Полно, полно! – заговорила она. – На то ты и князь, чтобы нам, маленьким людишкам, тебе угождать. Да и Людмила-то моя уж затосковала по тебе больно. Ребёнка своего жалеючи, попустила я грех такой!
Князь вздрогнул и побледнел.
«Действительно, – мелькнуло в уме его, – гублю я душу неповинную».
– Всё поправлю. Не покается в том Людмилушка! – произнёс он.
– Оставь! Разве я каюсь? – с упрёком шепнула Людмила.
– Только скучно нам тут, – заговорила Шерстобитова, – ровно в яме. А придёт зима!..
– Я ужо дом вам выстрою. Вот с похода вернусь!
– А надолго поход? – встрепенулась Людмила.
– Нет! Может, месяца три – и домой! А ты вот что, – и князь засмеялся, – я ведь голоден и есть страх хочу!
– Милый ты мой! И молчишь! Да я в минуточку! – И Людмила весело выбежала из горницы, увлекая за собой мать.
Михаил с улыбкой посмотрел ей вслед.
«Ах, если бы она была не в потаённости! Сколько счастья и радости!..» – подумал он и вздохнул, но мимолётная грусть снова сменилась радостью.
Людмила и её девушки несли вино и посуду с едою. Она поставила пред князем горячий курник.
– Ермилиха изготовила, словно чуяла! – сказала она улыбаясь и, кланяясь, прибавила: – Не побрезгуй!
Михаил обнял её и посадил на скамью рядом.
– Будем вместе, по немецкому обычаю! – сказал он.
Ночью он вошёл в светёлку своей милой. Луна ярко светила в горенку, пред иконой теплилась лампадка, и её бледный свет боролся с лунным. Ароматный воздух волною вливался в светёлку, и где-то щёлкал соловей.
Людмила прижалась к Михаилу полною грудью и сказала ему:
– Что грех? За такое счастье мне не жаль загубить свою душу!
Михаил улыбнулся, целуя её глаза, губы.
«Что грех!» – подумал и он.
День проходил за днём в сладком очаровании. Ежедневно капитан Эхе или Влас приезжали к князю с вотчины и говорили о положении дела. Наконец медлить более стало нельзя.
– Еду, – сказал раз Михаил рано утром.
Людмила побледнела и пошатнулась.
Князь успел подхватить её.
– Перед походом я, рыбка, ещё заеду к тебе, – ласково прибавил он.
Она сладко улыбнулась ему.
– Худое предчувствие сжало моё сердце, – грустно прошептала она, – мне не удержать тебя, только… не забудь ночей этих.
– Что ты! – воскликнул князь.
Людмила вышла проводить его. Он взял коня в повод, обнял Людмилу и тихо пошёл с нею просекой. Впереди ехали Влас и Эхе.
– Неделю спустя заеду, – говорил Михаил.
Людмила медленно шла и не поднимала от земли глаз, полных слёз.
– Слушай! – вдруг сказала она. – Если у нас с тобою дитя будет, ты не покинешь его?
Князь вспыхнул.
– Разве я нехристь!
– Клянись!
– Всем святым клянуся и Иисусом Христом, и Святою Троицей! Пусть не держит меня земля, если я говорю облыжно. Не покину младенца своего! – твёрдо произнёс князь.
– Помни! – сказала Людмила.
Князь Михаил вернулся в Москву, и в тот же день его отец зашёл в покой боярина Терехова и обратился к последнему:
– Что же, Пётр Васильевич, сын мой вернулся с вотчины Пока что до похода и справим свадьбу, как говорили? А?
Терехов твёрдо кивнул головою.
– Хоть завтра, князь! Наши бабы, смотри как уже хлопочут. Только поговорили мы, а у них в терему девки уже и песни поют подблюдные.
– Ин так! На неделе и окрутим. Дела теперь такие, что пиры не у места. Мы потихоньку и сделаем. С дочкой-то ты говорил?
– А что говорить с ней? – удивился Терехов.
– Может, не люб ей Михайло?
Боярин даже покраснел при таком предположении.
– Не люб? Да смеет ли она даже такое слово сказать, если её отец обет дал? Да будь твой сын горбат или умом скорбен, и тогда она выйти за него должна!
– Ну, ну, распалился! – улыбнулся князь. – Так на неделе?
– У баб спросим и день назначим.
В тот же вечер князь позвал вернувшегося сына и объявил ему своё решение.
– Ольга – девка добрая, – сказал он, – с ней тебе мирно и покойно будет. Да и нам утеха. Кроме того, идёшь ты на войну. В животе и смерти Бог волен, а мне, старику, на душе легче, что я обет свой выполнил. Так-то! Пока что подыщи тысячника да дружков, а про остальное я сам подумаю!
Бледный, смущённый, растерянный вышел Михаил от отца. Мысль сопротивляться его воле не приходила ему в голову и в то же время казалось ужасным жить с немилою, а ту, которую любил он, как душу, держать, как тайную полюбовницу. На дворе с ним встретился Эхе. Лицо капитана сияло счастьем; он широко улыбался, дружески кивнул молодому князю и спросил у него:
– Что ты такой печальный?
– А чего ты такой радостный?
– Я? О, я теперь очень счастлив, как король! – и Эхе громко засмеялся. – Я люблю Каролину, и Каролина любит меня. Мы обвенчаемся с ней.
Михаил с завистью посмотрел на него.
– Правда, счастливый! А я и не знал! Пойду, сейчас поздравлю её!
Он быстро перешёл двор и вошёл в домик Штрассе.
Добрый лекарь-цирюльник встретил его как родного сына.
– О мой дорогой! О мой любезный!.. – заговорил он с волнением. – Я думал, ты забыл своего друга и учителя, а ты и пришёл. Садись здесь, рассказывай про себя.
Михаила растрогала эта доброта.
– Я был занят, а вот сейчас узнал, что мой Эхе женится, и пришёл поздравить Каролину.
– О, да, да! они давно любят друг друга. Я сейчас! Каролина! – закричал Штрассе.
– Иду! чего тебе? – послышался её голос.
– У нас князь… тебя поздравить хочет. Иди!
– Иду! – и Каролина вбежала в горницу, смеясь и краснея. – Кто тебе наговорил про меня? – спросила она Михаила. – Вероятно, Эдуард?
– А вот и нет! Сам хозяин!
– Ах он болтун! Я покажу ему!
– Ты скажи мне лучше, – сказал Михаил, – ты счастлива?
Каролина серьёзно посмотрела на него и кивнула головою, а потом села на лавку и, всматриваясь в лицо князя, сказала:
– А ты нет? Я никогда не видела тебя таким печальным, как теперь.
Её нежный голос проник в самое сердце Михаила.
– Горе на мою голову! – глухо ответил он.
– Что? Что с тобою? Скажи нам! – встрепенулся Эдуард. – А мы думали, ты счастлив. Твоя невеста приехала.
– В этом и горе моё! Не невеста она, а разлучница! Вам всё скажу как на духу.
И он рассказал про свою подневольную женитьбу, про свою тайную любовь, про свои терзания и муки.
У Каролины выступили на глазах слёзы, Эдуард тяжко вздыхал и качал головою. Михаил окончил свой рассказ и закрыл лицо руками.
– Бедные вы, – тихо сказала Каролина, – мне Людмилу, как сестру, жаль!
Михаил схватил её руку.
– Каролина, сестра моя названая, я уеду, посмотри за ней, чтобы ей худа какого не было! Я скажу тебе, где она живёт, и ей пред расставанием про тебя сообщу.
– Хорошо, – просто ответила Каролина.
Эдуард глубоко вздохнул.
– Да, – задумчиво сказал он, – трудно… нельзя отцу напротив делать. Нигде этого нет!
– Знаю! – воскликнул князь. – Но вот ни ты, ни Каролина не пошли бы к алтарю клясться ложно?
– У нас нет этого. У нас спросят, мил или нет, и тогда венчают. Без благословения отца никто не пойдёт, но и отец не даёт слова за дочь или сына.
– Ну, ну, – сердито сказал Эдуард Каролине, – что ты понимаешь! И у нас, и везде так делают. Крикнут: «Иди!» – и идёт, как бычок на верёвке. Да! В сердце не смотрят!
Михаил вдруг вспыхнул.
– А я, – воскликнул он, – я клянусь пред вами, – и он поднял кверху руку, – если будут у меня дети, вовек не поневолю их идти против сердца. Дочь холопа полюбит – отпущу её, сын – тяглую – поженю их… не дам испытать такой муки!
Долго сидели они втроём и говорили. Каролина собрала ужин. Давно так задушевно не проводил времени Михаил, и, когда вышел от Штрассе, его душа была покойнее.
Тёмное небо было всё усеяно звёздами. Летняя ночь жгла горячим дыханием. В саду щёлкал соловей.
Михаил остановился у ограды и замер в сладком мечтании. Пред ним словно встали старая мельница среди густого леса, горницы и Людмила. Воспоминания пережитых ночей наполнили его сердце.
Вдруг до него донеслись рыдания. Он вздрогнул и поднял голову.
Да, это не обман слуха. Из теремного оконца неслись рыдания, глухие, беспомощные. Михаил поднял кверху руки. Ведь это плачет Ольга, его невеста!.. Значит, и он ей не мил! Что же это с ними делают?..
Рыдания становились всё глуше и глуше. Наверху хлопнуло окно, и всё смолкло. Смолк и соловей, вероятно, испуганный выражением человеческой скорби.
Михаил опустил голову и тихо побрёл к себе.
Это действительно рыдала Ольга. Михаил угадал. Она рыдала, прощаясь навеки со своей девичьей волей, со своими мечтами и первой, чистой любовью, которой забилось её сердце.
Боярин Терехов готовился опочить и пил шестой стакан сбитня, приготовляясь к вечерней молитве, как вдруг к нему с таинственным видом вошла Маремьяниха.
– Чего тебе, старая? – спросил он.
Маремьяниха вплотную приблизилась к нему и зашептала:
– Смотри, шума не делай! Я к тебе с добрым словом пришла. Ведь беда у нас.
– А что? – встрепенулся боярин. – Говори! Какая такая беда?
– Слышь, не шуми, – зашамкала Маремьяниха. – Ведь князь-то нашей Ольге не люб. Вот!
Боярин тряхнул бородою.
– Э, стерпится – слюбится. Что она знает!
– Глупый ты, – заговорила опять Маремьяниха, – я всё дознала. Хотела боярыне сказать, да что толку-то в этом!.. Сомлела бы она только! Я к тебе…
– Тьфу ты, старая, да скажешь ли ты толком! – рассердился боярин.
– Не шуми, говорю! – Маремьяниха совсем понизила голос и прошептала: – Наша-то Ольга Алёшку любит. Вот… верно… Алёшку Безродного.







