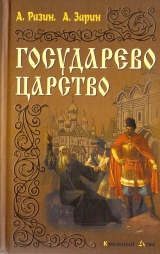
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Ударим на них!
Прозоровский усмехнулся.
– Нас не пустят эти полки! – И он указал на только что разбитое им войско.
Со стороны поляков был обдуман и выполнен блестящий манёвр.
Если смотреть на Смоленск с берега Днепра прямо, то пред его воротами, за мостом, на некотором возвышении расположился стан генералов, нанятых русскими, а именно Матиссона и Сандерсона; вправо от них, по берегу, на котором расположен Смоленск, крепкую позицию занимал Прозоровский, и, наконец, налево стоял лагерь Шеина и Измайлова.
Польские войска остановились на одной стороне с Прозоровским. Им надо было прежде всего снабдить провиантом Смоленск, а для этого следовало пробиться к нему.
И вот в ночь с шестого на седьмое августа Владислав навёл два моста через Днепр и перевёл главные силы на другой берег в тыл Матиссону. Для того же, чтобы русские не имели возможности помочь последнему, он велел Казановскому напасть на лагерь Прозоровского, а Розенову на Шеина.
Завязались битвы, но всё внимание поляков было сосредоточено на Матиссоне с Сандерсоном. Мост был взят, и обозы прошли в Смоленск. После этого поляки на время отступили.
Взятие Смоленска русской армией стало несбыточной мечтою. Надо было думать, как отбиться от Владислава и с честью для оружия снять неудавшуюся осаду. Шеин словно смирился и торопливо созвал новый, совет в своей ставке.
XIIКрутая расправа
 терему князя Теряева-Распояхина была тихая радость. Ольга родила отсутствующему мужу князя Терентия и лежала ещё расслабленная на пышной постели. Подле неё сидела верная её Агаша и толкала ногой крошечную зыбку, в которой, туго-натуго перетянутый, лежал новорождённый князь. Радость была по всему дому. Князь-отец распорядился выслать пива и водки своим дворовым и весело смеялся от сознания, что он уже дед. В то же время один гонец был уже на полпути до Рязани – послан к боярину Терехову, а другой гнал коня под Смоленск к счастливому отцу, Михаилу.
терему князя Теряева-Распояхина была тихая радость. Ольга родила отсутствующему мужу князя Терентия и лежала ещё расслабленная на пышной постели. Подле неё сидела верная её Агаша и толкала ногой крошечную зыбку, в которой, туго-натуго перетянутый, лежал новорождённый князь. Радость была по всему дому. Князь-отец распорядился выслать пива и водки своим дворовым и весело смеялся от сознания, что он уже дед. В то же время один гонец был уже на полпути до Рязани – послан к боярину Терехову, а другой гнал коня под Смоленск к счастливому отцу, Михаилу.
Князь Теряев сидел в своей горнице, думая, кого звать кумом к себе, кого кумою, как вдруг в горницу осторожно вошёл Антон и сказал:
– Слышь, княже… какой-то человек пришёл. Сказывает, тебя видеть беспременно надо, говорить хочет.
– Кто такой? Сказывал?
– Из Коломны купец…
– Ну, кто там? Веди!
Князь повернулся в кресле и стал ожидать, смотря на дверь.
– Вот он! – сказал Антон и втолкнул Ахлопьева.
Последний тотчас же упал князю в ноги. Теряев увидел небольшого роста коренастого человека. Его рыжие волосы торчали в разные стороны, раскосые глаза словно хотели уследить за ними; широкий приплюснутый нос и огромный рот придавали лицу что-то разбойничье.
– Что тебе? – спросил его князь.
– Слово до тебя есть тайное, – ответил, стоя на коленях, Ахлопьев, – прикажи своему холопу уйти.
Князь взглянул на его разбойничье лицо, попробовал рукою, на месте ли поясной нож, и, усмехнувшись, сказал Антону:
– Уйди!
Антон вышел.
Ахлопьев тотчас поднялся на ноги и проговорил:
– Ведомо ли тебе, князь, что сына твоего оплели?
– Как? – не понял Теряев.
– Оплели! – повторил Ахлопьев, и его глаза зло сверкнули. – Дворянская вдова Шерстобитова с дочерью, да на помогу знахарку Ермилиху взяли.
Князь вздрогнул, призрак опасности мелькнул пред ним.
– Ермилиха? Бабка-повитуха?
– Она! Она и наговоры великие знает и с нечистым – Господи, помилуй! – вожжается. Сделали они то, что князь Михайло взял вдовью дочку в полюбовницы.
Князь грозно нахмурился и ухватился за нож.
Однако Ахлопьев смело продолжал:
– И для той полюбовницы занял он старую мельницу в усадьбе, их всех перевёл к себе. А они замыслили теперь его жену, молодую княгиню, извести и род её весь.
Князь стоял уже на ногах и грозно смотрел на Ахлопьева. Кровь кипела в нём.
– Брешешь, смерд! Не может сын мой после того, как у алтаря клялся, против закона идти!
– Ведовство… опоили…
– Брешешь!
– С дыбы скажу!
Лицо князя осветилось злою усмешкою.
– Ин будь по-твоему! Антон! – крикнул он и захлопал в ладоши.
Антон вошёл.
– Возьми этого молодца да отведи его в Зачатьевский монастырь. Знаешь? Сам отведи! А мне коня закажи! Живо!
– Идём, что ли! – грубо схватывая за плечи Ахлопьева, сказал Антон, и они вышли.
Князь подтянул кушак и вышел на крыльцо, а через минуту скакал по Москве к страшному земскому приказу. Через полчаса он уже сошёл с коня у ворот, где, вкопанные в землю, мучились обречённые.
– Боярин здесь?
– Здесь! В избе! – ответил стражник.
Теряев быстро прошёл в знакомую избу.
– А, князь! – приветствовал боярин Колтовский Теряева. – С чем пожаловал? Здравствуй!
– Здравствуй, боярин! Да не с доброю вестью! – ответил князь. – Слышь, пришёл ко мне купец из Коломны. Говорит, сына моего зельем опоили, сердце привораживая. Взял он девку в полюбовницы, а она и жену его, и внука извести норовит, а в помощь ей баба-колотовка, Ермилиха.
Боярин покачал головою.
– Беда с этих ворожей!.. Вот и сейчас одну на дыбе спрашивал. Мужа извела!..
– Сыскать, боярин, надо!..
– Беспременно! А где они-то?..
– Сейчас мой Антон этого человека приведёт. Поспрошай, а там пошлём с Антоном сыщиков.
– Пошлём, пошлём, – согласно ответил Колотовский. – А что, князь, с внуком поздравить можно?
– Спасибо на добром слове!..
* * *
Не сбылись мечты Людмилы. Как появился пред нею Ахлопьев и она закричала о помощи, так тотчас потом свалилась на пол от страшной боли. Прибежали, спустя час почти, мать и Ермилиха, подняли её с пола всю кровью залитую, и, обессиленная, осиротелая, сразу лишённая мечты о ребёнке, лежала Людмила в светлице и думала горькие думы.
Ничем-то, ничем не порадует она князя, как он приедет – даже здоровьем своим! На человека похожа не будет, слабая, как котёнок, бледная и худая, словно щепка!
Вдруг она испуганно вздрогнула. На дворе послышался шум: словно кто-то бранится, кто-то плачет. В ту же минуту с пронзительным воем к ней ворвалась мать. Кичка с её головы была сброшена, волосы распустились полуседыми космами.
– Дочка моя! Людмилушка! – завопила она. – Царские сыщики пришли! Нас забирают! На Москву тащат! Ох, пропали головушки наши! Людмилушка! Идут! Идут! – и она забилась под кровать.
Страх передался Людмиле. Забыв болезнь, она вскочила на ноги и быстро набросила на себя сарафан. В эту минуту в дверях светлицы показались стрельцы.
– Бери эту! А где старая ведьма? Ищи, ребята!
– Кто вы? – вскрикнула Людмила.
– Ха-ха! Кто? Вот там у нас, голубушка, узнаешь! Ну, шевелись, что ли! – И стрелец грубо потащил Людмилу.
Сзади раздавались пронзительные вопли и грубый смех. Один из стрельцов увидел вдову и со смехом тащил её за ногу из-под кровати. Только один Мирон успел спастись от облавы и, забрав что под руку попало, бежал по лесу быстрее зайца.
Как лет четырнадцать назад, князь Теряев сидел рядом с боярином Колтовским в страшном застенке. Пред ним стояла Людмила. В распущенными волосами, падавшими до колен, в длинной сермяжной сорочке, с бледным, измученным лицом, она походила на христианскую мученицу.
– В одном виновата, что князя Михаила больше жизни люблю! – твёрдо ответила она.
– А что пить ему давала?
Людмила тихо улыбнулась, отдавшись воспоминаниям.
– Мёд и брагу, вино и пиво. Сбитень он пил… помню, как впервой приехал, налила я ему чару вина, а он и говорит: «Горько!»
Князь нетерпеливо махнул рукою.
– А что ему в чару сыпала? – спросил дьяк. – Чем приворожила его?
– Любовью своею! А за что он меня полюбил, не знаю.
– Веди доказчиков! – приказал Колтовский.
Двое мастеров вышли. Людмила опустила голову.
«И муки, и поношения!.. Да неужели простым людям нельзя любить князей, что за такую любовь муками мучают…»
В это время раздался лязг цепей, и друг за другом в застенок ввели бабу Ермилиху, мать Людмилы, Ахлопьева и девушек, что прислуживали у Людмилы.
При виде их Людмила всплеснула руками.
– Голубушки вы мои! – воскликнула она, но все вошедшие взглянули на неё с какой-то злобою.
– Змея подлая! – прошептала Анисья, одна из девушек.
– Сказывай ты, купец! – с усмешкою проговорил Колтовский.
Ахлопьев злобно сверкнул на Людмилу глазами и заговорил:
– Увидела она князя Михаила и решила приворожить его. О ту пору она моей невестой была. Заскучала очень, стала к Ермилихе ходить. Однажды князь у неё воды испить просил. Ему подала из ковша с наговором, и с того часа князь, что ни день, к Шерстобитовой ездил.
Людмила улыбнулась.
– Потому что люба была!
– Молчи! – крикнул на неё Теряев.
– А потом взял их князь и к себе в усадьбу увёз, – продолжал Ахлопьев. – Там они надумали княгиню молодую извести. На том крест целую!..
– Не думала! Врёт он со злобы! – закричала Людмила.
– Молчи! – пригрозил ей дьяк и сказал: – Говори теперь ты, Ермилиха!
– А что я, – загнусила старуха, – я ничего не знаю. Просил меня князь: «Уговори уехать девушку!» – и я пошла.
– Опять! – зашипел дьяк. – А что вчера говорила? Игнашка, дыбу!
Ермилиху подхватили под руки.
– Ой, родимые, – завопила она, – вспомнила! вспомнила!
– Шептала на воду?
– Шептала, родимые! – Ермилиха дрожала как лист и испуганно глядела на стоявшего подле неё мастера.
– Приворот-корень давала?
– Ой, давала, давала!
– Извести княгиню думала?
– Она думала, – указывая на Людмилу, сказала Ермилиха.
– Врёт! Не было у меня и в мыслях этого! – вскрикнула Людмила.
– А это что? – проговорил вдруг Теряев, указывая на её обнажённую грудь.
– Сорви! – приказал дьяк.
Заплечный мастер ухватил ладанку, что висела на шее Людмилы, и рванул её что было силы. Людмила упала на колени и вскрикнула.
– Вскрой! – сказал дьяк.
Палач провёл по ладанке ножом и вынул оттуда прядь волос.
– Это что? – строго спросил князь.
– Волосы! Мои волосы! Сыну дать хотела, – ответила Людмила. – И такую же князю дала, как он в поход ехал!
– Терлик! – вскричал князь. – Приворот! Читай, дьяк, приговор!
– Ну, вы! – закричал на всех боярин Колтовский. – Слушайте!.. Дьяк читать будет!
Дьяк поднялся и гнусавым голосом начал чтение. Сперва в приговоре перечислялись вины всех, как они приворотным зельем заманили молодого князя Теряева, а потом – как замыслили извести молодую княгиню и её новорождённого.
– А потому тебя, дворянскую вдову Надежду Шерстобитову, и тебя, дворянскую дочь Людмилу Шерстобитову, и тебя, посадскую вдову Парасковью Ермилиху, как в ведовстве уличённых и с нечистою силою знаемых, и зелье на гибель православной души готовивших, живыми огнём спалить! А вас, девок, холопок князя Теряева-Распояхина Анисью, Варвару и Степаниду, за пособничество да укрывательство кнутом стегать и большой палец на руке отсечь!..
В застенке поднялся вой. Людмила покачнулась и упала.
Князь медленно возвращался к себе домой, а на сердце его было тяжко, тяжко. Чувствовал он радость, что спас сына и невестку свою и внука от злых происков, и в то же время образ Людмилы и её голос не выходили из его головы. Так бы и оберёг её от тяжкой смерти!..
А в это время заплечные мастера торопливо готовили сруб для приведения приговора в исполнение.
Так окончились любовь и счастье Людмилы…
XIIIРусское горе
 оложение русских под Смоленском сразу изменилось после рокового дела с шестого на седьмое августа. Время бездействия сменилось беспрестанными кровавыми сражениями, и доблесть русского войска меркла пред Владиславом, едва ли не умнейшим полководцем того времени.
оложение русских под Смоленском сразу изменилось после рокового дела с шестого на седьмое августа. Время бездействия сменилось беспрестанными кровавыми сражениями, и доблесть русского войска меркла пред Владиславом, едва ли не умнейшим полководцем того времени.
– Да нешто можно тут Михаилу Борисовичу стоять? – говорили с совершенным недоверием русские военачальники про Шеина, а некоторые угрюмо прибавляли: – Десять раз можно было Смоленск завоевать, а мы целый год онучи сушили! Ну, вот теперь и дождались!
– Умирать теперь, ребятушки, придётся! – слышались голоса в войсках.
Шеин не слышал, но чувствовал обращённые к нему укоры и становился всё мрачнее и суровее. Теперь он уже не собирал советов и действовал от себя, хотя все его действия сводились к каким-то ожиданиям.
Особый роман можно посвятить этой тяжёлой године нашего войска – так много заключалось в ней отдельных событий, столько совершалось героических подвигов и так трагически закончился этот неудачный поход.
Только сутки дал роздыха польский король своим войскам и повёл их снова в дело. Против Шеина пошёл Казановский, против Прозоровского – Радзивилл, а главные силы – снова против мостовых укреплений Сандерсона и Матиссона. Казановский шаг за шагом теснил Шеина и успел выставить несколько окопов, чем отрезал его от лагерей Прозоровского и Матиссона. Другие атаки поляков были не столь удачны, но ярость, с которою велись они, показывали, что победы поляков есть дело времени.
Снова был сделан небольшой перерыв, в течение которого всё-таки происходили ежедневные битвы между частями, а двадцать первого августа король опять повёл свои сокрушительные атаки. Но здесь Шеин словно очнулся на время от спячки. В то время, как король Владислав бился с Прозоровским, Шеин набросился на Радзивилла, смял его, уничтожил окопы и успел переправить часть войска на другую сторону Днепра, чем отвлёк короля от нападения и снова восстановил прерванное сообщение.
Эта победа была едва ли не последнею во время злосчастной кампании. Да и тут торжество было омрачено.
Сандерсон и Матиссон, занимавшие центральную позицию, видя, что они со всех сторон окружены польскими войсками, и боясь быть совершенно отрезанными, снялись ночью и, бросив три пушки и множество ружей, осторожно удалились в лагерь Шеина.
Боярин всплеснул руками и зарычал как зверь:
– Что вы сделали со мною?
– Мы не могли держаться. Завтра же нас заперли бы и потом вырезали бы! – ответил Матиссон.
– Там мы были бесполезны, – прибавил его товарищ.
А на другое утро их лагерь был занят дивизией Бутлера. Поляки совершенно придвинулись к горе, и король свободно въехал в Смоленск. Между Прозоровским и Шеиным по левую сторону Днепра укрепились поляки. Русских соединяли только длинные цепи окопов, с южной стороны Смоленска окружившие город.
Теперь, имея у себя в тылу крепость, король решил сделать общее нападение на всю линию русских войск, задавшись целью выбить их из укреплений и прогнать за реку.
Страшный бой длился двое суток. Король в лёгкой карете ездил из конца в конец по линии своей армии, а Шеин и его помощники на конях устремлялись в самые опасные места.
Битва была ужасна по кровопролитию; но ещё не было и не будет войск, способных выбить русского солдата из окопа, а потому битва была бесплодна для поляков: они успели только сильнее укрепить позиции своих лагерей и отрезать Прозоровского.
Держаться долее в своём лагере для Прозоровского было безумием. Он снялся в тёмную дождливую ночь с двадцать девятого на тридцатое августа и кружным путём через окопы и укрепления соединился с Шеиным.
Наконец, четвёртого сентября Лесли, Шарлей и Гиль, занимавшие окопы и укрепления вдоль южных стен города, тоже пришли в общий лагерь.
Осада была снята, и наступили чёрные дни.
Поляки укреплялись в тылу Шеина, ставя его войско между собою и Смоленском. Положение для русских было невыгодное.
Шеин собрал всё войско в один корпус и сделал нападение на королевский стан. На время удача улыбнулась ему: он оттеснил поляков и занял Богородскую гору, – но через месяц должен был оставить её и, бросив часть запасов и артиллерию, занять другой пункт.
Это было в октябре. Шеин укрепился на правом берегу Днепра; но в то же время поляки, укрепив Богданову гору, заняли и Воробьёву.
– Смотри, что ты сделал! – гневно сказал Прозоровский Шеину, выводя его на вал и показывая окрест.
Все высоты вокруг русского стана – горы Воробьёва, Богданова, Богородская – были заняты поляками, и русский стан был под ними как на тарелке.
Шеин смутился.
– Я говорил, надо было на Воробьёву гору послать дивизию с пушками, – волнуясь, кричал Лесли.
– А на Богданову гору?
– Туда тоже!
– Теперь не время ссориться, – уныло сказал Шеин, – надо выбить ляхов с Воробьёвой горы!
На следующий день русские вышли из стана. Это было девятнадцатого октября. Рано утром, едва забрезжил рассвет, Измайлов двинулся с пехотой и артиллерией, сзади его подкреплял Прозоровский, а с флангов стали Лесли с Сандерсоном и Ляпунов с Даммом.
Но поляки уже были предупреждены об этом движении русских. Гористая местность скрывала овраги и ямы; пользуясь этим, поляки наделали засад.
Войско Измайлова ударило на ляхов, и завязался ожесточённый бой. Фланги начали обходить польское войско с боков, как вдруг на них с криком бросилась из засады пехота и разом смяла оба фланга. Произошла паника. Врезавшиеся в полки польская кавалерия не дала одуматься и погнала русских.
Этим несчастным делом, лишившим русских до трёх тысяч воинов, закончились на время битвы, но не действия русских.
Король Владислав послал кастеляна Песчинского взять Дорогобуж, где хранились жизненные припасы русской армии, и этот город был взят без особого усилия.
Русские были лишены припасов. Отрезанных от Днепра, их ждала голодная смерть, на которую раньше Шеин обрёк жителей Смоленска.
Роли переменились. В русском лагере наступил голод, в лагере поляков было изобилие всего, даже роскошь. Король привёл с собою огромный штат челядинцев, военачальники задавали у себя пиры, устраивали охоты; с утра до ночи оттуда неслись весёлые крики и песни, и евреи-шинкари работали на славу. А в русском лагере царили тишина и уныние. Призрак голода стоял пред всеми, и ко всему поляки закрыли русским всякий выход из лагеря и лишили их дров на зимнюю стужу.
Так прошли октябрь, ноябрь и декабрь.
Ужасно было положение Шеина и Измайлова, как его ближайшего помощника. В войске поднимался ропот, до их ушей уже донеслось роковое слово «изменник».
Шеин, оставаясь один, в отчаянии взывал к Богу:
– Господи, Ты видишь моё сердце! Я не изменник царю и родине, я не предатель! Пошли смерть мне на поле брани, но избавь от поношения! Сил нет моих!..
Его лицо похудело и осунулось, самоуверенный голос пропал и исчезла власть над другими начальниками.
В лагерь с голодом и холодом пришли болезни – тиф, цинга – и раздоры.
– Боярин, – сказал однажды Шеину Измайлов, – соберём хоть совет. Может, и решим что!
– Сзывай, ежели охота есть, Артемий Васильевич, – устало ответил Шеин, – всё равно зачернили нас насмерть с тобою. Не обелишься!..
Но Измайлов всё-таки созвал совет.
Военачальники стали сходиться к Шеину один за другим. Первым пришёл князь Прозоровский и дружески поздоровался с боярином Шеиным. Тот изумлённо взглянул на него. Князь понял его взгляд и ответил:
– Полно, Михаил Борисович, полно! Бодриться нужно, в повода всех взять, а не сплетни слушать.
– Так ты, князь, не… веришь… что я… – Голос Шеина дрогнул от волнения.
– Что ты! Господь с тобою. Я ли не знаю службы твоей, боярин! – ответил князь.
Шеин обнял его и припал к его плечу.
– Умереть охота! – сказал он.
В палатку вошли Измайлов, Ляпунов и Сухотин; следом за ними Лесли, Дамм, Гиль, Аверкиев, а там Шарлей с Матиссоном и Сандерсоном, и Измайлов открыл совет. Шеин сидел в углу молча, нахмурившись, бессильно опустив руку на поясной нож. Измайлов описал положение войска, тщету обороны и окончил:
– Так вот и решить теперь надобно, что далее делать: мира ли просить, пробиться ли, или умирать в этой засаде измором?..
– Ничего этого бы не было бы, если бы не Сандерсон, – угрюмо произнёс Лесли.
– А что я сделал такого? – запальчиво спросил Сандерсон.
– Снялся с лагеря. Твоя позиция была всему корень. Сдал её – и осаде конец! – вспыхнув, ответил Лесли.
– Теперь не время спорить! – остановил их Прозоровский, но они вскочили с лавки и кричали, не слушая увещаний.
– Я не мог один держаться! Ты там позади был. Водку пил! – кричал Сандерсон.
– Я водку пил, а с поляков отступного не брал!
– А я взял?
– Должно быть, что так!
– Я не вор! – заорал Сандерсон. – Я тебя за это! – И он бросился на Лесли с обнажённым кинжалом.
Лесли выхватил пистолет. Раздался выстрел. Палатка наполнилась дымом. Сандерсон корчился на полу в предсмертных муках.
– Вот тебе, собака! – чётко сказал Лесли и, сунув пистолет за пояс, медленно вышел из палатки.
Все повскакали с мест и бросились к Сандерсону. Он умирал и в предсмертной агонии рвал воротник кафтана.
Шеин в отчаянии схватился за голову и кричал:
– Убить Лесли! Повесить!
– Руки коротки! – грубо ответил ему Гиль, выходя из палатки вслед за Шарлеем.
Князь Прозоровский позвал стражу и велел вынести труп.
Оставшиеся грустно посмотрели друг на друга.
– Плохой совет! – произнёс наконец Измайлов.
– Я говорил тебе, – с горечью воскликнул Шеин, – я не начальник, меня не слушают, мне дерзят и при мне ссоры заводят.
– Что же будет теперь? – уныло проговорил Аверкиев. – Без начала нам всем умирать придётся.
– Всё в руках Божьих! – строго сказал князь Прозоровский.
Вести о неудачах под Смоленском доходили до Москвы и сильно волновали государей. А вскоре к этим неприятностям для царя Михаила прибавилось новое горе.
Однажды он сидел в своём деловом покое и беседовал с Шереметевым и своим тестем Стрешневым о войне и делах государственных, когда вдруг в палатку вошёл очередной ближний боярин и, поклонившись царю, сказал:
– С патриаршего двора боярин прибыл. Тебя, государь, видеть хочет!
– От батюшки? – произнёс Михаил. – Зови!
Толстый, жирный боярин Сухотин торопливо вошёл и, упав на колени, стукнул челом об пол.
– К тебе, государь! – заговорил он. – Его святейшеству патриарху занедужилось; за тобою он меня послал.
Михаил быстро встал, на лицах всех изобразилась тревога. Все знали твёрдый характер Филарета и его стойкость в болезни, а потому понимали, что если он посылает за сыном, то, значит, ему угрожает серьёзная опасность.
– Закажи колымагу мне, боярин, да спешно-спешно! – приказал Михаил. – А ты, Фёдор Иванович, – обратился он к Шереметеву, – возьми Дия да Бильса и спешно за мною!
Шереметев вышел. Спустя несколько минут Михаил Фёдорович ехал к патриарху, а ещё спустя немного стоял на коленях у кровати, на которой лежал его отец.
Лицо патриарха потемнело и осунулось, губы сжались и только глаза горели лихорадочным блеском.
– Батюшка, – со слезами воскликнул Михаил, припадая к его руке, – что говоришь ты! Что же со мною будет?
Филарет перевёл на него строгий взор, но при виде убитого горем сына этот взор смягчился.
– Не малодушествуй! – тихо сказал патриарх. – Царю непригоже. Говорю, близок конец мой, потому что чувствую это… А ты крепись! Будь бодр, правь крепко и властно!
– Не может быть того, батюшка! Дозволь врачам подойти к тебе. Пусть посмотрят.
– Что врачи? Господь зовёт к Себе раба Своего на покой. Им ли удержать Его волю?
– Дозволь, батюшка! – умоляюще повторил Михаил.
Филарет кивнул.
– Зови! – тихо сказал он.
Михаил быстро встал, подошёл к двери и сказал Шереметеву:
– Впусти их, Фёдор Иванович!
Дверь приоткрылась, и в горницу скользнули Дий и Бильс. Они переступили порог и тотчас упали на колени. Царь махнул рукою. Они поднялись, приблизились к постели и вторично упали пред Филаретом. Он слабо покачал головой.
– Идите ближе, – сказал он, – успокойте царя.
Врачи поднялись и осторожно приблизились к постели патриарха. Они по очереди держали его руки, слушая пульс, по очереди трогали голову и, ничего не понимая, только хмурились и трясли головами. Состояние медицины было в то время настолько жалко, что врачи не могли, в сущности, определить ни одной болезни. Но панацеи существовали и в то время в виде пиявок, банок и пускания крови, и к этому согласно прибегли и царские врачи.
– Полегчало, батюшка? – радостно спросил Михаил, когда к Филарету после этих средств, видимо, вернулись упавшие силы.
– Полегчало, – ответил он, – но чувствую, что болезнь эта последняя. Не крушись! – ласково прибавил он.
И, действительно, к вечеру с патриархом сделался бред, а в следующие дни он явно угасал.
Москва взволновалась. Народ толпился в церквах, где шли беспрерывные молебны, колокольный звон стоял в воздухе; всюду виднелись встревоженные, опечаленные лица. У патриаршего дома не убывала толпа народа. Одни приходили, другие уходили и тревожным шёпотом делились новостями.
Царь почти всё время проводил у патриарха. Он совершенно упал духом, его глаза покраснели и опухли от слёз; склонясь у одра болезни, он беспомощно твердил:
– Не покинь меня, батюшка!
Патриарх смотрел на него любящим, печальным взглядом, и глубокая скорбь омрачала его последние часы.
– Государь, – говорили царю бояре Шереметев, Стрешнев и князь Черкасский, – не падай духом. Страшные вести! поляки на Москву двинулись…
Михаил махал рукою.
– Не будет для Руси страшнее кончины моего батюшки!
– Что делать? Прикажи!
– Сами, сами!
Владислав действительно отрядил часть армии на Москву.
Ужас охватил жителей при этой вести. Вспомнились тяжёлые годы московского разорения и вторичного вторжения поляков в стольный город.
– Невозможно так! – решил Шереметев. – Князь! – обратился он к Черкасскому. – Надо дело делать! Есть у нас ещё ратные люди. Стрельцы есть, рейтары. Надо собрать и на ляхов двинуть!
– Кто пойдёт?
– Пошлём Пожарского! Я нынче же к нему с приказом князя Теряева пошлю. Пусть они оба и идут.
На другой день князь уже собирал рать, чтобы двинуться на поляков. Народ успокоился. Спустя неделю десять тысяч двинулись из Москвы под началом Теряева и Пожарского.
Они встретились с поляками под Можайском и были разбиты, но всё-таки удержали движение поляков.
Князь Черкасский, сжав кулаки, с угрозой подымал их в думе и говорил:
– Ну, боярин Шеин, зарезал ты сто тысяч русских. Будешь пред нами отчитываться.
И никто ему не перечил; только Теряев-князь, качая головою, сказал Шереметеву:
– Торопитесь осудить Шеина. Ведь о нём ещё и вестей нет!
– Я что же? – уклончиво ответил Шереметев. – Смотри: на него и дума, и народ!
Только патриарх, мирно отходя на покой, не ведал вовсе московской тревоги. В ночь на 1-е октября 1634 года он спешно приказал прибыть Михаилу с сыном Алексеем, которому было всего пять лет.
Михаил рыдая упал на пол, но патриарх, собрав последние силы, строго сказал:
– Подожди! Забудь, что ты мой сын, и помни, что царь есть! Слушай!
Царь тотчас поднялся. Его заплаканное лицо стало торжественно-серьёзным.
Филарет оставлял ему своё духовное завещание. Он говорил долго, под конец его голос стал слабеть. Он велел сыну приблизиться и отдал последние приказания:
– Умру, матери слушайся. Она всё же зла желать не будет, а во всём с Шереметевым советуйся и с князем Теряевым. Прямые души… Марфа Иосафа наречь захочет. Нареки! Правь твёрдо. В мелком уступи, не перечь, а в деле крепок будь. Подведи сына! Ему дядькой – Морозов! Помни! муж добрый! Возложи руку мою!
Царь подвёл младенца и положил руку своего отца на голову сына. Патриарх поднял лицо кверху и восторженно заговорил, но его слова нельзя было разобрать. Вдруг его рука соскользнула с головы внука. Ребёнок заплакал.
– Батюшка! – раздирающим душу голосом вскрикнул Михаил.
С колокольни патриаршей церкви раздался унылый звон, и скоро над Москвою загудели печальные колокола. Народ плакал и толпами стекался поклониться праху патриарха.
Боярин Шереметев прискакал в Вознесенский монастырь и торопливо вошёл в келью игуменьи.
Смиренную монахиню нельзя было узнать в царице Марфе. Она выпрямила стан и словно выросла. Её глаза блестели.
– А, Фёдор Иванович пожаловал? – сказала она. – С чем?
Шереметев земно поклонился ей.
– Государь прислал сказать тебе, что осиротел он. Патриарх преставился!
Марфа набожно перекрестилась, с трудом скрывая улыбку торжества на лице, и сказала:
– Уготовил Господь ему селения райские!
Шереметев поднялся с колен.
– Наказывал он что-либо царю? – спросила инокиня Марфа.
– Наедине были, государыня. Не слыхал!
– Кого за себя назначил?
– Не ведаю!
– Так! Слушай, Фёдор Иванович: буде царь тебя спросит, говори – Иосафа. Муж благочестивый и богоугодный!
– Слушаю, государыня!
– Ещё сейчас гонцов пошли: двух к Салтыковым, одного – к старице Евникии. Измучились они в опале.
– Слушаю, государыня!
– Грамоты готовь милостивые. Царь в утро руку приложит. А ты изготовь сейчас и ко мне перешли.
– Слушаю, государыня!







